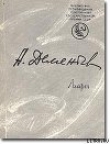Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
С чем их сравнить, кого рядом поставить? И снова вопросы одолевают меня, вопросы... Как-то зашел я в свою родную школу, а там восьмиклассники пишут сочинение на свободную тему: «Самый дорогой человек в селе». Кое-кто из ребятишек уже закончил этот тяжелый труд и вышел из класса. На учительском столе лежала ровненькая стопка тетрадей. Я открыл одну из них, тетрадку Алеши Решетникова, и начал читать: «Самый дорогой человек для меня – Дмитрий Федорович Ламанов. За его спиной – тяжелая война и ранения. Да и в мирное время он всегда был на виду. Утятский аптекарь – настоящий, большой человек. Такие люди – младшие братья Мересьева. Если бы я был писателем, я бы написал о Ламанове книгу и назвал бы ее «Подвиг».
Но откуда силы у таких людей, откуда?.. Ведь длинна была жизнь у Ламанова, и вся в заботах, тревогах. И почему жизнь эта не согнула его, не отчаяла? И где он нашел мужество, чтоб пуститься в большую дорогу? И вот уж дорога эта привела его в наше Утятское. Так и появился в Утятской аптеке новый заведующий.
Вскоре он обошел на своих костылях все окрестности. Взволновало обилие воды и леса, и река была совсем чистая, потому что текла по песку. В жаркий день он любил присесть на какой-нибудь песчаный пригорок, воткнуть костыли в песочек и лечь на спину. Над головой текло небо, рядом в бору возились грачи. Раньше ему казалось, что эти птицы вьют гнезда только на березах, а в этих краях птицы лепились на самые высокие сосны, и гнезда у них получались толстые, широкие, как мохнатые шапки. Ему казалось, что нет краше на свете Киргизии, а вот приехал в чужие места и прижился. И вроде бы никаких событий с ним здесь не случилось еще, а все равно в душе была радость. Странно. Откуда она? Вот и еще прошел один день на новом месте, а ничего в жизни не произошло. Какие-то обычные, но все равно хорошие дни. Когда я уже дружил с ним, он мне однажды признался:
– А знаешь, со мной здесь ничего не происходит. Работаю, и только. Вот интересно, как ты провел свой вчерашний день? Ну, что произошло с тобой?
Вопрос был такой странный, что я опешил. Он и раньше любил удивлять меня, но сейчас. Что же ответить? Стал мучительно вспоминать о том, что было со мной вчера. Утром сходил за водой в колодец, выстругал удилища, поплавал в реке, накормил хлебом чужую голодную собаку. Ну вот и все. А вечером? А вечером изменилась погода: после дождя, после сырости пришло солнце, очень теплое солнце, и захотелось снова идти к реке – и я сходил к реке. Захотелось пройтись по улице – и я прошелся по улице. Захотелось выпить вина или пива... Но где же это найдешь в летней деревне? Потому и не выпил, но все равно было на душе хорошо. А ночью мне снилась та собака, которую я накормил куском черствого хлеба; я шел с ней с рыбалки или на рыбалку, в руках у меня были удочки, а над головой какое-то большое красное солнце. И пробужденье было тоже неожиданным и счастливым. И я подумал, что сорок лет – это еще очень мало, даже слишком мало. Можно еще многое в жизни сделать, можно даже совершить геройство или сделать какое-то исключительное дело и прославить на многие-многие годы звание человека. И все утро я был в таком радостном состоянии. Вот и все. Все эти события я рассказал ему примерно в таком же порядке, но он усмехнулся:
– Так ты же в отпуске. А я на работе. На работе должно что-то случиться...
Но он был неправ. Люди быстро распознали в новом аптекаре умного, доброго человека, потому постоянно заходили то с рецептом, то просто так – за советом. И вот уже никто не может представить наше село без Ламанова. Здесь он и отметил свой первый трудовой юбилей – двадцать лет работы в аптеке.
...И опять пришло лето. И опять рано поутру или поближе к вечерней зорьке спускается к реке знакомая фигурка. Под костылем – удочка. Он выбирает заветное, насиженное место, и в воду со свистом летит леска. И глубоко дышит грудь: единственному легкому у воды легче.
А завтра – опять работа. Аптека в Утятском – образцовая. «Увезли больницу, так дал бог аптекаря. Живи да выздоравливай, батюшка ты наш», – говорят ему прямо в лицо утятские старички. И от такого пожелания Ламанов опускает глаза. А потом грустно смотрит на своих посетителей.
– Нет уж, мне не выздороветь. Вас вылечу, а сам... Да уж что, на пьяном шапку не поправишь.
– А мы не дадим тебе хворать. Живи, живи, сто лет для тебя не жалко. Примем к себе почетным колхозником. Не откажешься?
– Не откажусь... – А сам задумчиво щурится.
А я думаю о странностях жизни. Вот ведь как случилось, если б не отняли в госпитале ногу, если б не сжалось у него легкое, никогда бы не видать нам этого человека. И что-то бы не хватало сейчас у моего родного села. Один человек, а как это много! Один человек, а какое на всех идет от него спокойствие! Какое яркое идет от него солнце! И светит, и лечит, и согревает.
IVМой очерк уже подходит к концу, и вот теперь я позволю себе отвлечься. За свою долгую жизнь, а мне уже скоро пятьдесят, я видел много знаменитых людей, а еще больше – настоящих мастеров труда. Я наблюдал за ними, учился... Но даже самые настоящие из них работали чаще всего спокойно, ритмично. Пришел к девяти утра, а ушел в шесть. И так ежедневно. Для них труд – все-таки обязанность, тяжесть, и от этой тяжести бывает усталость. И только для немногих такой усталости как бы не существует. Для них труд – вечная радость. И еще какая-то веселая, счастливая одержимость, которая бывает только у сильного человека. И пусть ему не двадцать лет и даже не тридцать, а уже шестьдесят и чуть больше, но все равно работа для него – и радость, и норма жизни. А как же возраст, пенсионная книжка? Но это все-таки опять не про них. Вот и Дмитрий Федорович теперь на заслуженном отдыхе, но отдыхать он не любит, а точнее – не может. И он работает теперь среди молодежи, как ветеран, как наставник. И ему верят, ему подражают.
Вот и пришла пора мне ставить последнюю точку, а я так на вопросы и не ответил: откуда силы у таких людей, откуда? А может быть, у этих вопросов совсем нет ответов? Наверное, эти люди просто не могли жить иначе. Просто такая жизнь для них была как бы запрограммирована с рождения. Так же, как течение у рек, как синева у неба, зеленый цвет у растений... Да и разве замечает человек, как он дышит? Разве знает птица, какая сила поднимает ее на крыльях? Да, это так! И других ответов не знаю.
1971, 1986
Добрая земля
IО ней бы песню сложить да подарить нашим парням, девчатам. Пойте, мол, величайте Нину Павловну Соколову. Для вас она – мать родная, наставница.
Такой человек – награда...
Из разговора с М. Г. Половниковым, старейшим жителем села Прорыв
Часто видишь – течет река, полны берега ее и течение спокойное, ровное, как дыхание. Но поднимает это дыхание плоты и баржи, тяжелые пароходы. А сама река в спокойствии своем похожа на мать, слышна в ней дальняя неторопливая сила. Она и зовет, притягивает человека. И возле этой реки замирают все тревоги, заботы, и опять ты счастлив, уверен... А река катится, спешит к океану.
Да, похожа река на мать, только настоящая мать еще мудрее и сильнее.
– Где дети наши, там и сердце наше. А если девять их, девять сердешных... Оно и рвется, родимое, на девять сторон, – говорит задумчиво Нина Павловна Соколова.
Смотрю в глаза ее, там – твердый уверенный свет. Смотрю на руки и не оторваться от рук. Они тоже сильные, спокойные, покрыты вечным загаром.
Откуда силы у этой женщины, откуда? Этот вопрос стоит в голове и мучит. И я пробую забыть его, пробую заговорить о чем-то постороннем, веселом, но сразу сбиваюсь. Опять смотрю на нее, слушаю, запоминаю... Откуда силы у этой реки, что несут ее к океану? Какое нужно упорство, чтоб осилить дорогу, прорваться через все малые и большие запруды, одолеть все подъемы и перекаты, напоить водой все прибрежные города и села, а потом напрячь последние силы и выйти как ни в чем не бывало к родному батюшке-океану. Откуда такие силы?..
А голос у нее тихий, пологий. Это тоже смущает. Раньше почему-то казалось, что у всех героев, знаменитых людей голоса должны быть широкие, горловые. Их хорошо слушать на улице, в зале, а у Нины Павловны голосок усыпляющий, материнский. Под него хорошо думать и вспоминать. Что-то милое, грустное поднимает он и несет, что-то самое дорогое. Но меня все мучает и томит вопрос: откуда сила ее, откуда? Кто заставил ее, знатную трактористку, чемпионку Зауралья среди комбайнерок, у которой и на пашне-то дел с зари до зари, принять и вырастить девять чужих детей? Только подумайте – девять их, да сначала – чужих, неродных.
– Это сперва чужие. А помоешь дитенка, обрядишь да за стол проведешь – ну и все, ну и пропала твоя головушка. Чего хотела, то получила – твоя кровь, твое тело. У кого их нет, у того и горя нет. А нашему брату зачем без горя, тогда и радости не заметишь.
... Зачем без горя. А ведь когда-то, лет пятнадцать назад, Нина Павловна жила вдвоем со своей старенькой матерью. Хорошее было время. Может, и расскажем пока о нем – об этом хорошем времени, потому что там – все корни, все семена. И без корней этих не было бы теперь дерева, этой густой, пышной кроны, которая всем видна. И не сохнет и не вянет, точно окропили живой водой.
IIКогда Нину наградили орденом Ленина – я все не верила. Неужели, решаю, такая слава, почет. Только на другой день и поверила. Все бы ладно, да стала реветь. Это же, решаю, и меня наградили. Я ведь ее родила да воспитала. И вот в слезы да в слезы. От радости и реву...
Из разговора с Евдокией Емельяновной, матерью Н. П. Соколовой
Домик стоял на берегу озера. За домом – сад, а дальше – сосновый бор. А сверху – вечное небо, вечная тишина. Особенно тихо, просторно весной. И ни с чем не сравнить этот месяц май. Ожила сосна, распустилась вся – хорошо, глазам весело, много ли надо глазам. А потом поднялось и вздохнуло озеро, залила полая вода огороды – и опять душа напряглась в ожидании, точно птица, услышав трубный крик в вышине. А ждешь всегда радость, горе не ждешь. И вот пришла радость – загудели моторы, отправились сеялки в свой первый поход. А к ночи усталая, веселая Нина приезжала домой. И хотелось, чтоб быстрей пролетела ночь, чтобы утром снова туда, к теплым полям. Ходила мать осторожно, на цыпочках, дышала слабенько в кулачок. Пусть поспит доченька, утомилась. А та и не спала вовсе – в молодости кто спит по ночам?.. А ведь недавно, совсем недавно, была война. Но не хотелось ни вспоминать, ни думать. И те годы, невыносимые годы, казалось, были не с ней, а с кем-то другой, и только под утро, когда просыпались первые птицы, – она засыпала. И часто снился тревожный сон. Будто едет на тракторе, утро чистое, блестит утро, блестит пахота под солнышком, по ней грачи ходят, много их, тысячи птиц. И только трактор увидели, поднялись грачи, зашумели и полетели на нее – и прямо бьют, стучат клювами – и просыпалась испуганно, и подзывала мать. Та утешала ее, уговаривала: «Хорошо это, Нина, – птица грачиная. К известию, к свадьбе, к веселой семье». Она верила и не верила, хоть и осуждала сны и гадания, а все равно нервы натянуты – к чему это столько птиц. Но в поле опять успокаивалась, и вспоминалось только хорошее. И все это: весеннее поле, и веселая мужская работа на тракторе, и круглый уютный домик с цветущими яблонями, и озеро, и тишина над озером, и мать со своими словами, заботами – и составляли радость ее, удовольствие, и еще больше хотелось жить. И все это дышало и радовалось в березовой тишине, среди родных привычных полей, среди близкой родной работы, которая принесла уже первую славу и людское признание.
– И мама была здорова еще. И домик был такой аккуратненький, составной. Курочки тоже были и уточки сизоперы и еще то-друго по ограде – в войну наголодались дак. В огороде тоже росло. Поливали, так-то не вырастет. И работа сильно затягивала. Меня уж звали на все собрания, на трибуну, в президиум. Я уже к девушкам области обращалась: девчата, идите на трактор, не бойтеся. Ничего нету страшного – у машины така же душа. И на комбайн девчат сватала, про меня уж газеты печатали.
Уже молодых учила, а сама-то ровесница... И вот покачнулось, зашаталося мое дерево – приняла я девять чужих детей, девять сирот. Вместе с ними приняла отца ихнего Анания Николаевича Соколова, фронтовика больного, израненного. Пожалела доброго человека, сирот. Схоронил он жену так печально, внезапно, а на руках-то девять их. Хоть реви да хватайся за голову. Кто вынесет? И не вынес – живо свернуло: ни дыханья, ни памяти, боли в голове, в пояснице, вроде стал заговариваться. В больнице даже врачи заплакали – вот какого доставили. Ну что, ничего. Подошел к самому краю да краюшку, вот-вот оборвется, да я погодилася. В тот же час приняла сирот. А думаете, легко?
– Не думаю.
– Да я так, про себя. Дети ведь, не баран чихал. А самой малой всего три годика. Олюшка называлася. А как да, размышляю, они мамой не назовут?
– А как с работой?
Она рассеянно подняла глаза. И вдруг чувствую, что спросил не вовремя. Просто хотелось мне нашу беседу выровнять, вначале, мол, о работе, а уж потом – о семье. Вот и сейчас хочется – не увлечься ее семейным подвигом, а рассказать бы побольше о труде, об учениках ее. Не знаю – выйдет ли. Тогда вот не вышло, да и показалось мне, что семейное у нее целиком слилось с трудовым. Но вернемся к тем нашим часам.
– Ты хорошо спросил, как с работой. Она, работушка, не любит ждать. Выходных тогда не давали. Да и что тут такого – девять сирот приняла. Да еще в больницу все время бегала – надо было десятого выходить. Больной-то – чем не дите, – она отворачивается к окну. Плечи слабеют и опускаются.
Я не смотрю на нее, и стыдно себя, и вопросов, и любопытства, стыдно блокнота и ручки – она вот плачет, а я записываю и все хочу что-то услышать и выведать самое последнее, тайное, о чем и сказать-то трудно словами, можно только подумать. Но все равно решаюсь на главный вопрос:
– Значит, полюбили Анания Николаевича?
Она молчит. Через минуту поворачивается ко мне медленно, словно бы нехотя. Глаза прищурились, изучают.
– Выходит, что полюбила...
– А дети как?
– А дети что, только стоит желания... Особенно помнится первый час. Зашла в магазин, каждому по кулечку конфет завернула и вот понесла, пригибаюсь на улице – такой груз на душе, такой страх. Нет, не могу, давай отдохнем...
Сидим молча. Слышно, как от ветра позванивает стеколко. Звук этот лишний и давит на грудь. Это нервы, конечно, потому что трудно дышать. Я вижу, как ей тяжело. Мне тоже не легче – ее жалею, себя ругаю. Надо бы полегче расспрашивать, надо бы... Но она опять говорит:
– Они уж ждали новую маму. И вот я зашла, запыхалася, вся кровь в лицо бросилась, как будто голеньку вывели на народ...
– А кулечки где?
– Куда-то бросила, не до кулечков. Стою, с ноги на ногу... И вдруг Оленька ко мне кинулась да за шею сдавила в обхват: «Мама, мамка приехала!..» То ли все перепутала, то ли спросонья. У трехлетнего-то немного ума. С этой Оленьки и пошло. Вот кому я сперва угодила, вот кто мамой назвал. Умру, не забуду эти дела...
А я мечтаю представить себе ту трехлетнюю Оленьку. Как побежала, как руки раскрылись, как крикнула грудным обрывистым голосом – «Мамка приехала!..» Как это вынести, не согнуться душе!
– Потом Ананий Николаевич выписался. Больница печатей наставила – еле живой. «Ну что, говорит, девять моих приняла, принимай и десятого». А сам говорит, не смеется. Какой уж тут смех. Вот оно, дело-то, – вы такую любовь видали, чтобы женщина да молоденька пошла за человека с девятью дитями?.. Пошла – и не каюсь. Думаю, горе теперь да заботы, а ничего – выплыву, выдюжу, зато дальше – простор, хорошо...
– Значит, верили в себя?
– В меня тоже поверили. Меня в партию приняли. Только сказать легко – в партию! Сразу силы прибавилось, уважения. Мама тоже не бросила. Я с мужем на пашне, на пашне все, целиком, а мама с дитями. Оленьке-то сперва три было, а Клаве четыре, ну а другим – побольше. Но тоже не велики чурочки, всех надо вырастить. Вот и стали жить-поживать. Вот и тронулись наши воды, вперед потекли.
...Но все-таки откуда они, эти силы, откуда? Сколько нужно их, чтобы донести реку к океану?! Да что гадать, надо пройти до истока. Там, конечно, есть родники, в них-то и сила...
IIIЕхали мы через Волгу. Волнуюсь, радио слушаю, все у окна дежурю. Такая река – мечтал с детства... И вдруг радио – про тебя! Неужели Москва, думаю, неужели про маму? Так и вышло, что про тебя, про Нину Павловну Соколову, знатную комбайнерку. Закричал, ребята сбежались. Ну, конечно, поздравили...
Из письма солдата Сергея Соколова
Про родники в голове запало. С этим и в город уехал, позвали срочные дела и заботы. Как они мешают всегда – эти дела, как отвлекают. Но куда бы ни ходил, куда бы ни ехал – все стояла в глазах эта женщина. Не договорили тогда, потому тяжело. Потому и поехал обратно. Как-то встретят, чем обнесут? Хотелось самой прямой откровенности, чтобы все было в словах, ничего не утаено. Хотелось самых тайных, святых минут. Ведь было же тогда, было! Теперь ждалось одного – повторения. И вот оно началось...
Началось с дороги, с лесов. Дорога стояла июньская, теплая. Леса тоже были зеленые, теплые, и небо поднималось высокое, светлое, кружились там стаи птиц. И все это – дорога, березы и птицы в высоком небе настраивали душу на что-то хорошее, милое – только быстрей бы.
Но Нину Павловну не застал. Отправил колхоз в санаторий, лечить ноги, простуду. Зато санаторий недалеко – всего семь километров. Приняла меня мать ее – Евдокия Емельяновна.
– С дороги отдохни, посиди, а потом – в санаторий. Машины ходят, там и застанешь...
И я подчинился. Она стул пододвинула, сама заставила внучек – Оленьку с Клавой – на стол собирать. И вот сидим за столом, успокоились, только позвякивает посуда. Но что-то долго затянулось молчание. Поднял глаза, а наша хозяйка забыла о еде, уставилась в створочку. Смотрю – чего там увидела, что приковало. Евдокия Емельяновна смотрит на голубя. Он ходил по траве, недалеко от завалины. Когда-то был сизый, наверно, а теперь серенький, грустный, ободранный. Может, от старости, а может – болезнь. В зрачках – печаль, какая-то просьба.
– Да-а, видно, старость – не радость. Вон перо-то все вылиняло. И вот я, да что я... Износилися – не спросилися. Но ничего – есть продолжение.
– Какое?
– Внуки да внученьки. Уже большие, судьбу выбирают... Эх, жизнь, ты жизнь, игра ты картежная. Кому что выпадет?
– Вам что выпало?
– Хорошо, одни козыри. Такая дочь у меня – на всю страну комбайнерка.
– Гордитесь?
– И ты бы гордился. Только заботы прибавилось.
– Какой заботы?..
– А пожить не дают спокойно. На все заседания, собранья... Зимой вон в Курган съездила и заболела...
– Отчего?
– От переживанья, от радости. Болеют тоже от радости... Сколько наград навезла, наказов. Говорить-то нынче умеют. Это мы ково – полено березово. Рано родилися – не поучилися...
А я вспомнил то торжественное собрание. В областном театре открылся слет передовиков сельского хозяйства области. Нину Павловну избрали в президиум. А потом с трибуны часто называли ее фамилию. Много хорошего услышала Нина Павловна. Ее удостоили почетного звания «Лучшая женщина-механизатор Курганской области». Ей вручили памятный приз имени знатной трактористки области А. М. Демешкиной. И когда награждали, весь зал, огромный зал, в едином порыве поднялся на ноги. А она улыбалась, щурилась от света, а может, уж слезы подступали, теснили глаза. Слезы в эти минуты уж больно скорые.
А домой вернулась – встречал весь колхоз. Немудрено заболеть от такой радости, переживания.
– Погляди-ко, ведь полетел! Полетел наш голубок. Видно, есть еще там силенка... Поди, и мы поживем...
– Поживете, конечно... – и еще что-то говорю хорошее, утешительное, потому что жалею Евдокию Емельяновну. Жалею давно. Я знаю, что она плохо видит. Случилось это еще в самой далекой молодости. С тех пор бережет глаза. Далеко не ездит, не поднимает тяжелое. Вот и сидит под окошком смирная, всем привычная. Очки на веревочке, чтоб не потерять, не забыть. Если кто остановится у окна, заговорит с ней, она взглянет на того благодарно, по-детски, но ничего не ответит. Год назад почти совсем потеряла слух. Я сам стараюсь говорить с ней очень громким напористым голосом, иначе не поймет и расстроится. Но сегодня – спокойное настроение. А когда хорошо ей – вспоминается прошлое. У старости одно: или наказы, советы, или воспоминания. Вот и сейчас заходит издалека.
– Я не близко родилась, в Кустанайской области, в Прорыв нас голодный год загнал.
Я наливаю чаю покрепче, поудобней усаживаюсь, слушать – так слушать. Ей нравится это приготовление – посветлели глаза.
– Ну вот, едем на коровушке, едем. Со мной две дочери – Нина да Шура, маленьки, а кормить-то их чем, нечем просто. Вот доехали до Прорыва, смотрим – рожь большая, высокая. Возле хлеба и спешились, думаем, место хлебное – не замрем. И не замерли. Правда, сперва без квартиры лето в амбаре пожили, а под осень – нехорошо. Пришел холод, мороз. А в декабре, решаю, нас совсем покроет снежком. Решаю, да не сдаюся. Я в школу пошла сторожихой. При школе и ожили. А колхоз начался – в колхоз зашли, дочерям приговариваю – за колхоз держитеся, из-за него и спасемся, а что бедно сегодня – то временно. Завтра будет богато. А девчонки мои всегда слушались. Каки годы были, тяжелы годы, а чтобы чужо взять или в колхозе без спроса – нет, нет и нет. И к земле приучила. Нам нельзя без земли... Кто сказал, что земля – работа? А дети – разве работа? Эх, дети, дети... Я ведь тогда посоветовала Нине принять сироток. Будут дети, говорю, будет покой. А где покой – там и жизнь.
– Да какой покой? Девять их... – смотрю на нее удивленно. Она про очки забыла. Они скатились вниз, куда-то под шею, болтаются на веревочке. Смешно, грустно и жаль ее. Да что жалеть старость, она нас мудрей. И опять ловлю свою мысль, продолжаю:
– Девять их! Одного кто возьмет, мы и то!..
– Что и то? Хвалите да в газетах пишите... – она сердится, раскрылись глаза.
– А за что? За то, что сердце имеет. Нынче без сердца-то реденький. Вон Нина моя – мать по судьбе...
И в эти минуты да и много спустя Евдокия Емельяновна не обмолвится словом, что дочь ее награждена многими наградами и Почетными грамотами, что среди них есть грамоты Президиума ВЦСПС и обкома партии и почетный знак «Герой жатвы». Все это знает, конечно, мать, но только обходит словами. А почему? Наверно, по старой крестьянской привычке смотреть на труд, как на простую обязанность, которая дана нам на радость.
– Нынче легко работать. Какая техника и внимание. Вот раньше...
– А как раньше?
– Без колхоза-то было голодно. Да мы же беженцы, я рассказывала... В перву зиму бычка закололи – свое мясо, похлебка. Бычка вели за телегой, когда искали доброй земли. А теперь лучше нету Прорыва, нет и нет!
– Привыкли?
– Будто тут и родилась.
– А что с вашей деревней?
– С Филинкой-то? Возле Кустаная стояла, а теперь не стоит. Год назад туда ездили – так все земли распаханы. И растет там пшеничка. Хорошо. От пшенички тоже дух человеческий. Думаю, что и душа у ней есть, дыхание.
– У пшеницы-то?
– У нее, у нее! Вон дочь моя Нина, комбайнерка дорогая наша, тоже вам подтвердит. Я, говорит, слышу, как она дышит, как сердится...
Значит, душа, значит, дыхание!.. Не с этого ли дыхания и поднялись те силы, что несут большую реку к океану. Не с этого ли?! И опять смотрю, вглядываюсь в лицо старой женщины, хочу ответить на свой вопрос. Да разве легко...
На улице тишина. Теплый воздух забредает к нам в комнату. Вот в июле будет жара пострашней. И дышать станет нечем. Даже скот зайдет в воду, и хоть зови теперь, хоть кнутом бей, надсажайся, все равно из воды не выманишь. Может и хлеба попортить этот тяжелый зной. А теперь июнь месяц и очень-очень нужно тепло. Недавно прошли дожди, поля ожили, и сейчас, не будь тепла, надо бы его все равно выдумать, за любые деньги купить, заказать... А мы устали сидеть. Уже второй самовар распечатали, и давно убежали соседи в колхозную мастерскую за Ананием Николаевичем, а его нет и нет. Но хозяйка не дает поскучать.
– Вот вы ездите, много знаете. А зачем в каждой газете пишете, сколько денег на ферме дают, в бригаде. Понимаю, большие деньги теперь нашему брату, колхознику. Ну а в школах зачем приманиваете?
– В каких школах?
– Внучки говорят – надоело уже.
– Что надоело?
– На каждом уроке внушают им – оставайтесь в колхозе, не уезжайте. Доярки, мол, теперь по сто восемьдесят – ежемесячно, а в полеводстве – того побольше... Я понимаю, надо сказать, что хорошо зажили, но только про деньги...
– Не нужно?
– Я бы не потакнула. Что деньги? В них – одна половина, закраина, а другая – в душе. С душой и говорить надо, воспитывать.
– А как говорить?
– А скажите, что хлебец – наш батюшко, а земля – наша матушка. Надо с первого класса стихи о хлебе разучивать, надо и песни петь, если подходны в момент...
– Значит, хлеб и земля – родители?
– Родители наши, конечно, родители! А их разве можно бросать? Не можно никак. Потому цена хлебу – не денежна. И работа эта потомственна. Отец в колхозе – значит, и сын в колхозе. А как?
– Не выходит так...
– Наша вина. Почему раньше с пеленок приучали к коню. Лошадь – опора, ведет все хозяйство. А теперь трактора ведут. Вот и надо допускать ребятишек к трактору!
– Опасно ведь, маленькие...
– У лошади тоже копыта, а когда под присмотром... Вон Нина моя с двенадцати лет у машины. И всему научилась, все поняла. И детки не помешали. Раньше я ей добро помогала. И кухня на мне, и стирка, мытье. А теперь вот не вижу, не слышу – так худо, боязно. Пора списать, как старый комбайн...
– Куда это собралась наша мамаша? – в комнату вошел большой грузный мужчина. Его давит одышка, он долго ловит свое дыхание, на лице утомление.
– Я не помешал? Прибежали за мной, торопят. Я уж думаю, с Ниной что, здоровье-то наше с дырками. А идти далеко, задохнулся...