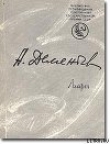Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
– Если бы не было того вечера! Если бы!.. Помню, дождик начался, а я был в тоненьком сером плащике и сразу замерз, зуб с зубом не сходится. Зашел к ним во двор и еще больше замерз. То ли от собачьего лая – в конуре овчарка сидела, то ли нервы взыграли. Домик у них был низенький, глиняный, не дом – развалюха, в такие теперь не селятся. И только на крыльцо ступил, так и вовсе мороз по коже: из дверей вырвался крик, да такой нестерпимый, великий. Никогда не думал, что человек так может кричать. Так только звери кричат, когда гибель услышат. Так только с белым светом прощаются. Но я все равно вошел. Вначале в сени попал. Здесь крик – совсем невтерпеж. Потом в этот крик какой-то ребенок ворвался, а этого уж вовсе не вынести. Девочка кого-то упрашивала, но слов было не понять. Я открыл дверь и встал у порога. У стола сидели двое, старшая обхватила девочкину головку и причитала. В младшей сразу узнал я Дыньку свою, а в старшей – библиотекаршу Ольгу Седяеву. Лицо у матери было в крови, и она кровь эту рукавом развозила, но вдруг заметила меня и заохала:
– Ох, что ж мы, доча, наделали. Подрались с папкой и не умылись. – Она кинулась в кухню мимо меня. Занавески на окнах затрепыхались от воздуха. А я с Дынькой – вдвоем. Она глядит, как галчонок, и потихоньку плачет, постанывает... Ты хоть понимаешь меня? Понимаешь? – Женя взглянул на меня, как на врага и почему-то задергал плечами.
– Ты ж больной! Обратись к врачу! – Я смеюсь, а он мечет взгляды и вдруг достает из кармана очки. Дужки у них золотые, красивые. В очках он почти профессор, и это злит меня, обижает. – Ты зачем меня вызывал за сто километров? Может, командировку оплатишь?.. Молчишь?
Но он точно ничего не видит, не слышит, и опять говорит, говорит:
– Значит, плачет Дынька, постанывает. А я только пошевелюсь, только сделаю шаг, – она сразу на меня, как косуля на ружейное дуло. Наконец, не сдержал себя.
– Почему, – говорю, – пропускаешь? Класс наш позоришь и меня как учителя.
А она вдруг улыбнулась:
– Здравствуйте, Евгений Иванович!
– Здравствуй-то здравствуй, только почему уроки пропускаешь? – И тут мать ее показалась.
– Уходите, учитель по-доброму. Видите, в крови я. Рыбу чистила да порезалась.
– На лице, что ли, чистила? – Не вытерпел я, засмеялся.
– Хоть бы и так! Хоть бы и на лице?! А ты зачем к нам пожаловал? – Это мужской голос вмешался. Я вздрогнул, потому что сначала его не заметил. Он сидел сбоку, под зеркалом, а я туда не смотрел.
– Я пожаловал к вам по делу. У вас есть ученица... – Говорю спокойно, а самого уже разжигает.
– Это верно, ученица есть... – Лицо у него было кисельное, синее, будто перепил накануне или не выспался. Жена по сравнению с ним выглядела просто красавицей. Особенно, выделялись фигура и голубые глаза. Вся она была высокая, узкая, и маленькая головка гордо посажена, как у лесной белочки. Глаза налились печалью, а цветом – как полевой василек. Мужчина опять заговорил, а в словах такая злость, что ее бы хватило, чтоб спалить весь домик дотла. – Зачем без спроса зашел? Я звал тебя? Может, она? – И он бросил взгляд на жену. – Не звала? Тогда отваливай, молодой, интересный. А то дрын достану... – И опять он кричал и ругался. И это было так грубо, жестоко, так ново для меня, что я даже не сразу рассердился, вначале просто недоумевал. Несколько раз пытался его перебить:
– Ваша дочь пропускает уроки...
– А ты нам не указывай. Вот будут свои – тогда и командуй...
– Но я же учитель. И вам нужно заняться дочерью.
– Нужно, нужно. А тебе нужно двери закрыть с другой стороны!
– Вы – хам, хулиган! Вы надо мной издеваетесь. – И помню, что почти захлебнулся от злости к нему, от презрения. Но он и слушать не стал.
– Ты запомни: зовут меня Михаил Николаевич. В другой раз, как заходишь, так в двери постучи – здесь живет Михаил Николаевич? – И он захохотал во все горло. И пока он кричал на меня, жена его сидела в одной позе, у занавески.
Так я и ушел ни с чем. Помню только – Дынька смотрела на меня, как на нищего, и глазами меня жалела, и всем существом своим, и все в ней кричало от жалости, сострадания.
А на улице уже был настоящий осенний дождь. Как тяжелы такие дожди и печальны! И под ногами хлюпает у тебя и под сердцем тоже что-то отрывается, хлюпает, и уже представляешь, что ты самый несчастный, самый горький на свете. И уж кажется, что нет хуже твоей работы и даже самая страшная тюрьма все ж лучше твоей судьбины. И еле-еле дошел я тогда до Шелеповой. Толкнул дверь, а она закрыта. С большим трудом достучался – старуха-то была глуховата. И пока стучал в дверь, пока она возилась с засовом, я уж совсем вымок и просто обезумел от обиды, от горя и думал о том, что где-то сидят сейчас люди в белых чистых квартирах, а я стою под самым потоком и мокну, как лошадь. И не слыша ног от усталости, пробрался в свою комнатку и упал на кровать. Только стал засыпать, как слышу – кто-то ударил. Как будто камешек бросили, потом опять бросили. Подошел к окну – тихий голос через стекло:
– Открой, учитель! Не бойся... – Потом пропал голос, будто растаял в дожде. Я затаил дыхание и стал выжидать. А сам дрожу, как от холода. А может, уж от страха дрожу? Кто это? Кому я понадобился? Ведь середина ночи и такой дождь обложной. – Откройте, Евгений Иванович! Хоть на минутку, – потом уйду... – Это уж меня по имени-отчеству. Почему-то имя-отчество успокоило. Я набросил плащ и пошел на крыльцо. – Это – я, я! Седяева... Вы не бойтесь, я просто так... – Но в голосе у самой столько страха и унижения, что мне стало не по себе.
Я провел ее в свою комнатку, а хозяйка моя все лежит и похрапывает. Как хорошо порой спится под дождь. Моя гостья плотно закрыла дверь и щелкнула выключателем. Свет был лишним, он больно давил на глаза. Но я был в каком-то оцепенении.
– Ну, теперь узнаете? Мать я Нины Седяевой. Боже мой!.. Вы только что были у нас, ведь только что... – Она сбилась, опустила глаза. Потом заговорила низким сдавленным голосом. – Нехорошо вышло с мужем-то. Вы простите нас, а то еще начнете мстить моей Ниночке... – Она опять сбилась, а я молчал, как будто все это происходило во сне. И я злюсь на себя, но нет пробуждения, а она опять говорит: – Дочка плачет, и сама я расстроилась. Вы простите уж, я не знаю как. Я не знаю... – А с платья у нее стекала дождевая вода, и волосы тоже мокрые, и по щекам бегут капли. Она хотела причесать и поправить волосы, но почему-то смутилась и передернулась. Как будто это ее унижало, пугало, как будто она была виновата в этом дожде. Я видел, что она уже посинела от холода, но у меня не было даже чаю, да и в комнате – мозглота. Вот так, дорогой, ситуация – ночь, дождь кругом и незнакомая женщина... – Женя хмыкнул и сломал в ладонях тополиную веточку. А зной все сильней, все сильней. И в воздухе уже стояла тяжелая глухая тревожность, какая бывает часто перед грозой. Чаечка уже улетела куда-то. Наверно, надоело ей смотреть на двух дураков.
– Женя?
– Чего?
– Зачем ты вызвал меня? И зачем ты все громоздишь? Какая-то женщина, Дынька, какой-то дождь...
– Должен же я рассказать...
– Вот жене и поведай своей.
– А ты злой, Коршунов! – Он назвал меня по фамилии и как-то отрывисто посмотрел. А в глазах неуверенность. И это совсем расстроило меня. Что-то в нем теперь мне не нравилось, а что именно, я понять не мог. Может, сама исповедь надоела. Да и не привыкли нынче мы к таким откровениям. И все некогда, и жаль нам времени, и не хочется отвлекаться на рассуждения. А со мной – даже хуже того. Не люблю длинных и внезапных признаний, все кажется, чудится: лгут в них люди, не договаривают. А лгут потому, что грешны были и виноваты, а сейчас надо заделать все трещины, чтобы потом еще больше грешить. Но то люди, а этот – ребенок. Какие уж у нашего Евгения женщины и ночные стуки в окно. Слишком чистый он и святой. И свежий весь, как алма-атинский апорт. И даже сердиться-то он не умеет. Только топорщит губы, как большое дитя. И я смотрю на его губы и улыбаюсь.
– Ну что замолчал? Как там гостья-то? – Женя сразу встрепенулся и засмотрел благодарно. А я опять ему: – Ты прости, что обидел...
– А ты не обидел. – Он дотронулся до моего плеча. Была у него такая манера – протягивать вперед ладонь и дотрагиваться до плеча. Он улыбнулся и снова стал говорить:
– Гостья-то моя вдруг осмелела и стала как пьяненькая. Наверное, у нее температура началась: прошла по дождю и по ветру, вот и продуло насквозь.
– Вы, – говорит, – не сердитесь на мужа, не надо. Он только ревнует меня, унижает. Вот и сегодня по лицу съездил. Он только раз и ударил-то... – Она стала оправдывать, защищать его и вдруг призналась глухим горьким голосом: – Он ведь с дочкой принял меня. Я разве виноватая, что от мужа с дочкой осталася. А первый муж у меня погиб. Он шофером был, вот и случилось в дороге... А дочка к отчиму привыкнуть не может, он и за это злится, а злость опять на меня. Он и к вам стал ревновать из-за доченьки. Все, говорит, у Нинки в голове – учитель, учитель. Вот и невзлюбил вас до смерти... – И пока об этом рассказывала, то все время краснела, бледнела и вела себя как робкая школьница. И вдруг руку пожала мне: – Я бежала к вам, волновалася, а теперь легче стало, даже легко...
– Что легко?
– Извинилась за него, и легко. – И опять руку жмет, улыбается: – Что не так – не ругайтесь... Уж такие мы... – И совсем смутилась и выбежала. А мне подумалось: «Как же она? Побежала на холод, на дождь, ведь простудится...»
Ветер опять стучал ставнями. Уснуть я не мог. Даже утро не принесло облегчения. За окном снова дождь, и ветер надувает мокрые простыни. Их настирала моя молчаливая Шелепова. Странная она – все молчит, что-то шепчет. Как колдунья или порченая.
Пришел я в школу и сразу заметил Нину Седяеву. Она смотрела на меня нежно, доверчиво, и я тоже на нее так посмотрел. И сразу лицо ее стало лукавым и понимающим, и Нина сразу как бы созналась мне, что все знает, догадывается, где была ночью ее несчастная мать. Я боюсь такой мудрости у детей. И на уроке она все время тянула руку и задавала вопросы. А я говорил с ней и глаза отводил: почему-то было стыдно этой смешной, круглой девочки. А за окном уже летели белые мухи – первый снег, самый первый. Он таял в воздухе у земли. И в этом снеге иногда пролетали галки. Они садились в школьном саду на деревья и чистили перышки. Как хорошо им! Я смотрел на них через стекло и завидовал их вольной жизни, полету. После уроков побрел в магазин и набрал вина. Когда зашел в магазин, вся очередь оглянулась на меня с явной ухмылочкой. Все что-то знали и осуждали. А потом по этим взглядам, по шепоту я понял: моя хозяйка разболтала, что ночью ко мне приходила Ольга Седяева. С этой минуты и начались мои ужасы. Даже Дынька стала сторониться меня, избегать...
– Что ты, Женя, сказал про ужасы? – Я перебил его, а почему – сам не знаю. Но он сразу обиделся:
– Вижу, тошно тебе! А я-то надеялся... Понимаешь, я сейчас говорю с тобой и вроде что-то решаю. Понимаешь, мне надо понять себя.
– Ну ладно, прости...
– Да дело не в этом... Ну, вот я и сбился.
– Ты про Дыньку начал. Как сторониться стала, как избегать...
– Вот именно – избегать. Но только недолго так было. Я каждый день стал заходить к ее матери. В библиотеку, конечно... Зайду, а она вроде стушуется, замолчит, и люди посторонние сразу к двери спешат. Вроде как создают нам условия. А я назло стал заходить. Каждый день. И почему-то Дыньке это понравилось. Она опять посматривала по-прежнему, и глаза ее выделяли меня из всех. Даже стишки свои показала. Нескладные и смешные. И на уроках моих подтянулась. Особенно любила писать короткие сочинения – как зима пришла, как окутались снегом деревья, как снежную бабу дети слепили. Я ей ставил одни пятерки, а если бы можно, то поставил бы больше. И постепенно привык к Дыньке так сильно и так к ней привязался, как привязывается человек к своей самой близкой кровинке и потом уж не может жить без нее – все время рвется к ней и тоскует. Даже дошло до смешного и ужасного. Я стал мечтать, представлять себе: вот бы погиб ее отчим-алкоголик, и я взял бы обеих в свой дом, и стали бы жить все вместе и ничего мне больше не надо. И так порой разойдешься, что даже жалко станет себя – почему в жизни все бывает не так, как хочется? Почему мы не с теми, с кем надо?
А потом Дынька не пришла в школу восемь дней подряд. Я в библиотеку, а там – замок. Никто из ребят не знает, что с девочкой. Делать нечего, отправился прямым ходом к Седяевым. Но меня и во двор не допустили. Наверное, увидели, что я шел к ним. Вот и приставили ворота доской. А потом и хозяин вылез. Он взглянул на меня, как на муху, захохотал:
– Здорово живем, паралитик! – Это намек на больную ногу, я тогда сильно хромал, правая нога почти не сгибалась – колол дрова своей Шелеповой и пришиб колено. – Чего-о, ворота не нравятся? А мне они нравятся! – Это снова ко мне, хотя я уже повернулся в другую сторону. – Приходи еще раз. Жена моя сильно соскучилась. – Он издевался надо мной, как хотел.
– А зачем Ольга-то за такого держалась? Ведь видно все – прямо в зеркале... – Я не утерпел и прервал Женю на полуслове.
– Кто их, женщин, поймет. Они боятся быть одинокими...
– Ну, ты хоть в чем-нибудь грешен был? Ну хоть маленько, со спичечный коробок? – Он сразу надул губы, обиделся. А я про себя улыбнулся – эх ты, святой Евгений, святой Евгений. Какой ты был – такой остался. Красна девица гусей пасла. Но вслух сказал о другом: – Ладно, прости меня, пошляка.
– А ты не извиняйся. Раз ты прямо спросил, я тебе прямо отвечу. Привязался я к ним, как к родным. Особенно к этой, к маленькой. И жаль ее, тяжело...
– С жалости-то все начинается. Значит, влюбился в библиотекаршу?
– Зачем ты так? Прямо ногами бьешь...
– Нет, ты уж ответь.
– Не знаю... А может, это просто по-человечески... Сидишь, бывало, в библиотеке, приткнешься где-нибудь в уголке и вроде книгу листаешь, вроде даже что-то выписываешь, а сам весь там, где она. И такое тебя тепло охватит, жжет всего – так что это? Любовь-то, она поспокойнее...
– Может быть, может быть... – Я рассмеялся и он тоже, и этот смех сблизил нас, и я уж совсем забыл, сколько времени мы у реки, почему разлеглись под тополем. А Женя снова меня повел:
– И та, маленькая, все ближе ко мне, все ближе. Только подниму глаза от журнала, так и наткнусь на нее. А то сидит задумчивая, улыбается; спросишь – она как не слышит. А время уже наступало холодное, зимнее, пришел ноябрь, выпал желтый снежок. Он был, действительно, какого-то желтого, смутного цвета, какой-то непрочный. Пролежал ровно сутки и растаял, как не бывало. А потом начались ветра, а с ними такая тоска пришла, что я часто думал – схожу с ума. И только вечера выручали. Днем-то в школе, а вечерами я, конечно, в библиотеке. Как-то поручили мне доклад сделать о Пушкине перед населением Песчанки. Хорошее дело, конечно. Правда, кое-кому бы не о Пушкине лучше, а о том, как пить вредно, как деньги тратить с умом...
– Но ты о докладе начал...
– А я знаю. Этот доклад мне здорово обошелся... Решил я сделать его по-ученому, пусть, мол, думают, что новый-то учитель у них не хухры-мухры. Захотелось мне побольше рассказать о личной жизни поэта, захотелось письма его привести. Вот и собрался снова в библиотеку. И сразу нашел, что надо. Но все равно грех попутал. Да какой, правда, грех? Начал читать Ольге одно из писем – ну просто выдержку зацепил: «Пожалуйста, мой друг, не езди в Калугу. С кем там тебе знаться? С губернаторшей?» Особенно Ольгу заинтересовало, что Пушкин называл Наталью Николаевну простым русским словом «женка». Одно письмо его прочитал, она и второе запросила, потом и за третье взялись. А время идет. Когда тебе хорошо, то и гремя – не время. Вот и засиделись. И только часы одиннадцать прогудели, как в дверь – стук, ломится кто-то так, будто доски топором отрывает.
– Аха, курвы, закрылись! Я вот вас на снежок! – Это он кричал, Михаил Николаевич.
Лицо у Жени опять побледнело и передернулось. Он уж еле крепился и вдруг перешел на шепот:
– Вот и выследил нас Михаил Николаевич. Вот и застал голубков...
– Женя, если тяжело – не рассказывай. Я уже понял все.
– Ничего ты не понял! Ни-че-го! И не надо меня успокаивать. Я тебе все, как по ниточке. Я тебе самое главное расскажу. Как заорал этот Михаил Николаевич – так и прирос я к месту. И не встать мне, и головы не поднять. А он давай с полок книги разбрасывать. Прямо крушит все, прямо зверствует – то ли ревность в нем, то ли вино. Разбросал все, успокоился, а потом пошел на меня:
– Ты почему меня по отчеству не зовешь? То ли гордый, то ли забыл? Если так, то припомню... – Он поднялся в полный рост и сжал кулаки. Потом вздрогнул, точно проснулся. Подмигнул мне, полез в карман. Я думал, какой-нибудь пистолет-пугач вытащит или нож-складешек, но он вытянул бутылку. И опять подмигнул:
– Давай, учитель, поговорим. А то лаемся да рычим. Не собаки, поди, а люди... – Ольга потихоньку поскуливала, но он на это не обращал никакого внимания. – Давай, Ушинский, разольем да поднимем. Очень ты удружил мне, прямо в ноги паду тебе, буду пятки облизывать.
– А ты не смейся, при чем здесь пятки? – Я уж тоже пошел на приступ, но он будто не слышал.
– Давай выпьем за мою старость. Давай дуй прямо из горлышка.
– Какую старость?
– Ха-ха-ха!! Вы все передо мной – ребятишки. А мне сорок лет будет через неделю. Юбилей, ведь, аха? А ну подтверди, Ушинский! Что молчишь? Что, заелся? А к моей жене ходить – не заелся? Она у нас ничего-о – не откажет...
– Замолчи ты, бессовестный. Хоть бы язык отсох у тебя! – И Ольга заплакала. Я не выдержал и напал на него:
– Вы не стоите своей жены! Нет, не стоите! Вы – нахал, вас судить давно...
– Судить меня, говоришь?! – И он опять пошел на меня. Но Ольга заметила и повисла у него на руке. Что там было у них – я не знаю. Я уже был на улице... А на душе так, будто все там вымерзло. Будто схоронил кого-то сейчас... Нет, я не могу про это пока, я не могу – все во мне кружится, все болит, все ноет, так тяжело... Давай немного передохнем. А то мой роман не переслушать. – Женя посмотрел на меня тусклым взглядом, и глаза его подернулись серой усталой пленочкой, как у старика. И мы замолчали, отвернулись друг от друга. Зной не давал передышки. Правда, от воды шло легкое дуновение, но оно сразу таяло, почти не касаясь нас. Лицо Жени теперь было в тени, к только по частому дыханию я догадывался, как ему тяжело. Да он и сам признался:
– Как я ждал тебя! Думал – вот кто меня выслушает, вот кто вынесет мне приговор. А теперь дошел до самого, самого... И не могу говорить. Наверное, так же люди у следователя. Говорят ему, признаются, а как подступило к главному, так и пропали слова.
– Да какой ты, Женя, преступник?!
– Тебе хорошо, а я чуть не убил себя. Да, да! Было дело под Полтавой... Как-то встал на лыжи да взял ружье...
– И пошел в бор стреляться!
– А ты не смейся, не перевертывай. Я пошел тогда на охоту. Надо ж отвлекать себя. А то в голове только Ольга да Дынька – так можно и рехнуться. А денек был как по заказу. И весной потянуло, точно март постучался. А мне все равно тяжело. Тогда и в школе начались перекосы. Из районо приезжала проверка. Ко мне на урок напросились. Ну и зарубили под корешок мой урок. Обидно стало. И тему в журнале пишу не так, и в часы не укладываюсь, и опрос – не умею. Одним словом, опозорили. Правда, на разборе урока утешили – молодой, мол, научишься. А я не согласен с проверкой! Ну и житья мне потом не стало. И директор, и завуч в упор не видят... Вот иду тогда – и этот солнечный денек мне не мил. Почему так? Бывает, наверное, когда природа наоборот на нас действует? Тогда, чем лучше день, чем синее небо, прозрачнее – тем хуже нам, тем печальней душа. И вот мне худо совсем. Зашел в соснячок, оперся грудью на палки, набрал в себя побольше соснового воздуха, а продохнуть не могу. И стою так и думаю: а ведь сегодня мне суждено умереть. Спокойно так думаю, как будто во сне. Постоял немного, подышал чистым воздухом, и опять эта мысль пришла: давай, смотри вокруг и прощайся! И прощайся давай с белым светом, с белой снежной землей, а то ведь надо сейчас умирать. Но почему же сейчас? И как только сказал это «сейчас», так и начал себя же бояться. Стою и к себе прислушиваюсь – что там во мне, что со мной? Вот уж дыханье зажал, вот уж воздуха нет, вот уж глаза у меня закрываются, а прислушаюсь – нет, живой еще, руки-ноги все ощущают. Может, с ума я схожу? Нет, в уме еще. Но все равно эта мысль привязалась и не отвязывается. Может, мол, тут в лесочке и суждено... А что все-таки суждено? И вот опять себя слушаю и опять. И чем больше так – тем страшнее мне. Помню, сорока прилетела бесхвостая. Я ружье вскинул, прицелился. А потом задумался: зачем бить ее? Спохватился, значит, и поставил ружье к ноге... Что же делать? Может, надо из деревни этой уехать, из этой школы сбежать?.. Стою так, размышляю, а ружье у бедра. И не знаю, как получилось, но только заглянул я прямо в ствол, прямо в черное дуло я заглянул. Иногда люди в колодец заглядывают – и манит их бездна, привлекает. Так и я – точно в колодец заглянул... И думалось уже – нажми сейчас на курок, и придет облегчение. И ради этого облегчения, только ради него, я чуть не нажал. Даже курок потрогал, но страха не было. Было только недоумение: как мало надо, как слаба наша жизнь. Нажми – и все кончилось. И даже представил себе, как лежу и как мучаюсь. Как правую руку откинул, а левую подобрал под себя. А возле головы моей – пустота, вернее глубокая вмятина, и снег там влажный и розоватый и даже подтаял слегка. Это – от моей теплой крови, это от крови моей, а самого меня уже нет, уже нет. И в голове опять бессвязно и пусто, и в этой пустоте-то могло бы все совершиться. Наверно, так и бывает: вначале бездумье и пустота, а потом провал в памяти, смерть. Так бы и случилось, наверное. И случилось бы обязательно, потому что я думал уже, представлял, как этой смертью облегчу всех – и Ольгу с мужем, и школу, и сам облегчу себя и уйду. И я опять посмотрел в ствол, и не знаю до чего досмотрелся бы... Но в этот миг совсем рядом раздались голоса, прошли по лыжне ребятишки, и только прошли – стали оглядываться. Еще немного пройдут – опять оглянутся. И догадался я, что их мой вид останавливает. Тогда я поднял руку и помахал им бодро, успокоительно. А потом ружье на спину забросил, и они сразу засмеялись громко и побежали. Голоса зазвенели, как колокольчики, и сразу ожил я и себя обрел. Вдохнул воздуха, поднял палки. И вот уж лыжня опять поскрипывает, и снова живой я, как будто проснулся. И вышел в поле и огляделся. Я и сейчас помню это белое поле. Оно обступило тогда меня, испугало. Я вдруг с ужасом понял, представил, что хотел сотворить.. И еще я почувствовал, понял твердо, что этот день у меня все равно самый последний, итоговый, а завтра все будет иначе и не так – по-другому. Завтра я буду уже другим человеком, а может, просто куда-то уеду. И я пошел быстрым шагом в деревню. И в первом же переулке увидел Ольгу. Я бросился к ней, как безумный, и стал ее целовать...
Женя вдруг замер, оперся на локти и поднял голову.
– Послушай, ты смерти боишься?
– А полегче ты что-нибудь можешь?
– А ты ответь.
– Не знаю. На такие вопросы надо в мокрый день да в ненастье отвечать, а сегодня такое солнце... – Я попробовал отшутиться, но он не принял этого и как-то вяло заморгал, поджал губы. Потом дотронулся до меня:
– А Дыньку, слышь, через день увезли. Еле отводились врачи... Отводились да не совсем... – И он смолк, потом тихонько заплакал. Я слышал, как он вздрагивает, как сопит. Ах, боже мой, так себя доводить!
– Успокойся, Женя, не надо...
– Ты не знаешь, не знаешь! А мне нет прощения. И не будет. – Он еще что-то бормотал, но я плохо слышал. И тогда я его попросил:
– Ты хоть закончи. Доскажи по порядку. Он усмехнулся:
– По порядку, говоришь? Какой может быть порядок? Я тогда к Ольге бросился, схватил ее, а люди все видели. А раз видели, то и муж узнал. Она пришла домой, а он уже наготове. И все на ней в ту ночь побывало – стулья, книги, ухваты. А дочка переживала. Но всему бывает конец. Есть конец и терпению. Так и тут. Дынька бросилась на него с кулаками. Боже мой – не с кулаками, конечно, с кулачками. Он опешил и растерялся. Потом Ольга стала дочку оттаскивать, а она уж кричала, не понимала... – Женя достал сигарету и закурил. Перехватив мой взгляд, улыбнулся.
– Вот, привыкаю.
– Зачем привыкаешь?
– Да все же лучше. Закуришь, и как-то спокойнее, а то совсем погибаю.
– Так все-таки погибаешь?
– А что делать?.. Дынька тогда из рук Ольгиных вырвалась и на улицу. В одном тоненьком платьице и в чулочках. Мать-то за нею, но ее и след простыл. Ольга как упала на прясло, так и лишилась чувств. Сколько пролежала так, никто не знает. А пришла в себя, так сразу и догадалась. Повернула голову, а стайка открыта. Она – в стайку и на дочку упала. А Дынька лежит в ногах у коровы и тихо плачет. А корова стоит над ней, как над мокрым теленком и согревает дыханием. Это дыханье, эта корова и спасли ее. Занесли Дыньку в дом и сразу за фельдшером, а тот в машину ее и в район. Ноги-то у нее сразу распухли от холода. Но с одной-то ногой отводились врачи, а с другой не смогли. Возле ступни ее и отрезали, так прямо взяли и отняли. Вот так, дорогой. Дожила наша Дынька... – Он опять громко задышал, отвернулся, и я понял, что он прячет-слезы.
– Где они? Где сейчас?
– Нет их, конечно, в Песчанке. Уехали в Свердловскую область. Есть там рабочий поселок – там и живут. Ольга приезжала, правда, сниматься с учета. И мы встретились. Иду я по улице, и она идет. Я шаги замедляю, и она замедляет. Последний шаг делаю, как по канату. Она рукой мне по лицу провела. И только два слова сказала: «Прости меня». Сказала и повернулась спиной, а я остался, как вкопанный... С тех пор их не видел. В прошлом году был в Свердловске на совещании, так ездил в этот поселок. Да что там! Постоял на платформе, а в улицу не спустился. Так и не смог. – Женя вздохнул глубоко, оперся на локти и приподнялся. В его лице было столько страдания, что я отвернулся. Но он опять говорил, точно мучил себя:
– Сам я тоже сбежал из Песчанки. Живу здесь, как барон, а счастья нет... Нынче был в той Песчанке и к Шелеповой заходил, повстречались.
– Ну и что она?
– Шелепова-то? Сразу догадалась старуха. Ты, говорит, плачешь по той, тоскуешь. А мужик ее, Михаил Николаевич, уже три года в земле. Поехал в рейс да перевернулся по пьяному делу. Пьют дак. Никак от ее, матушки, не отвыкнут, – передразнил Женя старуху и опять потянулся за сигаретой. – Смотрел я тогда на Шелепову и делалась она мне ближе, роднее. Вышел во двор, потом в свой переулок. И так мне Дыньку захотелось увидеть, что я чуть не крикнул от боли. Ночевал я у Шелеповой, и снилась мне девочка. Будто иду я с ней по темному бору, и надо быстро идти, а она не может успеть за мной, запинается. Я мучаюсь, а она отстает. Я ругаться хочу и вдруг вижу – она хромает. Что с ней, почему? Потом понял – это ж после больницы. Из-за меня Дынька хромает, из-за меня... Проснулся весь в холодном поту. Как мне жить теперь, как на людей смотреть? И неужели Ольга может простить? Да и сам я могу ли без Ольги?..
– А женился ты, Женя, зачем?
– А я с горя женился. Клин клином, думаю... Знаешь как...
– А как сын, школа?
– А что школа?
– Ты же к ним собрался? Ты же уедешь? – И снова я спросил о том, о чем не хотел. Женя молчал и не шевелился. А плечи сошлись вместе, как будто ждали удара. – Ты прости, Женя. Сорвалось с языка.
– А чего прощать, чего извиняться? Зачем я вызвал тебя... – Он поднял голову еще выше. – Но что делать мне? Ты скажи мне прямо, ты в лицо мне скажи...
Я посмотрел на него внимательно, как будто на брата своего посмотрел и вдруг понял, что жизнь у Жени Енбаева будет трудной и страшной, а может, и невыносимой совсем. Еще подумал, что уже ничего нельзя с этим поделать, что он уже сейчас далеко от меня, что он уже так далеко, как будто на другом конце света, как будто где-нибудь в океане. И еще я подумал, что в этой жизни мало быть честным и чистым, мало быть хорошим и смелым, надо еще выбрать один-единственный путь. А если свернешь с него, если споткнешься, то все равно будешь приносить близким только боль и страдание, одну только боль...
– Что делать-то? Посоветуй? Почему ты молчишь?..
С реки донеслись голоса, это прибежали купаться ребятишки. Они играли в воде, резвились. А солнце било уже в тополь не прямо, а сбоку, но дереву это, наверное, нравилось, потому что стало прохладней. Тополь шевелил листвой и чуть слышно дышал, и это дыхание меня успокаивало.