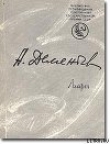Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
– Вы простите... Это Алеша. Болеет за меня, даже отпросился с работы.
– С какой работы?
– Да он же с машиностроительного... Через десять дней ему в армию – весенний призыв.
– Значит, вы дружите?
– Ой, даже не знаю. Алеша ведь еще не серьезный. Вот пришел поболеть...
– Он не болеет, он просто мешает. И экзамены – не хоккей.
– Вы правильно говорите, Людмила Максимовна. Но Алеше не хватает серьезности... – Она опять покраснела и сильно заморгала своими густыми ресницами. «Неужели свои у ней, не приклеенные?» Она еще раз взглянула на Таню и глубоко-глубоко вздохнула. «Значит, и у этой – тоже Алеша. Эх, ты, Алеша, Алеша...» – повторила она несколько раз родное имя и стала слушать студентку. Голос у Тани был густой и наполненный. Такие голоса бывают только у людей очень здоровых, уверенных, да и материал она, кажется, знала. И скоро слова ее слились в один сплошной поток, густой и безудержный: на Таню нашло вдохновение. «Но осажу-ка, – подумала Людмила Максимовна. – Все-таки многое у ней не на тему. Я не позволю заговаривать зубы... А впрочем, жаль ее – такая красивая, статная и еще влюблена. Но все равно!..»
– Инсарова, вы уклоняетесь в сторону. Прошу вас – зачитайте ваш первый вопрос.
– Сейчас, сейчас... – откликнулась Таня, но сама и не подумала останавливаться. Наоборот, ее голос усилился, и она еще быстрее полетела на своих горячих конях. И скоро все смешалось в этом ответе: и имена, и даты, и события... Все смешалось и спуталось в какой-то диковинный странный клубок, и он кружился, метался по аудитории: голос Тани достиг уже самых отчаянных, немыслимых нот, еще секунда, минута – и все, наверное, треснет, рассыплется... И Людмила Максимовна решила вмешаться:
– Инсарова, вы поэму «Демон» не знаете? Не читали со сцены, припомните?
– Вы о чем? – Таня стала бледнеть.
– А о том, дорогая, о том. Я вам про картошку, а вы – про горох. Или вы издеваетесь?
В этот миг с диким шумом открылась дверь, как будто в нее ногой ударили. Людмила Максимовна чуть не задохнулась от возмущения, но что-то ее удержало, остановило... На пороге стоял высокий, светловолосый парень, удивительно похожий на мужа. «Да они же как близнецы... И тот, мой Алеша, и этот. Господи, да их же не различить!» Людмила Максимовна даже поднялась со стула, но волненье не проходило... А потом она разглядела, заметила, что парень держит букет сирени. Букет был огромный, живой, неохватный. Парень смотрел то на Людмилу Максимовну, то на Таню, и в его продолговатых синих глазах ходило веселье. А потом он шагнул прямо к столу и сказал твердым радостным голосом:
– Это вам муж послал. Все цветы. Все!.. – для чего-то повторил парень, и опять синей змейкой блеснули глаза.
– Да где же он сам-то? Где же?! – возбужденно вопрошала Людмила Максимовна, но парень уже скрылся за дверью. И она посмотрела теперь на дверь в счастливом смятении, и все в ней сжималось в тугую пружинку и опять разжималось. «Значит, он сам не захотел, постеснялся... А запах-то! Даже голова кружится, не могу...» Она опускала лицо в цветы, потом опять смотрела на дверь, а душа все сильней оживала и оживала. «Господи, зачем злилась на него целый день, зачем себя мучила... И эта анонимка проклятая. Но это же чепуха, чепуха, наговоры. Нет, надо жить на доверии». Она подошла к окну и вдруг распахнула его во всю ширь. С карниза сразу сорвались голуби. И хлопанье крыльев походило на выстрелы. «Да, надо жить, надо радоваться, ведь мы еще молоды, ведь мы еще сына родим с Алешей. Да, да, обязательно сына! – убеждала душа кого-то и рвалась вверх за чудесными птицами... – Но как же он узнал, что я в этой аудитории?.. Ой, дура я, действительно, дура! Да разве трудно? Зашел в деканат – и сказали. Ну, конечно, там и сказали...» И ей захотелось засмеяться, закружить на руках эту Таню-красавицу, а потом выбежать на улицу и расцеловать всех – любого прохожего, чтоб все знали, как ей хорошо, как она счастлива, а впереди у ней – еще много счастья, очень много...
– История повторяется, Танюша... Он уже приезжал однажды с цветами...
– Вы к билету?
– Нет, нет, продолжайте.
– А я уж закончила.
– И чудесно. Вашу зачетку.
И еле-еле успела Таня захлопнуть дверь за собой, как загремело по коридору: «Девчонки, она мне «хорошо» в зачетку вкатила, я ей всего намолола. А ты, Алешка, у меня молодец! Как мы с цветами ее разыграли. Это, мол, вам от мужа – умора! Она сделалась прямо пунцовая. Как невеста сделалась. Ха-ха-ха!»
Но Людмила Максимовна уже не слышала этих слов: мешали толстые стены и большая плотная дверь. Да и сердце собственное мешало: оно стучало сильно, глухими толчками, и Людмила Максимовна даже боялась, что может упасть. «А он, значит, сам не зашел, решил сделать сюрприз. Вот оно как бывает, вот оно как...» Она снова стала смотреть за птицами. Потом, вспомнив что-то, повернула голову. Перед столом уже сидела другая студентка.
– Вы готовы?
– Да, да... – залепетала та своим тоненьким, прерывающимся голоском.
– Вы не волнуйтесь. Отвечайте спокойно, не торопясь. У нас много времени. И вы напрягите свою память, а потом уж не страшно. – Людмила Максимовна подошла к девушке близко-близко и положила ей ладонь на плечо.
– К тому же я учитываю все ответы на семинарских занятиях. А вы всегда у меня готовились, тянули руку, ведь правда?
– Правда, правда... – залепетала студентка и сжала свои узкие плечики.
– Да вы не волнуйтесь. Сколько еще будет на вашем веку этих экзаменов, не перечесть... – Людмила Максимовна улыбнулась. Ее теперь уже ничто не сердило. В конце концов, студенты не обязаны знать предмет так же, как преподаватель. И эта простая и наивная мысль совсем успокоила ее. Уже не хотелось, чтобы экзамен скорей закончился, и она опять окунулась головой в цветы.
Лунные поляны
Машина неслась по самой кромке полей. Мотор работал тихо, почти бесшумно. Машина была новая, сильная, каждый кусочек стали играл на солнце.
А рядом с дорогой поднимались леса. И какие леса! Они тянулись к горизонту тугой могучей стеной, и стене нет конца. Лист на березах повлажнел и набряк: с утра шел дождь. Потом дождь перестал, и вот уж солнце опять горит и беснуется, и все живое ищет ветерка. А трава рада солнцу и дождю, и цветы тоже рады и приподнялись: потому по обочине мелькает что-то зыбкое, желтое, голубое. Но Афанасию все надоело. Он сидит за рулем каменно плотный, сердитый. И всю душу истомили вопросы: «Что же с отцом? Почему позвал телеграммой? Может быть, заболел?.. А может, просто... просто чудит?» – Афанасий передернул губами и погнал машину быстрей. «Жигули» свои он любил, да и дорога его всегда успокаивала. Так вышло и сейчас: машина слегка покачивалась, ныряла, и все тело тоже покачивалось, смирялось, и затихала душа.
Он машинально включил приемник. Кто-то пел тяжелым басом: «Бродяга к Байкалу подходит...» Боже, не пение, а рев быка! Афанасий поморщился и выключил звук. Тишина показалась наградой. А дорога все так же укачивала, а лес справа делался все гуще, таинственней, и все сильнее пахло березой, и опять засыпала душа. Но вот и деревня. Она явилась разом, как в сказке: тепленькая, светлая, в обрамлении берез.
Отца он увидел у первых плетней. «Надо же! Словно бы дожидался!» И опять Афанасий передернул губами, потом нехотя сбавил скорость. Теперь машина не шла, а точно подкрадывалась, но отец уже узнал сына и поднял руку. На лице его остановилась улыбка. И даже издали видно, что она с дальним значением. «Ясно, ясно! Чудит родитель», – подумал с тоской Афанасий и снова разозлился на телеграмму, и на отца, и на эту его улыбку. Машина все еще подвигалась. Тогда отец шагнул на середину дороги и шутливо сделал под козырек. Его шутка покоробила сына. Он остановил машину метров за пять и пошел навстречу. Отец смотрел теперь серьезно, не улыбался. Вместо правой ноги – деревяшка, пиджачок старый, залитый краской, да и лицо давно все запущено – в какой-то сивой щетине. «Плохо за ним смотрит сестра. Очень плохо...» – подумал сын с раздражением, но сдержал себя и улыбнулся.
– А я думал, что ты болеешь. Телеграмма срочная, как на пожар...
Но отец точно не слышит, не понимает. И вдруг подмигивает сыну и широко раскидывает руки:
– А поворотись-ка, Афоня! Экой ты у меня длинный! И вроде не в духе? Ну ладно, я вижу... – И, не дожидаясь ответа, подходит вплотную к машине, стучит деревяшкой по колесу. – Хороша у тебя кобылка! Ни овса не просит, ни сена... – Потом поворачивается к сыну... – Хорошо, что приехал. Спасибо...
– На здоровье, – попробовал пошутить Афанасий, но отец заглянул ему поглубже в глаза и нахмурился.
– Как здоровьем жена?
– Здорова...
– Никого еще не родили?.. Нехорошо, Афоня. Человек без детей...
– Как дуб без корней, – подхватил на лету Афанасий и достал сигарету.
– Не дразнись, сынок. Так стары люди говаривали.
– Зачем звал? Что случилось? – оборвал его резко сын. Он весь налился нетерпением.
– Эх, Афоня! Не надо... На меня и мать твоя не кричала. – Его лицо точно обледенело, не дрогнет. – Как быстро ты вырос, как легко мы состарились... – И еще что-то хотел добавить, но только махнул рукой.
Они замолчали. Мотор машины легонько постукивал, и нужно было что-то решать – то ли идти, то ли ехать, – и эта неопределенность была всего тяжелее. Отец дышал громко, переминался. Песок под деревяшкой поскрипывал, шевелился, и это тоже давило на нервы. Афанасий хмыкнул, потом резко захлопнул дверцу и потянулся. Теперь он казался еще выше, стройнее в своих серых джинсовых брюках. Отец доставал Афанасию только до плеча, да и худоба выпирала. Рядом с сыном он казался щуплым, как зайчик.
Они стояли, словно чужие. Афанасий закурил и повернулся в сторону леса. Ему сделалось грустно. Болела душа, и хотелось уехать. Но отец стоял рядом, какой-то совсем поникший, обвислый. Что его сжало, что подсушило? Афанасий ждал сейчас от отца то ли признаний, то ли нотаций, – у того бывали такие минуты. Но отец молчал, затаился. Наверное, слушал свое дыхание. В последние годы у него не ладилось с сердцем.
– Да-а, сынок... Стары, говорят, старятся, а молоды растут, – начал старший с дальним подходом и вдруг, не таясь, не скрываясь, откровенно загляделся на сына. Но тот не видел. Он все еще курил, смотрел на дальние березы, а на висках его горели кусочки солнца. А отец все смотрел на сына, не отрывался. Он всегда любил его волосы, длинные золотые их пряди. Вот и теперь они опускались до самых плеч, точно кого-то дразнили.
– Ты как девушка у меня...
– Что, что? – спросил Афанасий. Но отец не ответил. Он все смотрел и смотрел на эту золотую волну, и сердце таяло, замирало, и хотелось каких-то особых слов и признаний; вот уж и глаза стали на мокром месте, еще миг – и польются слезы, а зачем, отчего... И чтобы скрыть всю свою нежность, растерянность, отец еще больше нахмурился и повесил голову.
– Ты что-то сказал мне?
– Я не знаю... Заглуши-ка мотор, сынок. Чего зря тарахтит?
– А ты садись со мной. Потихоньку поедем.
– Ничего не выйдет, сынок. Не залезти мне в твою колымагу. Ни согнуться, ни разогнуться. Ты уж езжай потихоньку, а я сзади, Афоня...
Сын поморщился. Он не любил свое имя, стеснялся его. Чудилось в слове «Афоня» смешное что-то и простоватое – прямо кличка, как у собаки.
– Езжай, Афоня, езжай...
Машина рванулась с места, но сразу притормозила, будто одумалась, и пошла уже плавно и медленно, как в похоронной процессии. Настроение у Афанасия было больное, печальное, и не хотелось ни о чем думать, ничего вспоминать. И он машинально смотрел, как движутся мимо дома и ограды, как перебегают через дорогу собаки злыми короткими перебежками, как чей-то мальчишка катит на велосипеде с беспокойным веселым отчаяньем, но все это не отвлекало, не трогало, и он рассмеялся над самим собой: «Ну и ну! А чего я психую?» И сразу надавил на тормоз. Потом медленно подогнал машину к низкому домику, сделанному из деревянных шпал, черных, подгнивших.
Отец приотстал от машины, хотя шагал широко, торопился. Деревянная нога запиналась, потому шел он на один бок и все время подпрыгивал и махал при ходьбе руками. И опять Афанасий злился, мрачнел и жадно курил.
Вот отец почти рядом. И опять поразило лицо его. Оно казалось совсем серым, испитым, точно жизнь уже ушла из него и никогда не вернется. А голова стала маленькая, как у подростка, и на макушке торчал седой хохолок, будто в насмешку...
– Куда гонишь, Афоня? Никто нас не ждет. Сестренка твоя к свекровке уехала, а я заскучал. Вот и вызвал...
– Только и? – усмехнулся сын.
– А что плохого? Отец же вызвал тебя! Это надо понять. Где, говорят, сокровище наше – там и сердце наше...
– Кто говорит? – засмеялся Афанасий и глубоко вздохнул в себя чистый, березовый воздух.
– Стары люди говорят, Афоня. Стариков-то не почитаете...
– Так, так, сокровище наше, – заворчал про себя Афанасий, и что-то сухое, холодное промелькнуло в глазах. Но отец не заметил, и тогда сын перевел разговор:
– Ну и строят у вас! – он задумчиво посмотрел на шпалы, нахмурился. – А кругом столько дерева, и березы вон...
– То дерево золотое. Надо беречь... А эти шпалы по случаю. Шефы привезли да оставили... Ну пойдем, сынок, в дом.
Пока шли к крыльцу, Афанасий терзал себя: «И чего он хитрит со мной, отвлекает. А ведь сорвал с места, послал телеграмму...»
Потолки в комнате были темные, низкие, и Афанасий сразу вспотел и зажмурился. И еще долго не мог прийти в себя, отдышаться, все казалось, что здесь не было воздуха. У него снова испортилось настроение.
– Ты б хоть деревяшку-то отстегнул. А то больно уж по-сиротски...
– Да привык я, Афоня. А протез есть у меня, как же нам без протеза...
– Я тебе импортный достану, удобный...
– Да, ладно, сынок. К чему привык, к тому привык. Вон и Федор, дружок, на такой же... Да и дерево-то роднее. – Он еще что-то сказал про себя и начал осторожно устраиваться на диване. Вначале вытянул деревяшку, потом медленно опустил спину. И улыбнулся виновато:
– Извини, сынок, беспорядок. Не стираю, не мою. Да и гложет меня что-то. Надо бы посоветоваться...
– Ну, давай перекинемся! – сразу ожил Афоня и сел напротив.
– Не так быстро, сынок, не галопом. – Он прикусил губу и замотал головой. Хохолок на голове приподнялся. Это всегда предвещало ссору или злой разговор, и Афоня ко всему приготовился. Он знал, что у отца нервы всегда на взводе и может быть такая минута, когда он накричит и пойдет напролом, а потом горько-горько заплачет. И эти переходы от крика к слезам встречались часто и повторялись, а потом отец страдал от них, стараясь забыть. Вот и теперь ждал Афанасий такого же, но отец заговорил спокойно:
– Что-то Федор Иванович не заходит. Наверно, тебя испугался. Эх, Федор, Федор... Мы с ним и ботинки-то делим поровну!
– Не понимаю... – проговорил Афанасий.
– Дело, сынок, простое. У меня левой нет, у него праву ногу похоронили. А размер-то у нас один. Я, значит, куплю ботинки, а зачем мне два? Я на праву ногу одену, а на леву – ему. А потом он идет в магазин. И расход у нас половинный. Ну, теперь-то усек?
– А как же! – засмеялся Афанасий.
И отец тоже вздохнул легко, улыбнулся. На лице сразу разгладилась кожа, но глаза все равно оставались печальными. Только на миг в них мелькнуло что-то нежное, теплое, какой-то ветерок пробежал и затих, – и опять печально и хмуро лицо.
– Господи, господи... До старости дожили и еще хочем жить. А зачем? А куда? И хватило бы мне, да и Федору... Как ты думаешь, Афоня? Скажи...
Сын промолчал, ушел в себя. Ему надоело сидеть на стуле, надоели духота, липкий пот под рубашкой, он хмурился и покусывал губы.
– Да не морщись, Афоня! Я ведь знаю, что надоел. И тебе, и сестре твоей... Она вон все ходит да выркает: не там сел да не там разделся. А я ведь отец. И тебе тоже отец родной...
– Родной, родной! Успокойся! – засмеялся сын и достал сигарету.
– Вот и скажи ей, чтоб язык придержала. Да что ей скажешь, она и на мужа, на Ивана, наскакивает. И все ей невесело. Почему нынешним все невесело? И что надо, каких апельсин таких? И зарплаты вроде хорошие, и квартирами наделили, а им все мало да все не так... И со свекровкой Мария ругается, но и та сдачи дает.
– Все правильно! – перебил Афанасий.
– Нет, не правильно! Заблуждаешься, сын. Они из-за меня, видно, цапаются. Я место занял ее. У ней Иван-то один-разъединственный. Ей бы с сыном жить да командовать, а я тут путаюсь. Ну, а как? Двух-то стариков не засадишь в клеть...
– Зачем звал, отец? – не вытерпел Афанасий. Он снова нервничал: понял, что отца понесло и понесло по волнам и неясно даже – прибьет ли к берегу. А если и прибьет, то все равно ненадолго. Через минуту он может вскочить и забегать по комнате или хуже того – застучит деревяшкой, как молотом, прося внимания, а потом еще больше расстроится и заплачет, как мальчик.
– Зачем звал? – повторил Афанасий. – Я думал, ты заболел.
– Не дождетесь, когда издохну, – усмехнулся отец и поморщился, как будто в нос попала пыль или табачные крошки, и сразу на лице родилась обида и хохолок на макушке откинулся. – Так, что ли, сынок? А я все топчусь, старый черт. – Он с большим усилием приподнялся, потом сел опять. Дышал тяжело, да и дышать совсем нечем. Комнатка, низкая, тесная, словно игрушечная. И вещей много: телевизор, комод, книжные полки... Афанасий огляделся по сторонам и спросил примирительно:
– Ты где спишь-то?
– Не понял, Афоня.
– Где койку твою помещают? Ведь теснота.
– Аха, аха... – словно бы отмахнулся от ответа отец. Потом потянулся к сыну всем туловищем и заглянул в лицо снизу вверх. Глаза его отливали желтым, пронзительным и как будто смеялись, лукавили:
– Так ведь временно я тут, сынок. Совсем временно. Вы же так с сестрой договаривались? У ней, мол, год старик прокантуется, потом – у тебя год, потом снова к ней. Поделили отца ровно-поровну, распилили напополам. Ну и правильно сделали. А то одному-то такую обузу...
– Не сочиняй! – сказал зло Афанасий.
– Да ладно уж – переморщимся. Мария сама мне призналася. Эх, нету у меня Антонины Михайловны, нету у меня подруги-заступницы. – Он откинул высоко голову и побледнел. Жену он всегда называл по имени-отчеству на высокий, старинный лад. И когда произносил это имя и отчество, то делал большую, глухую паузу, и сердце у него то колотилось бешено, то совсем затихало, и он бледнел, как снег, и сжимал крепко веки. Вот и сейчас затих, как неживой.
– Чудишь ты, отец, – сказал тихо сын, но отец услышал и оглянулся.
– А ты не хитри, Афанасий. Скоро к тебе постучусь – принимайте. Хоть жену подготовь немного, а то инфаркт хватит. А что, Афоня? У других было и у тебя будет. Как завопит на тебя да затопается: кого пускаешь, благоверный мой? От него запах-то – нос закладывает. И деревяшка болтается... – И вдруг рассмеялся нехорошо, со значением и опять потянулся к сыну всем туловищем и заглянул снизу вверх. – Значит, койку где помещают? Теснота, говоришь, у нас? Да ладно уж, не страдай, сынок. Я не стану к тебе натряхиваться...
Афанасий промолчал, хоть терпение заканчивалось. Его все уже угнетало здесь: и прямые насмешливые глаза отца, и его голос, и духота в комнате, и не нравилось, что сестра с мужем куда-то уехали. С сестрой бы все же повеселей.
Отец опять задышал тяжело. В груди что-то поскрипывало, как будто выпевал сверчок. Афанасий встал и открыл окно. В створку сразу хлынула свежесть, запахло березой. День уже прошел, и солнце скрылось за лесом. А в улице было все еще светло и просторно, и листья деревьев переливались, сверкали от зелени, и далеко-далеко разносился гул одинокого трактора – веселый, как на празднике. И сразу захотелось куда-нибудь в лес, на траву. Афанасий курил и вслушивался в себя. Распускались деревья, наливалась листва, а ему всегда в эту пору печально, в душе оживали неопределенные чувства потери и ожидания, – и это томило, помаленьку терзало, и было жаль прожитых дней. И ничего не вернешь. Из задумчивости его вывел отец:
– Не страдай, сынок, я к тебе не поеду. И у дочери не останусь. Есть у нас с Федором один планчик... – Последние слова он произнес уже нормальным, чуть расслабленным голосом, в котором слышалась большая усталость. – Так что, Афоня, меня больше не распределяйте. – Все это время он уже сидел не на диване, а на низкой, неудобной скамеечке, но для него она, наверное, казалась удобной.
Афанасий повернулся к нему и спросил еле слышно:
– Зачем злишь меня, отец?
– Не то, Афоня! Я к тебе откровенно... Вон у Федора Вотина тоже сын и не хуже тебя – председатель колхоза. А надежды нету у Феди. Потому что сноха... Не нужны мы вашим женам, Афоня! Заболеешь – стакан воды не допросишь.
– Ох, уж этот стакан!
– Так ведь жаль человека. Мы же фронт с ним прошли. Мы ж, поди, ветераны!
– Что ты – Федор да Федор! Хоть бы спросил: как живу, как семья?
– Э-э, Афоня! Семьи у тебя нет. Вот сынка наживете, тогда будет семья. А пока пустоцветы. И что за молодежь – детей не рожают?
– Не лезь в душу! Нехорошо... – рассердился опять Афанасий. Он все еще стоял у окна, лицо его побледнело, и ладони подрагивали. Но он крепился, сжимал себя, чтобы не крикнуть, зато отец не сдержался.
– Замолчи, сынок! – И вдруг резко спрыгнул со своей поскрипывающей скамеечки и застучал деревянной ногой. Пол в комнате ухнул и закачался. Наверное, доски были тонкие, слабые.
– Не позволю, Афоня! Я не позволю...
Сын не отвечал, даже не повернулся. И это отрезвило отца. Он замолчал, только громко дышал. Потом шагнул к окну и встал рядом с сыном. На лице уже блуждала вялая, виноватая улыбочка, глаза искали сочувствия и защиты.
– Извини, сынок, не суди! Придет такое – собой не владею. И на кого кричал – на тебя!
– Не страдай, отец. Перемелется...
– Так ведь нервы, Афоня. Все нервы... И откуда быть нервам-то, коли состарился.
– Ты не состаришься, – улыбнулся сын и стал неторопливо разминать сигарету. По комнате пошел запах дорогого, мягкого табака. Потом скользнула вверх струйка дыма, пахнуло резко паленой бумагой, и снова этот тонкий аромат. «Надо же, – думал сын, – как сойдемся с ним – сразу ссоримся. А зачем?..» – И он вспомнил вдруг еще одну ссору. Он закончил тогда десять классов и собрался в Омск – в медицинский. А отец хотел оставить его дома, возле себя.
– Иди, Афоня, в педагогический. Будешь с нами, и мы с тобой...
– Нет, отец! Не просите.
– А я заставлю! И не отвертишься – он рванулся тогда со стула и так же стукнул деревянной ногой. И так же пол закачался под ударами сухого, почти железного дерева. Даже штукатурка посыпалась.
– Нет и нет! – повторил он дважды отцу, и тот сразу обмяк, растерялся, и так же виновато смотрели глаза.
– Иди, Афоня, в педагогический! Я тебе за это «Урал» куплю. Ты ж просил мотоцикл.
– А «Уралы» с коляской. У тебя не хватит валюты.
Отец вначале не понял, а потом ответил с гордым хвастливым вызовом:
– У меня на книжке полторы тысячи!
– Нашел деньги! Это – так, побренчать...
И тут ворвалась беда. Вначале отец замотал головой, будто кипятком его обварили или по затылку ударили. Потом поднял кулак
– Как ты меня, сынок? А ну – повтори! Не желаешь?.. Тогда сам тебе повторю. Как мы с мамкой твоей всю жизнь пробренчали. Как... – он задохнулся и точно оглох. Потом кулак опустил, но в глазах все равно кипело и плавилось, и он опять закричал: – Да, всю жизнь!!! Но за вычетом фронта. А там тоже платили. Вот купил деревянную...
И тогда сын решил добавить. Медленно отодвинул ящик стола и достал сигарету. Зажег спичку и закурил на глазах у родителей. Он в первый раз закурил открыто и без стеснения, с каким-то дерзким, слепым отчаянием. И последнее, что он видел в этой родительской комнате, были полные тоски глаза матери. Она смотрела на него, как на преступника, и покачивала головой.
И все равно он поехал в Омск. Мать с этим быстро смирилась, даже гордилась им:
– Мы больные с тобой, Николай Николаевич. – Она тоже называла мужа по отчеству. И когда обращалась, то почему-то робела, стушевывалась, как будто говорила с крупным важным начальником. – Мы больные, а сын нас вылечит! Глядишь, проживем с тобой до семидесяти...
«До семидесяти, до семидесяти... А сколько будет сейчас ему?» – вдруг спросил себя Афанасий и передернулся: точно не знал. Стало стыдно. «То ли шестьдесят семь, то ли семьдесят?»
Он присел осторожно на подоконник. Из ограды шла вечерняя свежесть, холодила рубашку. Ему уже хотелось есть, но заговорил отец:
– Вот сижу, Афоня, и думаю – то ли сообщить тебе, то ли скрыть пока...
– Сообщай, конечно! Выкладывай.
– Так вот, сынок, есть у нас с Федором планчик. Собрались мы с ним в дом престарелых. Да, да! И не криви лицо. Будем там копать грядки, а зимой чистить снег по всей территории. И освободим мы своих сыновей-дочерей от великой обузы.
– Ты вредный, отец! Как и все старики, – сказал Афанасий и прищурился. Он чувствовал, как у него начинают подрагивать пальцы, а это был плохой знак. Еще немного – и сорвется. И начнет тоже кричать, выяснять отношения. А этого не хотелось. Да и понимал теперь, что отец вызвал его без всякой причины. Просто надо поворчать, покуражиться. Вот и сочинил про дом престарелых. А пройдет еще час, и он застыдится своих слов и заплачет. И начнет умолять его не сердиться и попросит прощения, а потом еще больше расстроится и начнет глотать сердечные капли.
– Давай, отец, попьем чаю! – предложил Афанасий.
– Вот, молодец какой! Догадался сказать, – и пошел на кухню, забрякал тарелками, а Афанасий смотрел, как далеко-далеко над лесом разгорается красное облачко. Вот оно вздохнуло и пошло в ширину. Вот уже весь горизонт стал пунцовым, как мак. Значит, быть дождю или холоду, или ветер начнет гулять и хлестать по березам. И Афанасий даже поежился и прикрыл окно.
Потом они пили чай. Отец с удовольствием резал белый хлеб, и ломти выходили высокие, пышные. На них мазал тягучий мед.
– Ешь, сынок, наводи живот. Свой хлеб-то, домашний. Я сам понемногу стряпаю. А что... Чем могу – помогаю. – И он смутился, прикрыл рот ладонью.
– Очень вкусно, – сказал Афанасий.
– Ну как же – не вкусно! В этом колхозе председателем Леня Вотин. Моего Федора сын. Да ты его знаешь... Я его еще мокренького на руки брал, а теперь – фу ты, ну ты – хозяин. И какой хозяин, Афоня! Весь колхоз перевернул по-своему! И любят его, конечно, и уважают. Потому и Марию, сестру твою, отправил в эту деревню. Она после института тогда растерялася, а я позвонил, и ее колхоз запросил. – Отец улыбнулся, словно вспомнил что-то приятное. – Но сестра твоя оправдала! Агроном такой – не нахвалятся! Только вот ребятишек нет. Чего-то я вам не привил.
– Человек – не дерево.
– Именно дерево! И ты тоже, Афоня, – дерево, и сестра твоя тоже, и все. И за вами надо много ходить: поливать да окучивать.
– Ты философ, отец.
– Все мы, Афоня, вначале философы, а потом приходит время платить долги.
– Кому?
– Людям, Афоня. Все им, все им. Вот ты врач, а без врачей нам нельзя.
– Куда ты клонишь, отец? – сказал опять с беспокойством и отодвинул чай. Ложечка в чашке звякнула о тонкий чешский фарфор.
– Сколько у тебя, Афоня, было смертей? Ну, от твоей руки? – Последние слова ему дались через силу, и он начал шумно дышать. А лицо опять побледнело, опало, а хохолок пошел вверх. И вот уж он торчит над головой прямым столбиком, словно дразнит кого-то, смеется.
– У тебя странные, отец, представления.
– Но ты же хирург и режешь людей?
– Вот именно, что хирург. Ведь если хирург ошибается, то ошибается не один. Иногда подводит даже рентген.
– Коллективная ответственность, да? Ты зарежешь, а все отвечают?
– Ты не утрируй и не делай из меня мясника. Если судно в тумане село на рифы, виноват не один только капитан.
– Но в ответе прежде всех капитан, – сказал отец хмурым голосом и еще сильней побледнел.
Он теперь стоял у окна и сердито смотрел в ограду. Хохолок шевелился на голове. За этот хохолок, за пронзительность глаз сослуживцы прозвали его Суворовым, но без всякого зла. Вот и теперь он смотрел исподлобья, внимательно, точно бы решал, куда послать свое храброе войско, как малыми силами выиграть бой. «Суворов и есть!» – подумал весело Афанасий и рассмеялся. Отец поморщился: ему не нравился смех сына.
– Значит, Афоня, ты не помнишь ни одного человека, который бы умер из-за тебя?
– Не понимаю...
– Ну, по твоей недоглядке...
– А-а, теперь понимаю. Такие ошибки бывали. Но у кого их нет? Да и кто мне докажет, что я виноват? Чудак ты, отец! – он стал разминать сигарету, и вся веселость его прошла, как ветром сдуло. И подступила сразу усталость. Как и у отца, у него часто прыгало настроение. То выйдет солнце на чистом небе, то опустятся тучи, то снова разведрит.
– Понимаю, Афоня, ты найдешь оправданье. И родные умершего тебе мстить не будут. Но ты-то? Сам-то? Неужели они не снятся ночами? Неужели не помнишь их лица, голоса?
– Ну-у, отец! Отколол ты. Прямо в тюрьму меня надо. Да на тяжелый замок.
– А ты не смейся. Я хочу во всем разобраться. За этим тебя и позвал... – Отец замолчал и внимательно посмотрел на сына. Но взгляд его был не в лицо, а куда-то дальше. И от этого взгляда Афанасию стало невыносимо. И опять стал ждать от него то ли ссоры, то ли тяжелого признанья, то ли какой-то печальной просьбы.
И отец признался:
– Я тебе доверяюсь, сынок. Дело наше касается Федора. Этот человек для меня больше брата. Больше даже отца, хоть мы с ним и погодки. И терять мне его не надо.
– А зачем терять?
Но он словно не услышал вопроса. Только покачал головой и вздохнул.
– Мне тяжело, Афоня, но я должен сознаться. Федор меня вынес из боя. На себе вынес... В первый месяц войны наша часть была в окружении. И меня ранили – осколок в плечо. Мне надо бы застрелиться, чтоб не мучать своих. Но Федя меня не бросил. Так на спине и тащил по оврагам. А потом еще попали в болото. Натерпелся со мной, пока не вышли к своим.
– Отец, я не вижу связи. При чем тут Федор и моя работа?
– Не спеши, родной, не спеши... Потом мы опять воевали вместе, и потом опять все совпало – он на протезе пришел, и я на протезе. Потом жен своих схоронили...
– Ладно, отец, не темни. Что у него, у Федора?
– Но я еще про войну хотел. Это было в конце сорок третьего...
– Потом, потом! Что у Федора?
– Полагаю, что язва. И такая, что не вылечивают. Только режут такую...
– Знаем, знаем мы эти язвы, – устало сказал Афанасий и забарабанил пальцами по колену. На его красивом чистом лице мелькнула досада. Он уже совсем задыхался в этой маленькой комнатке. Да и сам отец – его прямой взгляд, его голос, какой-то непривычный, почти заискивающий, давили незримой угрюмой тяжестью.
– В районной больнице от Федора отказались. Сказали, везите в область, там у нас медицина. А вдруг, сынок, у него уж клешнятый?