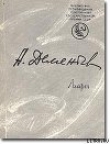Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
Поздний гость
Бывают дни ранней осенью – совсем тихие, прозрачные дни. И солнца много еще, но оно уже спокойное, ровное, без жарких лучей. А если набежит дождь, дотронется до земли, то земля вздохнет опять благодарно, и все живое задышит тоже по-летнему: и цветы, и деревья, и трава. И задышит, распустится самой последней невиданной красотой. А если дождь этот в городе, то совсем картина веселая: вначале дождь стоит над асфальтом, качается, потом тучи уходят, и вот уж струится улица, как речная излучина, и такой же пар над ней, те же тени – движение луча. А деревья! Они прямо вздрагивают на глазах, распрямляются, и сама листва тоже светится, тянется, и непонятно, куда стремится она – то ли к солнцу еще, то ли к земле. Ведь сентябрь – уже время прощания, и пора светилу нашему успокоиться, но не выходит никак. «Ну и хорошо, ну и ладно. Видно, лето нынче надолго. Пускай...» – думаешь ты с тихой радостью и открываешь окно. А потом стоишь у шторы и куришь, и дым от сигареты проходит прямо на улицу, и ты рад опять и взволнован, а чему рад – не знаешь. А потом вдруг за стеной просыпается пианино, – и ты уж совсем счастлив. А почему, отчего? И вот уж кто-то подбирает на клавишах грустную музыку, и ты куришь и улыбаешься, и тебе совсем хорошо. Но все равно боишься признаться, покаяться, что этот кто-то – соседка Леночка, и еще боишься сказать себе что-то последнее, главное, но все равно – хорошо, хорошо...
И в этот миг постучали.
Я вздрогнул и повернулся. На пороге стоял человек в тяжелом черном костюме и в таком же парадном галстуке, и вся фигура его была большая, веселая. Я вглядывался в человека, не понимал...
Особенно на черном выделялось лицо. Оно было белесое, круглое, какое-то радостно-виноватое, а глаза смотрели прямые, зеленые – такие глаза бывают у рыжих. В правой руке он держал туго набитый портфель.
– Не признаешь?..
Я не признавал.
Особенно оттолкнули волосы. Они были гладко причесаны и смазаны чем-то липким, пахучим, и запах от них объял всю комнату, – и сразу кончился мой праздник, и душа напряглась.
– Так, так, Севостьян не признал своих крестьян, – он усмехнулся, и в глазах исчезло зеленое – потухли они, поскучнели. На лоб легла усталая ниточка, а нижняя губа чуть припухла, и тут я узнал:
– Мартюшов? Яша?
– Ну вот – познакомились. Для кого будет Яков Васильевич, а для тебя, ладно, Яша...
Я смотрел на него, и радовался, и узнавал все больше, и вспоминал. Я и в школе-то рядом с Яшей сидел на одной парте, из класса в класс. Он тогда был упругий и кругленький, все думали: росту потом не хватит, а он взял да вымахал, да и фигурой бог не обидел.
– Один живешь? Не женился? – Яша оглядывал мою комнату и все время устало щурился, как будто был близорукий.
Он и в школе вот так же щурился, и часто дремал, и позевывал на самом скучном уроке – на математике. Учитель, заметив это, не выдерживал: «К доске, Мартюшов! Безобразие!..» И он шел к доске, как на казнь. И отвечал Яша так же занудно и медленно, и голосок был с хрипотцой, как у старичка, и учитель опять страдал.
Зато теперь какие с ним перемены! Я разглядывал Яшу и радовался: и костюм новый, и галстук, и рыжие волосы причесаны и, видно, лаком прибиты в парикмахерской, да и ботинки дорогие на нем, тупоносые, и сам он свеж, как жених. Яша тоже меня разглядывал, и глаза его опять оживали, таилось в них нетерпение.
– Я к тебе, землячок, надолго. Может, и заночую. У тебя хозяева не сердиты? – И он прислушался к пианино. – Поди, сидят да играют, а зарплата где-то идет. Так оно?
– Не знаю...
– И я не знаю, и ты не знаешь – никто не знает, – он засмеялся натянуто и присел на стул. И сразу начал поправлять галстук, вертеть головой, может, галстук мешал, сдавил шею.
– Я к тебе с горем, Федорович. В ноги падаю – не гони...
– Ну ладно, Яша, я не начальник, – он смутил меня, и я растерялся. Да и глаза у него изменились. Они смотрели уже сердито, и нижняя губа напряглась и отстала.
– Еле нашел тебя. Через адресное бюро. Ты еще холостуешь?
Я кивнул, а он рассмеялся.
– Времена пошли, одному – и квартиру!
– Нет, это жилье на троих, в той комнате – другие хозяева. Там мать живут с дочерью, – зачем-то добавил я и покраснел, но он не заметил. А пианино все томилось, страдало, и эта чудная музыка пропадала зря. А Яше она даже мешала.
– Поди бы хватит – побрякали. Ну вот что, Федорович, почему земляков забываешь? Интеллиго стал, заделался... И мы могем, могем, – повторил он точно для устрашения и расстегнул пиджак. Галстук вывалился вперед – широкий, тяжелый.
– Зря, Яша. Зря ты, – попробовал я защитить себя, но он посмотрел лукаво, пронзительно, как будто что-то обо мне знал, чего-то не договаривал.
– В городе-то привык? Не надоело?
– Нет, Яша, не надоело. У каждого свое место, и надо держаться.
– Было б за что держаться, – он усмехнулся, поправил галстук, рука у него была тяжелая, пухлая, под ногтями – остатки солярки. Рука эта вызывала уважение, и я заторопился с вопросом.
– Что, Яша, случилось? Не томи душу – рассказывай.
– А ты не жми скорости. Вечер наш – не уйдет, – он на стуле откинулся, подергал скулами, и вдруг лицо стало краснеть и краснеть на глазах и скоро превратилось в большое пунцовое яблоко. И кожа стала гладкая, чистая, как будто после бани. И я опять вспомнил про школу. Тогда мы дразнили Яшу Огурчиком. Но он не сердился...
И пока я вспоминал, напрягался, он вынул из кармана пиджака авторучку и рассматривал ее долгим пристальным взглядом, и был в этом взгляде непонятный намек. Потом закинул ногу на ногу, отодвинулся, и появилось в этой позе что-то хозяйское, почти угрожающее. Я улыбнулся. «Да ты ли, Яша? Ты ли это?» – вопрошал я кого-то и потихоньку на него поглядывал, но он не замечал, сидел строго, приподняв голову.
– Почему не пишешь про земляков? Печать – великая сила... – Он смотрел теперь в упор на меня, не мигая.
– Я ведь в школе работаю, Яша. Пятый год уже. И уважают, Яша. Вот и комнату дали.
– А в газетах – твоя фамилия? Или, может быть, не твоя? – Он смотрел опять грозно, сердито, словно прокурор какой, следователь, и мне стало смешно.
– Моя, моя, успокойся!.. Но это по настроению. После работы. Сижу дома, и что-то найдет...
– Ну вот и сознался. А то крутишь голову – не пойму. А когда-то вместе кашу хлебали. Из одного котелка.
– Вместе, вместе, – успокоил я его, а самому стало весело: куда он клонит?
– Ну, давай подведем черту, – прервал меня Яша, и в глазах его мелькнуло злое, зеленое, а лицо опять покраснело. – Кто-то работает, а кто-то пописывает. Но без нас-то вы никуда...
– Без кого, Яша?
– Без нас, Федорович, в том числе и без Якова Мартюшова. Я-то работаю, а ты статьи составляешь. Давай поменяемся? – Он засмеялся, заерзал на стуле, и опять был этот смешок со значением, словно я стащил у него что-то, а он дознался. – Ну ладно, ладно. Я тебя уважаю! Все шутим, гыркам – понимать надо. Но все же ты, землячок, подзазнался. Нельзя, нельзя отрываться от масс. – И он опять засмеялся, а я опешил. «Да ты ли, Яша? Откуда тон такой, откуда в нем снисхождение?» И чтобы успокоиться, я к окну отошел, отдернул штору. Сразу охватил меня свежий воздух. Внизу, на клумбах, росли цветы – табак и фиалки, – и сейчас, под вечер, они пахли буйно, прощально; и эти свежие, счастливые запахи захватили меня, отвлекли. И почему-то представилось, что, может быть, поведение моего однокашника – просто розыгрыш, а я не понял ничего и поверил. Ну, конечно, поверил! И сам Яша теперь хохочет в душе. С этой мыслью и подошел к нему.
– Яша, хочешь пивка? Приглашаю.
– Не туда зовешь, землячок. Не по адресу! Я уже бочку свою давно выдул, а теперь не могу, завязал. И не мани – не пойду...
– Ох ты! Не мани... – Я усмехнулся и головой покачал. Он заметил мое удивление.
– И тебе не советую.
– Пиво-то разрешается.
– Разрешается волков стрелять.
– При чем тут волки, – я и еще что-то хотел добавить и возразить ему, но он смотрел так пронзительно, что я глаза опустил и смешался.
«А какой был добрый, податливый. Бывало, хоть в телегу запрягай, хоть на спину садись к нему. Повезет и не спросит...» – рассказывал про него я кому-то чужому и незнакомому, а сам Яша глядел опять прямо и осуждающе, и у меня замирало дыхание. Потом лицо его просветлело, будто умылось, и та морщинка, устало-скорбная, пропала со лба.
– Я и курить бросил, Федорович. Второй год, как откинуло. И тебе не советую. Нет. – А я видел уже, что он хвастается, ну и пусть, пусть, не жалко мне, подумал я с облегчением. Ведь такой он – хвастливый, взволнованный – был и ближе, и роднее, да и прежний Яша в чем-то угадывался, и я решил его похвалить:
– Молодец ты, есть выдержка! А я бросаю, бросаю, опять начинаю. Так уже сотню раз...
– А ты сто первый попробуй – получится! И все бы тебя одобрили. Куренье – яд, привычка – зло. А если бросишь – повезло! А если нет – лети в кювет! Так оно, земляк, получается, – он глядел уже победителем. И я опять похвалил:
– Хорошие стихи! Не твои?
– А то чьи? Написал в стенгазету. Каждый раз заставляют...
– И пишешь?
– Бывает, – он замолчал, стал разглядывать ногти. В молчанье этом стояла гордость, и он опять ждал каких-то слов от меня. Может быть, похвалы. Потом начал поправлять галстук.
– Тебе жарко в пиджаке-то? Сними, – я его пожалел, но ему не понравилось.
– Ты меня не раздевай, землячок! Я хочу при параде...
– А зачем? Я в рубашке, и то жарковато...
– Одно – ты, а то – я! – Он сказал эти слова со значением и вздохнул тяжело. Нижняя губа опять отошла, и подбородок набычился, и эта строгость, надменность меня забавляли. И я еле сдерживался, но помалкивал. Хотя так и подмывало пошутить, посмеяться. Бывает: смотришь на человека, как он кричит, разоряется, как руки высоко поднимает, а тебе не страшно совсем, только чудно, а он еще больше кричит. Но ты смотришь спокойно и рассудительно, как брови у него плотно сдвинуты, как горят глаза в слепом напряжении, как пальцы сходятся в кулаки. А тебе не страшно, не горько, наоборот, даже весело, потому что знаешь: человек этот добрый, открытая душа. Пройдет час, и он успокоится, а все слова теперь, жесты – мгла и туман. Так и Яша. Сидит строгий, нахохленный, а я вот не боюсь. Даже мысли со мной хорошие... И пришло неожиданно: как пять лет назад нагрянул я к матери, в свое родное село. Посидели, поговорили, потом собрался я купаться. И только вышел на берег, как увидел смешную фигурку рыбака. В руках у него была удочка, которая то взлетала, то опускалась. А сам он был подсадистый, кругленький, как гриб-подберезовик. На лоб надвинута шляпа. Я подошел ближе, не вытерпел – и сразу признал то лицо. Оно было круглое, белокожее, без определенного выражения. Загар, видно, не приставал, а может, шляпа спасала от солнца, иначе зачем бы она в такую жару.
– Здорово, Яша! Давно не виделись.
Но он даже не повернулся, и на лице ничего не пошевелилось, не дрогнуло.
– Здорово, что ли?
Опять молчание. Я обиделся и сам замолчал. Рядом с Яшей сидел мальчик лет трех-четырех. Он был такой же молчаливый, серьезный, с протяжной худенькой шейкой, которая поднималась над грязной желтенькой маечкой. И от этой худобы, от серьезности, от старой изношенной маечки он казался тоскливым, болезненным и вызывал к себе жалость. У ног мальчика было воткнуто удилище, но смотрел он куда-то вбок, вдоль воды. То ли заметил там стрекозку, то ли задумалась душа над мальками, которые резвились у самой поверхности воды, то ли просто оцепенела. У воды так бывает, не объяснить... Вдруг старший рыболов вскинул удочку, засмеялся. На крючке трепыхалась рыбка, но мальчик даже не шевельнулся. «Надо ж так, вот дает пацан!» – подумал я с восхищением и закашлял громко, призывая к себе. Но никто не обернулся. А рыболов-старший снял рыбку, подул ей в рот и бросил обратно:
– Не та попала, – сказал он потихоньку, но я услышал.
– Прокидаешься, а на уху-то? – спросил я громким, веселым голосом, но он не ответил. Тогда я присел на корточки и стал наблюдать. И вот опять Яша рыбку подбросил, и маленький красноперый окунек забился на песке и затих. Окунек лежал удивленный, растерянный, он только жадно открывал жабры и не стремился к воде. Уже другая рыбка мелькнула в воздухе и ударилась о песок. Яша сиял, улыбался. Второй окунек лежал так же смирно, не двигался...
– Они что, померли? – спросил я, желая разговорить его, раскачать.
– Кто умер?
– Да рыба-то.
– Не знаю...
– Жарко, Яша... Давай купаться!
– Вспугнем рыбу, не буду я... – Эта вялость его, покорность передавались и мальчику.
– Как сына-то величают?
– Да Сашка...
И пока я сидел рядом с ними, этот Сашка не сказал ни слова. Правда, несколько раз посмотрел на меня, потом снова глаза уводил подальше. Там, на желтенькой камышинке, все билась, пыталась взлететь стрекозка. Да так и не могла поднять себя, видно, крылья подмокли. И сам Яша походил на эту стрекозку. Он то взмахивал удилищем – и тогда оживлялся, то опять потухал надолго, если поплавок замирал. Иногда мне казалось, что возле меня совсем пусто, – так они оба прилежно молчали, не шевелились...
И вдруг меня отвлек голос... Я повернул голову и точно очнулся от сна. Я стоял не на берегу, а в своей собственной комнате, и у меня что-то спрашивал Яша. Я улыбнулся, провел по глазам ладонью – интересно, что со мной было-то...
– Не понимаю, Федорович! То ли ты спишь, то ли оглох?
– Прости, Яша, я размечтался...
– Ну вот, а я давно дожидаюсь, – он уже отмяк, глаза были добрые. И у меня отлегло от сердца, стали уходить воспоминания.
– Как, Яша, нынче с рыбалкой? Окуньки попадают?
– Пустяками не занимаюсь! – Он ответил зло, с раздражением, видно, я затронул что-то больное. Но эта злость была ненадолго. Вскоре он опять подобрел – глаза разглядывали пишущую машинку.
– Сам печатаешь?
– Нет, нанимаю... Сам, конечно!.. – Я похвастал, не удержался – на все пойдешь ради старых друзей. Да и машинку свою я любил как родного, близкого человека, а может, и больше. И у Яши глаза тоже заблестели, он оживился, поднялся со стула и мерил теперь комнату большими шагами.
– По скольку в день лупишь?
– Чего?
– Статей-то! – уточнил Яша и стал смотреть изучающим взглядом. А я смеялся, душа ликовала: «Нет, ты, Яша, неисправим. Но куда же ты клонишь?..»
И я похвастался снова, чтобы его поддразнить:
– Каждый день по статье! Вот так, Яша, надо уметь... Да в школе такая работа!
Но он почему-то сник, погрустнел. Опять сел на стул и стал внимательно смотреть на машинку. То ли приценивался, то ли любовался. И сказал тихо, чуть слышно:
– Худо работаем, Федорович! Я бы тебе премию на праздник не выписал. Надо норму вдвое, втрое – тогда еще можно жить... Ну, а как у других?
– У других-то? За неделю – статья, только одна статья. – Опять я придумал и даже не рассмеялся, но очень уж хотелось его подразнить да заодно и выпытать понемножку – чего он хочет, зачем разыскал меня?
– А если машинка сломается? – спросил он тихим сдавленным голосом, и опять покраснело, набрякло лицо. Он страдал, волновался, а почему страдал – я не знал и терялся в догадках. Да и зачем ему эта машинка?
– Она и сейчас, Яша, поломана. Буква «о» отвалилась, заедает каретка. Но у меня есть мастер...
– Мастер-то – мастер, – повторил Яша и покачал головой. Щеки у него стали напряженные. Он притаился, как для прыжка. – Значит, ты теперь на простое?
– Почему? Я в школе работаю.
– Да зачем твоя школа?.. Значит, в эти дни ты не пишешь? – И Яша высоко поднял голову и весь обратился в слух.
– Пишу, пишу обязательно! Я уж так в это дело втянулся – даже во сне лезут строчки, как мураши. Погибаю, Яша, спасай меня от писательства. Увези на рыбалку! – Я засмеялся и распахнул обе створки окна. Последние лучи солнца выглядывали из-за крыш. На улице было тихо, свежо, как в деревне. Я вздохнул глубоко и зажмурился – хотелось встать ногами на подоконник и полететь.
– Постой, Федорович, не договорили. Тебе люди-то платят?
– Какие люди?
– Ну, которые в статьях у тебя?
– А за что?! – Я поразился, и все мое настроение пропало. «Может, он уже сумасшедший? Я не знаю, не ведаю, а он уже... Нет, не похоже».
– За что, за что... – заворчал Яша, и губа его еще сильнее оттопырилась. – За то, Федорович, что ты жизнь у него устраиваешь, возвышаешь человека. Жил-жил простой конь да коняга и вдруг – орловского рысака из тебя!.. Хорошо! Тут не только деньги отдашь, тут родную мать позабудешь. Лишь бы пропечатали да возвысили. Так оно, землячок! Слава нынче дороже денег... – Он опять разволновался, покраснело еще больше лицо, и выступил пот.
– Нет, Яша, никто мне не платит. Это мое увлечение, а в газете я – рабкор...
– Кто, кто? Да ты не скажешь, не выдашь. Секрет фирмы, аха? А я с горем к тебе, с большим горем. Ты уж послушай, не прогоняй...
– Да брось ты, Яша... Дело есть – говори.
Но он даже не пошевелился. Маленькая скорбная бороздка опять прошла через лоб. И вдруг спросил неожидан но, точно кулаком стукнул:
– Ты давно меня знаешь?
– Давно, давно, с самого детства.
– Ну и как он, Мартюшов Яшка? Хороший он человек? – И Яша захохотал, поднял голову, но смеялся он через силу, как будто выступал в самодеятельности. И я это понял и перебил:
– Хороший ты, Яша! Себе бы взял, да другие просят, не отдают.
– Кто они – другие-то?
А мне уже было смешно, чудно, весело. «И никакой он не шизик, просто сидит передо мной, ломает комедию. Не может же человек в пять лет измениться. Не может!»
Яша дышал теперь глубоко, запаленно, точно прошел сорок верст без отдыха, и теперь сбилось дыхание, и сердце ноет, колотится. И голос прерывистый стал.
– Ты смеешься все, надрываешься... А мне, земляк, не до смеха. Не до смеха мне, понимаешь... Неуж бы в город к тебе, потащился да от уборочной... Это надо бы понимать.
– Понимаю, Яша, все понимаю. Можешь во всем мне довериться, чем смогу – помогу, – я сделал серьезные глаза и перестал улыбаться, а он опять заговорил:
– Вот-вот, Федорович, поддержи меня. Из одного котла кашу ели. Помоги Яшке – не прогадашь...
– Ты не Яшка, а Яков Васильевич, – поправил я назидательно и опять улыбнулся. Но он воспринял улыбку по-своему и сразу обиделся: лицо надулось, точно припухло, а ладони задрожали, как от волнения, – видно, снова мучился, а может, гордость томила. Наконец, не сдержался, пошел на меня:
– Ты не смейся, землячок, и не гыркай! Заработано у меня отчество, – ох, как оно заработано...
– Ты не понял.
Но он даже не слушал.
– Думаешь, Яшка – человек сорной, случайной? Нет, дорогой, не получится. Вот бери да читай...
Он достал из портфеля целую кипу газетных вырезок и положил осторожно на стол. Вырезки пронумерованы, сцеплены канцелярской скрепочкой. Я начал быстро листать, но Яша отстранил мою руку.
– Не спеши, начнем с первой, вот с этой, – он отделил газетный листочек и положил сбоку, отдельно.
– Начинай с заголовка и не спеши. Скоро, знаешь, кого делают... – И он захохотал, нижняя губа отвисла от удовольствия. А я ушел в чтение.
Заголовок – «Морозы – сильным не помеха!» Первые абзацы прочел с какой-то внутренней игривостью, как будто не читал, а развлекал себя посторонним, но прошла минута, другая, и я увлекся – забыл про Яшу. Мой далекий собрат из районной газеты подробно расписывал: «Зима пришла с метелями, с трескучими морозами, вот уже январь на носу, а мы про это забыли. А скот-то взял да напомнил – в ряде колхозов начался падеж. А почему? Не доглядели? Нет, вопрос здесь сложнее – он в кадрах. Да, товарищи, – в кадрах! Где на фермах у вас молодежь? – с такими словами мы обратились к председателю колхоза имени Пушкина Сергею Павловичу Скляруку. И вот что ответил нам председатель: «Все случаи нарушения по скоту были в прошлом. Сейчас на фермах – молодежный призыв. Хоть и маловато молодых у нас, зато каждый человек – за троих. А примеры? А что примеры! Вот скотник Сосновского отделения Мартюшов Яша. Для нас он, конечно, Яша, а для всех давно Яков Васильевич. А давно ли ходил еще незаметный и скромный, но вот написали о нем в газете – и парень преобразился. Теперь он – настойчивый, крепкий, и от своего не отступит. Его портрет мы поместили на Доску славы. И не ошиблись. Мартюшов все время работает над собой. Его упрямую, волевую фигуру часто можно видеть в красном уголке фермы, где находится наша библиотека. Здесь он читает специальные книги, шлифует свою профессию. А недавно мы его наградили ценным подарком – преподнесли новейший транзистор. И сейчас каждое дежурство на ферме он скрашивает себе музыкой и песнями на всех языках. Скотник значительно вырос в культурном отношении, да и в семье у него – полный порядок. Его жена, учительница начальной школы, Фаина Нечеухина-Мартюшова помогает мужу во всех начинаниях, во всех делах, и больших, и малых. Ее помощь – дружеское слово, поддержка, а порой и простая человеческая ласка – не проходит никогда даром. Ведь мужья – тоже люди, и она об этом не забывает. Вот какие у нас прекрасные кадры! И теперь мы смело встречаем морозы и твердо знаем: все тяготы текущей зимы, конечно, преодолеем, и порукой такие люди, как Мартюшов».
– Такие люди... – машинально повторил я вслух и отложил статью. На душе стало легко. За стеной соседка играла Шопена. Эти чудные печальные звуки, эта радость, что Леночка близко, рядом, сидит сейчас, грустит и ни о чем не знает, не ведает, этот воздух, который смешивается с цветами и вечерней прохладой и наплывает теперь на окна и подмывает грудь, обволакивает – все это делало меня почти счастливым. И хотелось продлить мгновение, но Яша помешал снова.
– Да-а, Федорович... Такие люди, как я, не валяются. Возьми еще, почитай, – и он подвинул мне новую вырезку.
Но я достал сигарету. Глаза у Яши сияли, наверное, радовался за статью. И пока я разминал сигарету, он с готовностью зажег спичку и наклонился ко мне близко-близко, почти задел головой. В этом было что-то угодливое, не простое, и я отодвинулся, но он не заметил. Глаза его все так же сияли, и от всей сильной фигуры несло телесным жаром и напряжением, и дыхание снова было тяжелое, как будто за ним гнались. «Да что с ним? Как все-таки изменился... Ничего не осталось от прежнего, но почему?» И еще что-то я себя спрашивал, потом поднялся со стула и подошел к окну. Звуки пианино здесь были резче, слышнее, – музыка тянулась к людям, на волю. Внизу шли прохожие и смотрели на окна. А краешек солнца все еще цеплялся за крыши, как будто не хотел сдаваться, но это было уже недолго – всего минута, и вот уж нет этой минуты – и сразу погасли крыши. А потом в небе поднялась зорька. Она поднялась в том месте, где только что еще было солнце, и свет от нее был такой нежный, пунцовый. Как будто огромный помидор лежал за горизонтом, нажми на него – брызнет сок. И вдруг случилось несчастье – я пропустил тот момент, когда пианино зазвучало по-иному... Почему? Что заставило? Я кусал губы и думал. Может, вечер подействовал, может, пришло другое настроение? Но я не мог отгадать и не мог оторваться от новых звуков. Они были сплошное рыдание. Нет, это уже не грусть Шопена, а это что-то очень старинное, давнее, как иконы Рублева. «И какой молодец эта Лена! Какие успехи! Не ожидал...» Музыка взяла в плен и понесла, понесла... И душа моя полетела и была уже высоко-высоко... Когда слушаешь старинную музыку – хоры, хоралы, – кажется, представляется, что это говорят с тобой давно умершие люди. И страшно тебе, и благостно, и ты видишь их, как живых. Они идут по горам, по травам, идут по рекам и по волнам. Идут куда-то в своих белых одеждах и видят нас, еще не рожденных. И вот все ближе, ближе эти шаги. Даже слышно дыханье. Еще миг – и ты узнаешь всю тайну. Но в этот миг Яша снова отвлек меня:
– Нехорошо, Федорович! Неладно делаешь...
– Чего?
– Все молчишь да вздыхаешь. То ли друга схоронил? А начну говорить – ты не слышишь.
– Чего я не слышу?
– Того! Носом крутишь да бегаешь к окошку... Я комбайн бросил, приехал, все газеты собрал... – Его глаза смотрели опять в упор, осуждающе, а руки волновались, подрагивали, и он не мог это скрыть. Потом достал расческу, причесался старательно, вдруг взял сигарету, взял машинально и сразу сломил ее, выбросил. И опять – глаза на меня. В глазах плавало злое, зеленое, наверное, они меня ненавидели. И горько, и забавно...
– Нехорошо, Федорович. Как неродной. Люди за людей теперь держатся, а мы с тобой земляки.
– Верно, Яша! Я понимаю... Вместе в школу ходили, вместе играли. А теперь судьба развела...
– Нет, дорогой, не то! – Он смотрел на меня, как прокурор-обвинитель:
– Судьба, говоришь? Подзаелся...
– Куда клонишь? Договаривай, Яша.
– Я-то договорю. А ты даже не угощаешь земляка. А у меня с обеда в роту пересохло. Не пил, не ел, торопился. К тебе, между прочим. Но дело не в этом. Мы – народ не голодной...
– А в чем дело? – Я улыбнулся, призывая его к тихой, мирной беседе. Он заметил мою улыбку и недовольно поморщился. Потом начал поправлять галстук и покачивать головой, а с лица все не сходило брезгливое выражение.
– Я к тебе, можно даже сказать, стремился. И галстук этот напялил, рубаху. Я тоже бывал на народе, я понимаю... – Он на какое-то время задумался, потом продолжал: – И тебе бы, браток, по-простому...Ну, бутылочку бы поставил, огурчиков. И другой бы какой закуски.
– Ты же нынче не пьешь! «Я теперь не могу! Завязал окончательно...» – Я попробовал передразнить его голос, его интонацию, и мне почти удалось, но все равно на душе было муторно, да и злило его новое ко мне обращение – браток. «Откуда тон такой, снисхождение? Почему терплю его, не взорвусь?» – Все эти вопросы нахлынули разом, закружили меня, еще больше расстроили. И сколько бы длилось это – не знаю, но Яша начал посмеиваться, отвлекать меня. Смешок опять с обидным значением:
– Хорошо, браток, ты разыгрываешь. Но только сильно не хохочи – не советую. Мартюшов за свои слова отвечает. А то, что бросил я, завязал – так и есть. Вся деревня подтвердит. Ты спроси у любого.
– Верю, Яша, – поспешил успокоить его, но он уже разошелся, опять посмотрел на меня прокурором:
– Еще б не верил! Мартюшову все верят, уважает народишко! Ты где-нибудь запиши – то забудешь, – он улыбнулся и заворочался всем телом, как волк. Я тоже рассмеялся, желая поддержать его шутку:
– Запишу, Яша, запишу обязательно!
– Ладно, дорогой! Доверяю... – В его голосе опять было какое-то снисхождение, и это задело меня, обидело. Но он не дал мне уйти в себя.
– А теперь бы за встречу не помешало бы?.. Мы одни сидим, без свидетелей.
– Ты же завязал, Яша? – опять решил его сбить, но он вывернулся:
– А для дела-то не считается. И закусон бы не помешал. Я много не требую: один огурчик пополам, помидорка... Я не какой-нибудь Коля Зырин – я помногу в гостях не обедаю.
– Кто этот Коля?
– О чем я тебе говорил? Забывать ты начал народишко. Оторвался сильно от масс, погиб...
– Я не погиб.
– Ну ладно, слово-то вылетело... – И вдруг он засмеялся громко, раскатисто. Даже вспотел и достал платок. И пока смеялся, все смотрел на меня с укором, почти презрением – кто, мол, это сидит перед ним? – Неуж забыл Колю-плотника? В конце деревни-то? Дом большой еще, с палисадом...
– Знаю, помню Николая Ивановича. Ему, поди, семьдесят стукнуло, а ты его Колей...
– Опять нотация, дорогой? Про запас бы оставил. В твоей школе потребуется, – он рассмеялся, скривил лицо. – Я Зырина знаю как дважды два. Деловой старичонко. Только отвернись – и заглотит.
– Он не щука.
– А ты не защищай, не защищай. Я его не ругаю, может, даже завидую.
– Почему? – мне опять стало одиноко, тяжесть навалилась какая-то беспросветная. Как будто шел я по сырой осенней дороге, и сверху дождь, сбоку дождь, и одежда вся вымокла. И нет конца этой слякоти, и ноги еле шагают. «А еще час тому назад я дышал во всю грудь. И солнце было, и музыка, и было хорошо, хорошо... А он пришел – все отнял...»
– Почему, говоришь, браток?! А мне тетка моя рассказывала. Ты знаешь ее?
– Знаю, Яша, давай...
– А ты послушай – полезно. Старички тоже умеют жить. Попросила она его крышу для баньки да пазы забить планками, а то воробьи весь мох повытаскивали. Показала ему фронт работ. Он для виду повздыхал да покашлял, а потом заломил сто рублей, и чтоб еда, мол, хозяйская. Тетка-дура согласилась. А потом Зырин ее довел. Ты слушаешь меня, браток, не заснул?
– Слушаю, – ответил я вялым, разбитым голосом. Его слова доходили уже приглушенно, как будто сквозь вату. На меня напала хандра. А может, это все та же усталость: чему быть, того не миновать. Если надо этому Яше меня мучить и допекать – пусть мучит и допекает. Я уже стал примиряться, успокаиваться, все во мне засыпало и укладывалось в какой-то теплый уютный комочек. И в таком состоянии я б, наверное, оставался долго, но Яша пошел на приступ. Голос у него окреп и звенел, как струна:
– Я тебе, Федорович, зевать не позволю! Сам же к Зырину поимел интерес – так будь человеком!
– Я слушаю, продолжай.
– А мне что продолжать – это Зырин продолжил. Посадит его тетка за стол, а старичонко командует: горшок мяса подай и даже не разговаривай. И чтоб полный был, до краев. И сметану подай, и блинов на субботу постряпай, и рюмочку выстави. А за первой рюмочкой – и вторая. Таким обжорой заделался. Сто рублей-то ему мало за крышу, так он натурой решил. На-ту-рой! А кто осудит его? Ты осудишь? Вот-вот. Пока тетка моя разбиралася – он у ней на двести рублей выпил да съел. Да сотня чистыми! А что, браток, не согласен? А я вот буду согласен – материальная заинтересованность. Шаг ступил – оплати. Так что все у Зырина по закону. Топором не удалось деньгу выбрать – так животом добрал. Ох, молодец! – Яша захохотал на весь дом. Лицо его сразу покраснело, а вместо глаз остались узкие щелки: один только разрез и никакого зрачка. – Ты что, браток, набутусился? Все сидишь да воротишь лицо?
Он прав, мне не хотелось смотреть на него. Хандра проходила, но вместо нее подступала злость. Я злился на себя, и на Яшу, и на хитрого Николая Ивановича, которого никогда не любил. И еле сдерживался, потому что он опять стал хвалить Зырина:
– Вот кто будут настоящие хозяева! Не упустит свое человек!
– Кроты это, а не хозяева!
– А ты не завидуй. Полагаю – завидуешь. И тебя уважать начнут, но не все сразу. Признает народишко. Я вот к тебе с уважением...
– Благодарю, Яша! Не знал... – Я рассмеялся, но он не заметил иронии. Глаза его подобрели, и все тело как-то на глазах размякло и растеклось.
– Значит, в холодильнике твоем пусто? Нехорошо! Но я сам тебя угощаю! Мартюшов Яша всегда с запасом... – Он запустил руку в свой бездонный портфель и достал бутылку коньяку и несколько шоколадных плиток. Шоколад бросил на стол широким хозяйским жестом.