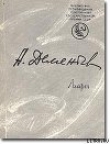Текст книги "Провинциальный человек"
Автор книги: Виктор Потанин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
И вдруг ветер откликнулся. Он налетел на меня плотной стеной, и скоро начался шумный, веселый июньский дождь.
РАССКАЗЫ
Светлые звезды
Трудное, трудное – все забывается,
Светлые звезды горят.
Николай Рубцов
В счастливую пору юности многие пишут дневники. Дело это, конечно, святое и тайное и берет много сил. Но что придумать, ведь человеку нужны исповедь, очищение, а дневник помогает ему.
Была и у меня такая тетрадь. Работал я в те годы в молодежной газете, успевал везде ездить, все видеть и слышать. И столько радости, гордости копилось в душе от того, что у меня такая чистая жизнь. Потому и завел дневничок. Писал его от полноты чувств, от постоянной душевной бодрости, а может, просто возбужденное сердце требовало действий, каких-то слов и признаний, иначе бы оно совсем переполнилось, порвало бы грудь и улетело.
В ночные часы и открывал дневничок. Сколько здесь накопилось! Сказал бы сейчас откровенно, да стыдно, неловко. Откроюсь только в одном: по всем страничкам разливались, как море в прилив, разные монологи, признания, были здесь и картинки и моего первого любовного чувства и все муки при этом израненной робкой души. Было и такое, от чего совсем теперь стыдно – так написано прямо и горячо.
Можно подумать, что улыбаюсь теперь, посмеиваюсь над этим. Нет, конечно, не улыбаюсь. Наоборот, возьму в руки тетрадку – и грустно станет, и горло стянется горькой спазмой – неужели все было, неужели прошло?..
Случались в дневнике и деловые странички. Они возникали из писем от родных и знакомых – моих земляков. А писем шло много, особенно из деревни. Думали тогда деревенские люди, да и теперь порой думают, что газетчик – это самый крупный начальник, ревизор какой-то, который может единолично и наградить, и приласкать хорошего человека, а худого, наоборот, наказать и на столб позорный приклеить, и тогда хоть кричи-закричись, а из позора не выйти. Многие звали в колхозные дела вмешаться, кое-кого изловить с поличным – народ все видит, все знает. И таких писем шло много, и я их хранил. Думалось, когда-нибудь соберу в одно место эти просьбы, наказы, и получится книга. А то мало ли – дунет посильней, налетит ветер житейский и развеет золотые крупинки, и тогда хоть плачь, хоть руками размахивай, а что толку – не выревешь, ничего не соберешь.
А между тем дневничок распухал, наполнялся, и я полюбил его перелистывать в ночные часы. А потом вышло, что он стал помогать в работе. И здорово помогать.
Вызовет, к примеру, редактор и скажет сквозь зубы, что, мол, дружок, засиделся, оброс зеленым, но не горюй: мы тебя любим и ты нас полюби – привези очерк в воскресный номер. Легко сказать – очерк, да я не плачу: темы-то под рукой. Приду к себе, дневничок достану – ага, чем землячки мои хвастают? И нахожу, что надо. Редактор выписывает командировку, и я уж в родном районе.
А работали мы по декадам. Это было удобно, да и выдумки не просило. Скажем, пришел сенокос, и мы все пишем о травах, хвалим донник, люцерну, стогуем, прессуем, а для стиля расписываем луга, июльские росы и даже помещаем о сене стихи. А вот страда грянула, и мы в каждой строчке валки подбираем, расписываем комбайнеров, едем с первой машиной на элеватор, опять часто сбиваемся на стихи. И все хорошо, газету хвалили. Но были, конечно, и отклонения. И у сильного сердца есть перебои. Допустим, выйдет в области с молоком затруднение, – и мы бросаем свои дела и начинаем писать о надоях, о рационах, ездим в гости к знатным дояркам. И снова не придерешься. Но была у нас одна слабость, тайное родимое пятнышко, которое и не каждый заметит. А сказать о нем надо.
Пишем мы, например, о шофере, сообщаем, сколько он перевез хлеба, как он ночами не спит – все с машиной в любви объясняется, а вот как он достигает своих рекордов – не пишем. Так же и о доярке, о комбайнере. А почему? Потому что не хватало нам знаний, сноровки, а точней – опыта жизни. Народ в газете собрался молодой, городской, необъезженный. Многие по первым дням думали, что хлеб в пекарне растет, а молочко из колодцев черпают. Это шутка, конечно, но в ней – сильный намек на правду.
Вот и тот случай вышел из-за молока. Вызвал меня редактор к себе и сразу к делу: – Вот что, тезка (его тоже Виктором звали), нужен подвальчик о пастухе. И чтоб опыт, опыт был! Хватит лирики, погремушек. Покажи человека! Я только с актива – в пяти районах завал с молоком. Слышишь, завал! Одним словом, с тебя пастух, который и травы знает, о деле заботится. Одним словом, горит...
– Старого, молодого надо?
– Твое дело. Если пожилой, а молодых учит – тоже наш человек, – редактор посуровел. Он любил в себе эту суровость.
– А из своей деревни можно? – спросил я робким, упавшим голосом. Моя робость его всегда подкупала. Он засмеялся и вскинул вверх руки, точно бы защищаясь:
– Ну-у даешь, ты уж их всех прославил. А впрочем, если есть на примете... Да и ты, говорят, тоже в пастухах был?
– Был по детскому делу...
– Хорошо.
– Значит, можно? – спросил я робко и простодушно, но он не заметил игры в моем голосе и пришел в хорошее настроение.
– Где у коров молочко-та?
– На языке! – я засмеялся, обрадованный его шуткой.
– Вот-вот, и пиши, – и он взглянул ласково, как на брата.
А вечером я открыл дневничок. Быстро нашел, что хотел. Это было письмо старика Данилушкина, моего земляка. Работал он когда-то в сельпо, но подвела грамотешка, из сельпо ушел на ферму учетчиком, да вскоре заболел и перекочевал в сторожа. Работа простая, зато времени много, а забот, наоборот, совсем мало. Это пустое время и смутило его – он решил составить историю родного села. И дело сразу увлекло, захватило, да и сидел в кем давно пытательный краевед. Пусть грамоты мало – зато сколько желания! И он сразу решил связаться с редакцией, а точнее – со мной. Завалил меня деловыми расспросами и рассказами. И вот я читаю его послание, читаю внимательно, с карандашом. Данилушкин сообщал для редакции историю Тимофея – знатного человека и пастуха.
Вначале сообщал год рождения, происхождение, а потом, словно бы нехотя, приступал к основному. Письмо было длинное, скрипучее. Данилушкин, видно, не терпел спешки и все мысли свои вязал в длинную причудливую цепочку, у которой не отыщешь ни конца, ни начала, но я хорошо разбирал эту забавную хитрую вязь. Но все равно начну теперь не с начала, там особенно много тумана, как говорится, не разберешь, не покушав. Начну примерно с десятой страницы: «От утраченного детства и памяти пройденных следов Отечественной войны у Тимофея выработалось сознание и сочувствие к сиротам. Многим он помогал, чем мог, за свою многолетнюю жизнь. Как-то пришла к нему за советом сирота Танечка Красноселова, дочь погибшего отца на фронте, и мать схоронила скоропостижно:
– Как быть, жених находится, но не рискую? – сама глаза опустила: дай, мол, совет, повороти лицо. Ну что – загадала загадку. Тогда пошел Тимофей в правление, узнал про жениха то, другое, а потом помог молодежи объединиться, пустил их к себе на квартиру. Одна-то комната у него пустая – вдовый он, без детей. Отдал им на первый случай стол, стулья, разную мелочь. Потом они в Курган переехали, на производство. Татьяна – на кране, муж подсобным, а про Тимофея не забывают. А он все живет в таком роде. Да и супруга была такая же: не согрубила, не соврала. Увидели они вдвоем, что с краю, у поскотины, живет больная безродная Хазова. Они взяли ее к себе, отогрели, и жила она с ними одиннадцать целых лет, как своя да родная. Они и проводили ее на вечное поселенке.
А недавно совсем новенько вышло. Подсчитал Тимофей возможности существования, да и сдал две тысячи рублей в доход государству на содержание безродных детей. И сразу велел эти деньги переслать переводом куда-нибудь за границу: там, пишут, сирот полно, голодающих. А не примут туда, то переслать за море, где война была и тоже сирот расплодилось...
А теперь слушайте меня, наклоняйтесь поближе. Вы мальчишек Семеновых, поди, не запомнили? А я запомнил – рядом живу. Узнали они про добро Тимофея, стали захаживать. И Тимофей полюбил их, безотцовщину, привязал. Побольше выросли, дальше кинулось дело. Тимофей повез их В универмаг, там одному купил гармошку, другому – велосипед, а третьему – школьну форму. Сейчас двое учатся, а третий, комсомолец Григорий Семенов, служит в Советской Армии и благодарит Тимофея за помощь и наставления. Видно, и к армии тот его приспособил.
А теперь Тимофей кочует на выпасах. Дело знакомое – день, ночь на лугу – не оттащишь. Всем пастухам наш пастух! А недавно взял казаха Арбаева, пожалел человека. Не пожилось тому с сыном, да и сноха горяченька, и он скрылся от них со скандалом, чемоданишко – на плечо да в дорогу. Заехал проездом и остался. Тимофей его у себя поселил, ходит, как за близкой родней. И живет тот, как у Христа за пазухой».
В письме расписывались и другие достоинства знатного пастуха Тимофея, но я уж не привожу те странички. Просто не терпится рассказать о самой дороге, о живой встрече, о разговоре.
Какая радость – ехать в родные места! С чем сравнить это – ни с чем не сравнить. И в теле твоем – особый восторг и легкость, и все люди теперь родные, и все мысли сговорчивы с сердцем, – и все потому, что едешь, едешь туда, где родился, и скоро совсем доедешь. Как скажешь, опишешь? Пусты слова и бездумны. А вокруг – зной, середина лета, горький и сухой воздух, под колесами пыль взрывается и несется к небу. А небо, какое небо! Кружатся и несутся за тобой бойкие серые птички – то ли жаворонки, то ли что-то помельче, но все равно радостное и живое. И ты стремишься за этим полетом, и так же кружатся, не поспевают мысли, и ты вдруг чувствуешь, понимаешь такое ясное и простое, что все здесь твое, родное до боли, и даже пыль твоя, еще знакомая с детства, и эти поля, поля с пожелтевшей раньше срока пшеницей – тоже твои, навеки родные, и куда бы ты ни уезжал от них, куда бы ни скрывался, – они всюду будут стоять в тебе до последнего вздоха. И в этом радость, успокоение и тот смысл, который многие ищут. И воздух – тоже твой над полями, и он тоже понимает тебя, тоже в согласье. Вот и село показалось, и сердцу еще больнее. Да что долго рассказывать, и так каждому ясно: есть дом у тебя – и есть в тебе человек, нет дома – нет в тебе человека, одна тень.
Вот и улица, все дома повернулись ко мне. Вот и главная встреча, Да что говорить, как встретил меня Тимофей. Понятно, что хорошо встретил. Ведь я знал его почти с самого своего рождения, знал и сироту Танечку Красноселову и с братьями Семеновыми на рыбалку бегал, знал и старушку Хазову. Давно ли еще стоял среди высоких сосенок и кидал горстями желтый песок в створ могилы, где светлел внизу белый гробик с уснувшей навеки Хазовой?
Но встретился я с ним не в деревне, а на выпасах. Здесь жил он с напарником, здесь они спали и ели. Тимофей все смотрел на меня, а я долго не шел к разговору, да и казаха боялся. Казах этот, Арбаев, головой грозно покачивал, точно в чем-то меня осуждал, а может, сердился. И я сразу понял, на какое трудное дело обрек себя. Задал им какой-то вопрос о работе. Арбаев грозно сверкнул глазами, а Тимофей сморщил лоб.
– Что писать, зачем писать? Проживем без газеты...
А день между тем остыл, поднялась прохлада. Запахло дождем, но ничего не случилось – это просто отсырели травы и отдыхали. Стемнело быстро, внезапно, как на горячем юге, – и запахов стало еще больше, луга отдавали от себя все ароматы и испарения, чтоб к утру опять встать в полный рост, отдышаться.
Мы развели огонь. Здесь же, на траве, на обрыве решили заночевать, а пока сидели и грелись. Тепло, тихо, уютно. Огонек стоит вертикально, потрескивает – и этот звук усыпляет. Но мне делается почему-то тревожно. Прошло уже часа три, а я ничего не узнал. И блокнот достать не решаюсь, боюсь Тимофея, боюсь Арбаева, боюсь своих слов. Вдруг не то спросишь, не угодишь – и начинай все сначала, а время не ждет.
Арбаев подбросил в костер сухой травки, огонь взвился, отбросив тени, стала гуще, пронзительней тьма. Пришла уже настоящая ночь, уже в небе поднялись звезды, само небо сделалось таинственным, необъятным. Казалось, что поселился в нем кто-то живой.
Тимофей не слышит, не замечает. То ли отвык от меня, то ли задумался, но все равно от его молчания страдаю. Обнялись, поцеловались при встрече, а теперь отвернулся, точно чужой. Но не сдаюсь. Опять подбираюсь к нему с вопросами то с ближнего, то с дальнего боя. Но слова мои не задевают, проходят мимо, да и Арбаев незримо сторожит меня своим взглядом. И тогда я тоже начинаю молчать. И все слышнее становится ночь. И эта ночь приносит предчувствие. Что со мной – сам не знаю, но отчего-то тревожно, нехорошо. Даже сердце стало побаливать.
А костерок почти без движения, прогорел. Молчание наше сводит с ума. И тогда пробую говорить, хвалюсь друзьями, газетой, чудесным городом, где живу теперь, но пастухи точно уснули, забыли. Пробую подражать им – ложусь на спину и закрываю глаза, но сон не идет, и тревожно мне: опять кажется – смотрит с неба кто-то живой. И в этот же миг слышу слабое бормотанье – живой голосок. Откуда же? Что со мной? Может, сплю уже? Нет, не сплю я. И Арбаев молчит, губы сжаты, закаменели. Значит, сам Тимофей. О чем? Еще больше прислушиваюсь и точно узнаю – Тимофей! И такие забавные бормочет слова: «Звезды-то, звездочки!.. Опять взошли, показались». И чудно: что увидел он в той большой вышине? И я тоже поднимаю глаза, но ничего не могу разобрать, а звезды кажутся злыми, холодными. Устаю смотреть, пододвигаюсь к огню.
– Патбрось дровес, патбрось! – приподнимается на локтях Арбаев, а я думал, что он заснул.
Загружаю костер сухой травкой, мелкими палочками, корой, и скоро весь огонь лезет к небу, горит сильно, неистово, и Арбаеву хорошо.
– Ай, тобрый паринь!..
Я почему-то его побаивался, а теперь обрадовался его похвале. Смотрю открыто в круглое лицо без бровей, улыбаюсь, и он улыбается. На голове у него тюбетейка или шапочка, не знаю, как называется, она плотно втиснулась в голову, голый череп под ней. Арбаев не снимает ее даже во сне. Огонь горит весело, но я снова подкладываю сушняку, – и костер еще больше. Арбаев подвигается ко мне совсем близко, говорит что-то, хохочет. Он плохо выговаривает русские слова. Если заторопится, то совсем не понять.
– Я трыдцать лет пастух та пастух. Ты в Кустанае бывал, не бывал?
– Не бывал, – отвечаю, а самому делается сразу весело и легко. И Арбаев не кажется больше злым, да и сам акцент его притягивает. Потом чувствую: он хочет сказать очень важное, дорогое. Медленно поворачивается всем туловищем, и по этому повороту слышу, что он совсем старый, как и мой Тимофей.
– Нато в Кустанае бывать, нато! – заключил он решительно и закурил. И с этой минуты курил уже беспрерывно. Стал рассказывать про свой край:
– Тут волка нет, я не витал, а там, мать мая...
Он поцокал языком и по-детски заглянул мне в глаза. Я слушал внимательно – он успокоился.
– Атин раз весь баран аттыхал. Карашо та тепло. Запаминай...
– Запомню, – пообещал я Арбаеву, и он быстро-быстро закивал головой, точно согласился. И заговорил, заспешил, слова запинаются, и пропадает весь смысл.
– ...баран спит, мы шай пили та пили. Некарашо. Патом спим та спим. Запаминай...
– Я слушаю, слушаю, – откликаюсь ему.
– Напал волк, а мы спим, ай-я-яй. Некарашо. Он баран карабчил та на озеро, на камыш... – и затих на миг, чтоб раскурить папироску, но я уж его тороплю. Радуюсь, что пришел разговор.
– И задрали баранов?
– Пачиму? Не затрали! Мы праснулись та тагнали. На камыше лежат та лежат, ай-я-яй. Патом дакалоли, араку пили. Карашо, ах, кара-шо! – и лицо у него плывет в улыбке, становится совсем широким, бабьим, послушным. Ноздри вздрагивают от табачного дыма. Вот чувствую, замечаю: он опять хочет что-то сказать, но вдруг высоко задирает голову. Слушает. Рядом, по реке, точно бы двигается лодка. Потом убеждаемся: действительно лодка. Скрипят уключины и хлопают весла. Мы все: и я, и Тимофей, и Арбаев – очень сердиты, словно нежданный враг нарушил наши владения, да и зачем плыть в ночь, в темень такую – не иначе отправились за худым делом. Весла, наконец, удаляются и стихают.
Арбаев снова ложится на спину. Но я уж не могу теперь быть спокойным – очень хочется задать ему много вопросов: о работе, о травах, о родном доме, наверное, тоскует о нем, стремится... И я решаюсь:
– Давно с Тимофеем пасешь? – спрашиваю тихим, упавшим голосом и жадно дожидаюсь ответа. Потому волнуюсь, что опять начинаю думать о своем очерке, и рядом с этой мыслью мелькает надежда, что Арбаев поможет.
– Не лезь к человеку, ему спокой нужен.
– Какой спокой?
– А понимай, не расспрашивай. Он усталый, умученный, от сына уехал.
– Не ната, не ната, – взмолился Арбаев и замотал головой.
– Не ната!.. Надо, надо! – вспылил Тимофей. – Ты скажи ему, как сноха тебя любит, целует да в шею гонит.
– Некарашо, – рассердился Арбаев, даже на ноги вспрыгнул по-молодому.
– До хорошего мы с тобой не дожили, да, поди, доживем... – голос у Тимофея вздрогнул, осекся, и он взглянул виновато.
– Кричим, Витенька, а, поди, неладно, да как не кричать-то? Он, Арбаев, дитя, младенец, все бусит, колгочет кого-то, а за себя – молчун. Святой, безгрешной...
– Зачем святой, некарашо сказал, – он закурил и стал ворошить в огне, – шай пьем, араку пьем, какой святой, не ната святой...
– Вот видишь, видишь, – обрадовался Тимофей. – Кого ему за себя, да никого. Вот и взялся я прямо, по-нашему разъяснить, – кто такой есть Арбаев. Да письмо туда, да второ, да третье. Они, правда, тоже ответили. Сын, вижу, переживает. Потом и сноха прислала, ну, я вовсе ожил, вздохнул да снохе в тот же день исписал всю тетрадку, закатал в конверт, отправил. Она тоже не затруднилась и отписала – такие мелкие кругленьки буковки. Вижу, старалась, с душой выводила. Да что говорить – теперь уж просят обратно, и сноха, главно, просит: все папка да папка, прости меня, извини... Так что суши сухари, Арбаев. В дороге-то сухарек – добро.
– Поету, скоро поету! – смеется Арбаев. И смех у него торопливый, счастливый, какой-то пьяненький смех.
– Конечно, поедешь. Как не поехать – к сыну зовут... Опустеет опять моя горенка, – Тимофей тяжело вздыхает и поворачивается ко мне своим худеньким тельцем.
– Сколько мне осталось годочков, Витенька, ты не знаешь?
– Еще сто да еще по сто, – я пробую отшутиться, а ему нравится моя шутка.
– Смейся, скалься над стариком. Смешны дак...
Я сам сразу повеселел. Стало жаль его. Но это была обычная жалость и снисхождение к старым: нам жить, а им умирать. Взглянул на Арбаева. Он положил под голову ватник и задремал. Улыбка на лице не прошла. Наверное, притворился, что задремал.
Огонь опять чуть живой, но идти за сушняком далеко. Не шевелюсь, затихаю. И спокойно, и грустно – опять не получилось с вопросами, опять тяжело за газету. Но эта грусть не терзает, не давит и не мешает мыслям. И в груди тоже легко и свободно.
Рядом с нами оживает река. Сейчас кажется, что по ней снова крадется лодка – колышутся весла, поскрипывают. Но это – обман, так бывает, когда долго выслушиваешь тишину. Да и скрип тот от песочка: намывает вода на отмель, и песочек укладывается на новом месте, скрипит. Костерок наш почти потух. На него уже валится первая ночная роса, но угли еще не хотят сдаваться, попыхивают, но это уже перед последним вздохом, концом. И если бы не роса, если б не слабые звуки речные, то можно б подумать, что костерок наш горит где-нибудь в небе, и сами-то мы тоже не на земле, а в небе – так тихо, таинственно, так необъятно. И кажется, что и душа твоя поднялась, ушла от земного, совсем-совсем распростилась с телом – и вот уж летит, и несется куда-то, и нельзя остановить, замедлить этот вольный полет. Но куда же стремится, чего ждет она и чего просит – и сам ты не знаешь и, поди, не узнать. И думать бы так еще долго, да отвлек голосок.
– Поди, скоро умру я, Витя?..
– Что сказал?
– Умру, поди, скоро...
– А сколько сейчас тебе? – спросил я так, машинально, а сам был там, высоко, где летали мои вольные мысли.
– Разве надоел тебе, Витенька? – не отставал от меня Тимофей.
– Не надоел.
– И ладно. Не огрубил, меня. Хорошо... А потому я, сынок, долго живу, что со своей Катериной друг другу даже «плевать» не говаривали. Да корешки попиваю.
– Все пьешь?
– А как? Выпьешь, как на пол ступишь, а до того – как шагал по болотине: ноги вязнут, подламываются... И дыхать потом хорошо. А ты не забыл, как колок обкашивали?
Я улыбнулся: он ведь учил меня тогда литовкой помахивать, и натолкнулись мы тогда возле колочка на птичье гнездо – моя литовка наткнулась. Из гнезда большая птица выпорхнула, а маленькие птенцы остались. Они и разжалобили меня, ведь я их домик разрушил. А Тимофей утешал. Когда это было? Опять улыбнулся, но радости не пришло. Наоборот, что-то больное задело.
– Значит, забыл?
– Да почему же! – спохватился я громким голосом, даже Арбаев во сне заворочался.
– Вот и ладно, успокоил, сынок... – и он опять замолчал. А я-то надеялся, я-то ждал, готовил вопросы, думал, разговору у нас будет на целый очерк. Но все равно жду еще, смотрю вопросительно, но он не чувствует моих глаз и молчит. И опять покоряюсь судьбе И решаю с какой-то горькой злорадностью – не хочет говорить и пускай, мне тоже надо о многом подумать, как-никак в родное село приехал, на своем родном лугу запалил костерок.
А я и вправду держал в душе те далекие трудные дни. И как птенчиков в траве напугали, еле спасли от литовки, как ходил я в подпасках у Тимофея, как на заработки свои покупал к школе пальто и шапку. И какая то была работа тяжелая: по жестокой жаре плетешься за стадом, устанешь, ухлопаешься, а кто поможет – никто. Это теперь все пастухи – на конях, а тогда лошадка только у бригадира, и он тоже не столько ездит, сколько поглядывает на нее. Одно избавленье – обед. И особенно его Тимофей дожидался. Дождется, воткнет в землю две палочки, сверху – третью, а внизу разведет огонь, котелок двухлитровый подвесит, сам на огонь смотрит, не оторвется. И только вода забулькает, он бросит в нее заварку и опять ждет минут десять. А заварка – тот корешок и есть. Он называл его осолодкой, а как зовут правильно – я не знаю. Но только чай драгоценный! С такого чая – самый дремучий сон. Выпьет котелок в два приема, потянет плечи в сонной истоме и здесь же повалится. И только голову донесет до травы, зашвыркает носом. А сверху – самое солнце да и по телу – испарина от горячего чая, и голова ничем не укрыта, но Тимофей спит бесстрашно. Хоть пали из двустволки – ему все равно. Другой бы умер под такими лучами, но ему даже нравится. Наклонишься, а на щеках – улыбочка тихая, с тайной улыбочка. Она то стягивает, то разжимает лицо. А кожа темно-вишневая, видно, от сильного прилива крови, а дыхание все равно счастливое, отчетливое: видно, спокойно сердцу. Проходит час, и Тимофей просыпается. Сам виноватый.
– Не надоело, сынок?
– Чего?
– Сплю да сплю – не больной, не пьяной. Хоть бы подошел, в бока попинал.
– Зачем?
– Сплю дак... – и он смеется, потом глядит пристально.
– Давай хоть посидим личико в личико. Поговорим давай.
– О чем говорить-то? – удивляюсь я, ведь из него говорун такой же, как из меня певец.
– Хочу до ста лет прожить да людям помочь... Ты не против, сынок?
– Живи, живи, – разрешаю я ему и смеюсь. Он тоже посмеивается и опять молчит. В его прямых зрачках затаилась мысль.
И сейчас молчим. Под обрывом струится река. Звуки ее так же тихи, сонливы, как движения слабого верхового ветра. Вроде и ветра нет, а чувствуешь, замечаешь, как движется воздух, особенно когда повернешь навстречу лицо. И незаметно обо всем забываю – в голове поднимается туманная тяжесть, глаза сами по себе закрываются, и я ложусь. Но что-то мешает: по спине идет от травы прохлада, да и мигают звезды. Они сегодня особенно яркие, налитые, живые. Они выстраиваются в причудливые дороги, и чем сильнее в них вглядываюсь, тем их кажется больше и больше. Опять чудится что-то живое в их синем мерцании. Отчего это? Может, ночь виновата? Может, безлюдье? Тимофей лежит рядом неслышно. Дыханье такое же легкое, как у ребенка. А глаза открыты, не спит он. Видно, устал молчать, заговорил:
– Сколько их, не сосчитано, не измеряно...
– Сосчитано! – догадываюсь, что о звездах он, и говорю что-то пустое, ненужное об астрономии, говорю долго, взволнованно, но он опять молчит – и обидно. Да и ругаю себя, что не решаюсь опять спросить о работе, о пастьбе, о привесах. А время движется, ночь не вечна, утром нужно обратно. А с чем ехать? То ли забыл он совсем меня, то ли сам изменился. И я ворошу костерок, чтобы пламя поднять. Потом вглядываюсь в лицо его, и хоть костерок невелик, хоть лицо в темноту отодвинуто – все равно замечаю все. Нет, не изменилось лицо! Тимофею не нравится такое внимание, и он ложится кверху спиной. Что это, боже мой – со спины он мальчишка совсем, подросток. Какой он худой да коротенький, как долго живет, а не вырос. И думаю о жене его: «Любила ведь и такого – за что любила? Смешной ты – за что? Вот и спроси – за что?» – думаю сам про себя и вдруг хочется сказать ему что-то хорошее, повеселить.
– Гармонь-то жива? Не продал?
– Гармонь-то не корова, Витенька. Это корову вывел да продал. А коснись меня, я б и корову не продал. Согласен? Все живое, с дыханьем, разве продашь?
– Цела, значит, – опять говорю о гармони.
– В дому лежит да поляживат. Тебе поиграть?
– Сам-то играешь?
– И пою, и играю, с притопом, с прихлопом, – он смеется, потом спохватывается, – тебе спеть, пода? Сильно давит ноченька на глаза...
– Неуж бы запел?
– А что, оштрафуешь?..
Но я все равно не поверил. Как же так – вдруг запеть?
– А я запою. За-по-ю! – пообещал он громким, окрепшим голосом. – Почему не запеть, в голову разно виденье ползет, вот и прогоню его.
– Какое виденье?
– Об отъехавших думаю, об живых думаю. Где-то моя Хазова Марья Ивановна, как-то мои Семеновы поживают? Вот и от Наденьки восьмой день письма нет. Эти хоть живые, здоровые, а Марья Ивановна, сердечна душа, лежит там да поляживат...
– Где там?
– Все там же, Витенька. Все там окажемся, да не в одно время.
– Ты песню пообещал?
– Аха, аха! – спохватился он, и я улыбнулся заранее, но продолжения не последовало. Он снова затих. Пламя ослабело, угли мерцают, смотрю на них и дремлю. Тимофей запел неожиданно, когда не ждалось, я думал, что во сне мне приснилось, но голосок стоял рядом, живой и чувствительный:
Растаял вы-ы дымке хутар да-а-а-альняй,
И занялася рання-ая звезда-а-а...
Голосок слабый, но отчетливый, вроде не поет человек, а постанывает. Такие голоса всегда жалобят, напрягают нервы, расстраивают. Так и со мной случилось: по всему телу кинулись живые остренькие иголочки, от них и тревожно, и приятно, и хочется слушать песню:
Уехал милай мо-о-о-ой теперь дале-е-е-ече
И не вернется больше никогда-а-а...
Пел он, повторю, совсем потихоньку, будто разбудить кого-то боялся, но в том и была сила пения, что оно тихое, ровное. Кончил петь, подтянул к подбородку коленки, может, собрался подремать, но тут же раздумал.
– Не надоело, Витенька?
– Не надоело.
– Потерпи, полежи...
– Эх бы, гармонь сюда! С ней бы повеселее.
– Повеселее, – соглашаюсь с ним.
– А ведь было дело, что меня на санках возили! Уважал гармониста народишко...
– Было, было... – я снова обрадовался и воспылал ожиданием. – Как праздник – так работа тебе...
– И теперь которы не моргуют. И мы соглашаемся, хоть и состарились. Износилися – не спросилися...
А мне сразу вошло в голову, как зимой, по святочным праздникам, возили Тимофея на санках по улице, от одного дома к другому, от гулянья к гулянью. В одном доме попоет, растянет гармошку – уже в другой зовут, требуют. Смешно это было, хорошо это, счастливо. И как только хватало силы, выносливости! Суют ему с разных сторон рюмку за рюмкой – гармониста рады уважить, не отпускают, – и он играет, народ поет, пляшет, и сам он пляшет, опять играет. Это теперь затихла по селам гармонь. Видно, всему свой прощальный час.
А Тимофею все подают, хоть не пьет уже, пригубляет, он и без вина – пьян-пьянешенек, слезки просыпались, потекли по щекам – это от радости, от любви ко всем. Но он не слышит их, заигрался. Но вдруг раздается громкий нахальный стук – и сразу бегут на крыльцо хозяева, и вот уж очутились у самой скамьи. Один гармонист перед ними. Тот сразу играть перестал – хоть казните теперь, хоть милуйте. Знает: за ним прибежали, сейчас унесут. А ему уж вставать не хочется, он прижился навсегда в этом доме, надышался теплом. Но ему уж и вставать не надо – гости, молодые, могучие, прямо хватают его в беремя, приподнимают высоко, к потолку самому, к самой матице, и так проносят над головами, – и вот уж дверь. Морозный воздух гудит в притвор. Но Тимофею не страшно, не боязно, на него уж и одеяло набросили, а сверху – тулуп, и кушаком запечатали – ну разве замерзнешь, разве обидишься? Разве, устанешь, когда прямо в санки устроили, и вот уж они за воротами, – и понеслось веселье, зашумело, загикало, и снег летит прямо в щеки, и грудь задыхается, но он уж совсем простил их, да и грех ли – годы-то молодые, крикливые, да и путь близок, велика ли деревня – и вот уж приехали. Опять в избу и на руках опять, точно добычу, какого-то пленника, а его уж ждут здесь – и раскинулся стол. Ждут, сразу требуют. И снова в ходу гармошка, и опять все началось, закружилось, и никакой водой не зальешь. Но Тимофею здесь недолго сидеть и наигрывать, скоро опять прибегут за ним, опять схватят в беремя, опять выкатят санки и повезут в дальнюю улицу.
...Как давно это, как недавно! И еще я думаю о том, что, наверное, пастух этот будет жить долго-долго, может, переживет и меня. Но Тимофей не слышит ни мою первую мысль, ни вторую. Кажется, он заснул, успокоился, как и Арбаев. Но мне совсем не нужен их сон. Я разбудить хочу пастухов, поговорить хочу. Спрашиваю громким, уверенным голосом. Хоть один да проснется.
– Платят-то вам с привеса?
– Не кричи, Витенька! – сразу обиделся Тимофей.
– О привесах я...
– Слышу, слышу... Прибавь огоньку, надо ночь отогнать.
Делать нечего, пришлось идти за дровами. Когда вставал, споткнулся об Арбаева, но он даже не пошевелился – такой мертвый сон.
– Совсем ухлопался, талата, – схохотнул Тимофей и прикрыл ему газетой лицо.
Снова вспыхнул, поднялся костер.
– О чем загоревал, Витенька?
– Привесы какие?
– Я не вешаю, на ферме вешают. Зоотехник скажет, Вотин Петро. А я уж старый, ниче не знаю...
Стало обидно. Ночь, костер, спешить некуда, а нет разговора, нет. И надежды нет, хоть и вглядываюсь в Тимофея. Но он свил в клубок свое маленькое твердое тельце и засопел. И Арбаев спит. Легонько угли потрескивают. Ну и пусть – все равно уж. И под этот слабый треск пытаюсь заснуть. Заснул бы, да голосок потревожил. Я уж знаю – чей голосок.