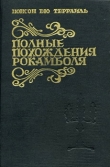Текст книги "Искупление"
Автор книги: Василий Лебедев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц)
– Пойду, когда камень по воде поплывет!
– Эко, мудростью насыщен! – крякнули в толпе.
– В мудрецах не хаживал, а сапоги мудрецов нашивал!
Дмитрий улыбнулся на эти слова, и улыбку эту тотчас заметил Елизар. Он вышагнул ближе к помосту и низко поклонился великому князю:
– Великий княже, вели слово молвить!
Тиун Вербов кинулся было оттеснить Елизара, но Дмитрий обронил сверху:
– Пусть скажет холоп!
– Великий княже! Не дай сгинути холопу твоему! И ты, князь Володимер! На твоей трети поселился я ныне у сестры, оборони и ты меня! Того ли ради тек я из полону, чтобы Некомат за горсть серебра внове топтал меня? Из полону притек да убережен – заново рожден! А ему любо кабалить меня, видал сей лукавый Некомат, как я серьги лью да усерязи лажу, вот и желает, дабы я тешил его, богатства преумножая. А за что? За липку горсть сребреца? Так его, серебро-то, во степи растряс – поди-ко собери! Не я ли молил его: вывези неприметно меня на Русь! Не-ет... Страшился пехоты генуезской, с ней шутки плохи! А как я утек – он тут как тут! А я живота своего мог двукраты лишиться. Копьем-сулицею от ворога отбился, а в порубежном поле своима рукама татарина придушил, вот те крест, княже!
– Хоробрым пролыгается! Видывал я этаких во-ев! – воскликнул Некомат.
– Видывал, да токмо не таких! Попался бы ты мне...
– Премерзкий холоп! Я тя сгною!
– Вольной я, и затвори уста свои поганы!
– Не лайся! – встрял тиун. – Тут суд княжий, а не торговой ряд!
Елизар проворчал что-то непонятное.
– Княже! Он лается черно! – донес Некомат и руками за уши, будто не слыхивал.
– Это по-каковски он тебя? – спросил Дмитрий с интересом.
– По-персидски!
– Так ли, Серебряник?
– Истинно, княже, по-персидски, токмо... на русский лад!
– А что!
Елизар помялся, но тряхнул головой – рыжим костром и смело выпалил:
– Сказал: во честном бою я таких Некоматов на дюжину сорок кладу! Княже! Оборони сироту своего!
– А не истаяла ли вера твоя на чужбине?
– Не истаяла, княже.
– А не ел ли ты мясо по средам и пятницам, по малым и великим постам? : .
– Он тамо кобылье молоко пил! – как удар кнута, резанул по спине Елизара выкрик Жмыха. И чего надобно поганцу?
На судах такие крикуны – дороже золота для тиунов, подвойских да ябедников. Они всегда готовы распутать узлы в пользу тиуна. Хоть и лгут они, хоть люди страдают от облыжных слов, зато суд идет скоро...
– Так ли?
– Не скрою, великой княже, пил тамо кобылье молоко – поганился, токмо с той поры отмолил тот грех.
– Ну, коли отмолил...
– А у него баба татарка! – острее сабли срезал Жмых.
Елизар барсом кинулся на Жмыха и стал давить поганую глотку.
– Стража! – взревел тиун.
Елизар уже придавил Жмыха к земле и держал так крепко, что стражники не могли оторвать его от кляузника. В два копья подкололи они Елизара в спину, сдернули обессилевшего и поставили перед князем.
– Верно ли доводит Жмых? – спросил Дмитрий. Елизар не ответил, лишь покаянно опустил голову. Позади примолкшей толпы еще хрипел Жмых, к нему никто не подходил. Такие жмыхи и прежде водились, особенно у татар. В прежние, докалитинские времена баскакам, сбиравшим на Руси дань, переписывавшим численных людей, трудно было без доносчиков: там, глядишь, люди попрятались, там добро прихорони-ли... Не-ет, без доносчиков извелись бы баскаки, вот почему, как драгоценные цветы, из десятилетия в десятилетие выращивали они это гадкое племя, ценили, обороняли его. Доносчик для баскака – начало и венец делу... Иван Калита устранил баскаков от тягот сбора дани, сам вызвался сбирать и отсылать ее. В этом была немалая мудрость русского князя: он отсек повальные толпы баскаков от земли своей, люди немного вздохнули. Изводя жизнь свою на ханскую дань и княжью подать, душу свою держали в чистоте и крепили ту чистоту, но... жмыхи остались.,
– Что велиши, княже? – спросил тиун. Дмитрий молчал.
– Татарка-та красна вельми! – крикнули из толпы.
– Вестимо, красна! Вот Некомат-от и возжелал на постель ее поять!
– Любо!
– На постель? Некрещену?
– Затвори пасти! – рявкнул тиун, оберегая Неко-мата.
– Дадено, дадено серебра...
– Некрещену на постель? – еще дивились в толпе. Тут вступил и Серпуховской:
– Верно ли, холоп, что живешь ты с некрещеной?
– Она крещена! – ответил Елизар.
– Иде? Иде крещена? – прохрипел Жмых из-за людей, и ему тотчас вторили подвойские – их кормовое дело:
– Иде, скажи-ка нам! Уж не в Орде ли?
– Не у отца ли Федора? – прищурился тиун, стараясь опорочить беглого полоняника хоть связью с Тверью.
– Нет. Во Твери давно не бывал.
– А в Рязани?
– А в Рязани был, да токмо епископ отец Василий не пожелал крестить.
– Мало посулил?
– Не ведаю, токмо тоболец серебреца давал. Тут и великий князь снова возвысил голос:
– Кому же ты, холоп, руку посеребрил?
– А крестил жену мою и венчал Михаил Коломенской. Иерей! – с каким-то вызовом ответил Елизар и смотрел прямо в лицо великого князя.
Шепот прошелестел по толпе. Злорадно прихлюпывал Жмых. Осклабился какой-то тощий мужик, избитый, должно быть, в начале суда, и вся толпа неспроста присмирела, да оно и понятно: всей Москве ведомо, что молодой великий князь избрал себе в духовные отцы Михаила Коломенского, тоже молодого еще, красавца, книгочея. Это он, Михаил, венчал Дмитрия и Евдокию в Коломне, и слава о нем пошла по Руси: статен, велеречив, голосом крепок, чтец, в писании прилежен и премудр, а что до серебра да злата охоч – то в княжем терему не слышно, ибо говорились речи негожие лишь на папертях средь нищего сброду...
– Тиун Вербов! – строго окликнул Дмитрий.
– Чего велишь, княже?
– Где тот ряд [Ряд – договор], по коему сей холоп запродал себя купцу Некомату? Что молчишь? Есть ряд?
– Ряд не был писан! – воскликнул Елизар.
– А кто станет руку давать на то, что Некомат купил Елизара?
– Темна ночь токмо, княже, – рассветился улыбкой Елизар, а Некомат ел его взором волчьим, брызги взора того попадали и на тиуна Вербова: серебро брал, а суд скривил не в ту сторону.
Дмитрий не стал ждать окончания суда, было и без того много забот.
– Пора нам, брате! – молвил он Серпуховскому. Серпуховской махнул тиуну: суди! Поднялся со стольца и зычно крикнул:
– Коня!
* * *
Сотня великого князя поотстала саженей на сорок – велено было. Братья ехали шагом. Разговор тек неторопливо. Немногословно. Многое у них было позади – и споры за власть, и мелкие стычки из-за порубежных земель, сел и слобод, ссоры из-за беглых и перекупленных людей – все это минуло, и двоюродные братья по совету мудрых старых бояр и митрополита давным-давно примирились и единодушно сошлись на том, что Владимир признает Дмитрия за старшего не только по рождению, но и по власти, а Дмитрий тоже крест целовал на том, что станет чтить брата и во всем с ним совет держать. Больше не портят они крови друг другу, как это было в юности, из-за сел, рыбных ловель или холопов, ибо у каждого своя вотчина и всяк по-своему в ней хозяин, но превыше вотчины возлюбили они свое княжество и радели, и трудились для него, и думы думали о земле своей безраздельно.
– Кажись, ты око положил на серебряника Елизара?
– Он податник сотни кузнечной в твоей трети.
– Коль Некомат не высудит – бери!
Дмитрий на миг придержал коня, покусал губу. Сказал сдержанно, но твердо:
– Сегодня ввечеру пришли его ко мне! Ныне неважно – чей он: Некоматов али твой. Елизар поедет в Орду наперед меня. – Молчал с минуту, потом пояснил: – Ему ведомы татарва и язык. Он знать должен все ухватки их. Он послужит мне покуда. Послужит?
– Я тако мыслю, брате: ухлеби его, награди, а татарку его да и сестру, что за Лагутой живет, придержим, вестимо, во внимании своем. Исполнит службу – еще ухлебим и наградим, а коль сгинет – не оставим их. Серпуховской вздохнул и напомнил брату: – Токмо не нашла бы его стрела татарска, как того гонца, что от владыки Ивана.
Дмитрий подумал и с облегчением пояснил:
– Я думаю, поедет он в рясе монашеской с грамотою от митрополита Алексея. Не тронут...
Кони меж тем неприметно тянули к воде, влево, где сверкала Москва-река. Дохнуло отрадной прохладой. Берега были тут приволокнуты ивняком, державшим плотную листву: влаги хватало.
– Освежиться бы... – вздохнул Дмитрий.
– Чуть подале – песок на берегу, да и тут... Серпуховской не договорил, из-за кустов, из воды с визгом кинулись девки. Сарафаны их лежали на открытом склоне, и каждая выскакивала из воды – вся на виду, хватала сарафан и с тем же заполошным визгом неслась вдоль берега по-за кустами. Молодые, статные, румяные, в русой туче длинных волос, понравились они братьям. Последняя визжала громче других. Бежала она за подругами, и груди ее взмелькивали на стороны, как молодые поросята.
– От-то непутевы... – выдохнул наконец Дмитрий. – А ты чего выстоялся во стременах-то?
Серпуховской заметил усмешку брата, приметил и сам, что неуклюже поднялся на стременах, смущенно вседлился.
– То мовницы мои, вот я им ужо... – Он все еще задумчиво подергивал белесый хвостик уса.
– Оженишься когда? – спросил Дмитрий.
– На то божья воля...
Дмитрий в ответ резко сблизил лошадей, схватил повод братова коня и глянул строго-настрого в глаза тому:
– Ты думаешь, поди, посмеиваюсь я над тобою... Не ведомо, Володимер, быть ли живу мне в Орде... А коли свершится злодейство... Ныне не Руси, головы моей восхотел хан... И коль суждено свершиться смерти моей, тебе княжить, тебе Русь беречь, по заповедям предков наших ходить.
Дмитрий отпустил повод коня Серпуховского и продолжал негромко, будто прислушиваясь к шагу лошади:
– Коль свершится зло, возьмешь у Евдокии ключ от тайной двери и употребишь те богатства, как и казну великокняжескую, и свою тоже! – Он коротко глянул на брата, тот согласно кивнул. – Употребишь на оружье крепкое, на кормы великие, многолетние для великого же воинства. Ничего не жалей – все тлен! Купи все в немецкой, в литовской земле, в венграх, в греках, подыми Русь и сам нагрянь на Орду! Что дивишься? Не бывало такого века, а тут будет, и порушь, раскосми Орду! Токмо сборы верши тайно, поучись у хитрого Ольгерда, а потом иди! А допрежь того вокруг воззри: зверь на звере сидит у порубежья нашего.
– Оно так: Михаил Тверской, Олег Рязанский...
– Ныне речь не про тех: Ольгерд! Что рысь наверху, затаился, выжидает, когда сподручнее кинуться, вкогтиться в нас, а наши русские города порубежные – Псков, Новгород – не преградят ему пути на Москву, нелюбо им толстое брюхо трясти за чужую кровь. А чужая ли?
– Нелюбо трясти, нелюбо, – согласился Серпуховской, еще не ведая, куда ведет свои помыслы великий князь. – Того гляди, с Ольгердом стакнутся, души кривые.
– Ольгерд, брате, это токмо наковальня, а молот – Орда! Ладно ли нам крицею обожженною лежать на той наковальне да под тем молотом? Уразумел?
Серпуховской не понимал до конца мысль брата и потому смолчал, упершись взором в гриву коня.
– Адам, первый человек, вельми скоро приучал зверей диких, имя давал каждому. Всяка тварь, страшна и грозна, мерзка и ладна, смиренна была при нем, – опять забегал Дмитрий издалека, но Серпуховской уже напал на его мысль.
– А кого нам приучать?
– Ольгерда! – выкрикнул Дмитрий прямо в лицо брату.
– Презабавно что-то...
– Забавы не ищи, то надобность великая. И не нам, а тебе приручать его!
– Какою привадою? – насторожился Серпуховской.
– Адамовой...
– Что есть та привада, брате?
– Надобно дать ему новое имя... – все так же загадкою ответил Дмитрий и снова ухватил повод братова коня, сильно потянул, остановил коней.
– Какое имя? – растерялся Серпуховской. Он по-ребячьи мигал, и улыбка детского смятенья ненадолго озарила его лицо.
– Вопрошаешь, какое имя может дать Ольгерду мой брат, дабы усмирить его?
– Вопрошаю: какое?
– Тесть! – выпалил Дмитрий жестко, так, чтобы не оставалось никакого сомнения j[ Серпуховского, дабы понял он: все тут продумано.
Серпуховской сразу обмяк и затих. Дмитрий знал, что давно он зарится на Анисью, боярскую дочь, комнатную боярыню, что при его Евдокии пребывает, и одобрял в душе выбор брата: девка красна собою и всем взяла – статью, нравом, лицом румяно-белым, но иная судьба должна лечь поперек дороги брата его, а Анисья пусть Бренку достается. Хороша пара...
Позади послышался топот навалившейся сотни, однако, наехав без повеленья на них, сотня сбилась в кучу.
– Что приумолк, брате? Отринь кручину, не думай: то не в седле размыслится, а тамо! – Дмитрий указал на небо. – То есть путь неведом, да иной тебе судьбы нет. Засылай сватов, бери Елену Ольгердовну. Старый дьявол сам предлагал, когда почуял осенью, что у Москвы попадет под твои полки... Бери Елену, а то так и будешь до старости во стременах стоять над рекою Москвою...
Серпуховскому было не до веселья, и он не поддержал шутку великого князя. Дмитрий в эту минуту опасался резкого отказа и был напорист:
– Бери Елену, Володимер, иного пути у нас нет!
Он вложил поводья в руку Серпуховского и пристегнул своего коня. Истомившийся на жаре конь шаркнул сбруей, боками и грудью о плотные кусты ивняка и сладко впоролся в воду.
– Княже! А мы? – донеслось из сотни.
– Всем велю!
Сотня сорвалась было с места, но Капустин так рявкнул, что все откатились от берега:
– По десятку! Ровно! За береговой улом – гайда-а!
Проскакали на сто саженей ниже по течению, куда скрылись модницы со двора Серпуховского. Река вспенилась, забурлила там, за уломом.
Сотник оставил князьям чистую воду.
11
Он трижды проклял тот день, когда обагрил руку кунами Некомата: не надо было брать у него ту горсть серебра, все равно растерял во время ночного бегства, в степи пол Сурожем, в грозовую ночь. Тиун Вербов круто повернул суд после отъезда князей: мигнул подвой-ским, те выкликнули Жмыха, и на хартию ябеднику легли неверные слова, что-де Елизар Серебряник за неделю до суда сам хвастал в торговых рядах, что обманул именитого купца Некомата, взял, мол, серебро, продавшись тому в обельные холопы, а теперь-де и не подумает служить ему – нет свидетелей! Некомат на том суде убивал сразу двух зайцев: закабалив Елизара, он записывал в смерды и его Халиму, поскольку не могла она жить без него среди чужих ей людей, без языка и обычаев...
С суда Елизар прибежал весь мокрый, как мышь из кринки.
– Лагута! Анна! Сберите нам чего ни есть! Чего стоите-то? Бегу я! Бегу! Халима! – И он затараторил по-татарски.
Велики ли сборы вчерашнему полонянику? Мигом сложил среди избы пожитки, Халима завернула их в рогожный мешок. Она, казалось, была довольна, что надо мчаться: кровь ее требовала движения...
– Не скупись, Лагута, дай коня твоего, у моего подковы сбиты.
Лагута, человек обстоятельный, неторопливый, повел на Елизара квадратным лбом.
– К Ваньке во Псков, что ли?
– Во Псков ал-и на Двину, токмо не во холопы к Некомату
– Засудили, выходит? А иде Мономаховы законы?
– Что им законы, коли судьи знакомы! – воскликнула Анна в чулане и заревела. Опять за брата станет сердце рваться.
Лагута еще постоял с минуту посреди избы, тяжелый, как кряж, опустив ручищи к полу, покачал молча головой, видимо поддакивая мыслям своим, и пошел к порогу:
– Анна! Собери им мяса вяленого!
Но едва вышли они из избы и направились к Яузе за лошадью, что паслась в прибрежной осоке, как заметили, что по дороге от моста через реку Рачку скачут трое. Елизар признал в одном тиуна Некомата, остальные двое были, видать, из дворовой челяди.
– Ну вот и пропало бабино трепало... – промолвил Елизар, но слова эти он произнес с такой злостью, что Лагута понял: быть драке.
– Холоп Елизар Серебряник! – крикнул тиун на подъезде. – Держись стремени и беги со мною немедля!
– Эко разгрозился! – первым ответил Лагута, выходя вперед Елизара и как бы прикрывая его.
– А ты, Лагута, отпрянь! – Всадники уже крутились перед избой. Елизар! Поневоле поведем!
Елизар вышел из-за прясел городьбы, молча и не спеша приблизился к тиуну. Та обреченность, с которой он покинул суд и бежал сюда больше двух верст, сменилась неистовой злобой. Как туман, застлала она ему глаза и здравый рассудок. Грудью привалился он к ноге тиуна, ухватился левой рукой за луку седла, а правой со всего размаху ударил по лицу посланца Некомата. Тот застонал, закрыв лицо ладонями, на рукава холщовой рубахи полилась кровь. Один из помощников кинулся было на Елизара, но Лагута выпростал жердь из прясел и пошел крестить по коням.
– Убью! – взъярился он, но бил все-таки не по всадникам, стараясь лишь отогнать их, не дать обезумевшему Елизару впасть в большой грех, и так суда не миновать...
Некоматовы служки поскакали, ошалев, в испуге взяли сначала сильно вправо, к Гостиной горе, и лишь потом свернули снова на мост через Рачку.
Елизар нет поскорей убраться, пошел с Лагутой по избам хвастать, как они отчестили людей Некомата. Вернувшись от кузнецов-соседей, пошли в погреб пить холодный квас и все хвалили друг друга. И нахвалились.
Старший сын Лагуты, Акиндя, прибежал от моста и довел:
– Тятька, едут!
Елизар кинулся в избу, за руку потащил Халиму на двор, но спрятаться было негде. Он выглянул из-за угла и увидал десятка полтора всадников, а дальше семенила через мост пешая дворня Некомата. Сам купец ехал на коне впереди.
"Ой, ты, бабино трепало-о-о..." – подумал он и уволок Халиму в кузницу. Затворил двери изнутри.
Около получаса водил их за нос Лагута, убеждал, что уехал Елизар за Яузу, будто бы в Лыщикову слободу наниматься туда. Это было похоже на правду, и мост через Яузу был как раз за кузницами, а слобода – напротив моста. Но хитрый Некомат послал туда лишь пять всадников, а сам учинил розыск и велел отворить кузницу.
– Там Елизар! Там, ворожий сын! – кричал тиун и страшно мерцал темными пятнами запекшейся крови на щеках, на шее, на рубахе. Вид крови озверил Некомато-ву челядь.
Все наперебой заглядывали в щель меж створками двери, убеждались, что Елизар там, радовались и грозили.
– Вылезай, рукосуй!
– Ты не рядника, ты тиуна пястью пехал! То-то тебе!
– Отворяй кузню!
– Отольются слезы гривенкой!
– Отворяй! Кузню на поруб [Поруб – тюрьма в виде крытой бревнами ямы] меняй!
Сам Некомат спешился и подошел к дверям. Послушал. Велел выламывать дверь. Затрещали доски. Заскрипели кованые крючья.
– Отпррянь! – послышался крик Лагуты. – Не рушь кузню, то моя кузня! Моим тщанием возведена!
– А ты отворяй! – возразил Некомат.
– Почто?
– Холоп Елизар мне присужен! Отдавай его!
– Кого? – будто не понимал Лагута, нацелив на Некомата широкий плоский лоб в черных брызгах железной окалины.
– Вестимо, кого – Елизара Серебряника, али ты с ума спятил?
– Какого Елизара?
– Да во кузне!
– Там поло!
– А коли поло, то коим духом дверь затворена исподно?
– Ушел Елизар за Яузу!
– Там он – в кузню канул! – появился опять Жмых.
– Я тя порушу, татарско исчадье! – Лагута не вынес – кинулся на Жмыха, но челядь повисла на кузнеце. Подергался Лагута – шевелиться можно, выбраться из людского кольца нельзя: завяз, как в трясине.
А дверь в кузнице затрещала и рухнула одной створкой внутрь.
– Изрублю! – послышался крик Елизара. Челядь Некомата отшатнулась на сажень, увидав меч в руках Елизара. Но на силу найдется сила. На оружье есть оружье. Дружина дворовая похватала жерди из городьбы и пошла на Елизара, как на медведя с рогатинами.
– Шибай по рукам! Вышибай меч! – командовал Некомат, забравшись в седло.
Кололи, били Елизара жердями. OEI рубил – отлетали концы, как поленья, но на каждый его удар мечом сыпались три жердями. И вот уже выбили меч. Притиснули Елизара к стене, и тут вскрикнула Халима из-за горна.
– И баба тута!
– Со татаркою в кузне, яко дьявол у пещи огненной!
Повязали обоих. Кулями перекинули поперек седла, пограбили в кузнице поковки Лагуты. Тому тоже досталось. Анна выбежала с воем, с проклятьями. Лагута молча стоял и смотрел, как увозят Елизара и Халиму. А челядь Некомата насмехается и все больше к Халиме льнет.
– Ишь каку черную выискал! Ну чисто сатана!
– Вот и погана, да красива!
– Ишь! Ишь, глазами стрижет!
– Поцапай ее по всем буграм – мягка!
– Ишь она – глазки масляны, уста сердечком христовым, а сама сотоница блудяща!
– У-у! Ведьма!
Лагута, сломленный – сила силу ломит! – побоями и грабежом, отвернулся, чтобы не видеть хоть этого. Отошел к разобранной городьбе, напустился на Анну:
– Это от твоей родни вся поруха на нас! То Ванька во Пскове немцу дался – выкупай, Лагута! Ныне Елизар из полону приперся, да добро бы один ан нет! – с татаркою! Корми их! Пои, Лагута! Ну? Чего? Чего молчишь? Много ль еще у тебя родни непутевой? Кого еще ухлебить? Давай всех к нам! Лагута богат вон как – цела кузница поковок! Серпуховскому долги отдал – не закабалит!
Оттого, что все было не так – и поковки все побрали, и совсем они остались голы, и ребята тихонько подвывали за порушенной городьбой, голодные, даже репа в загороде засохла, – и угроза закабаления главы семейства, Лагуты, стала близкой и страшной, – от всего этого было тошно.
– Тятька-а-а! – выли ребята. – Иди в избу-у-у! Лагута повернулся и пошел в кузницу. Там он лег на грязную скамью. Он слышал, как где-то проскакали кони. Слышались и голоса, сначала у избы, потом у моста через Рачку Лагуте было теперь все равно, кто и куда скачет, кто и что там делает... Он только что причал налетчикам о правде, о законах, что не забыты еще с Мономаховых времен, но горький опыт подсказывал ему и другую старую истину, с богатым да не судись.
А у моста тем временем завязалась свара. Десяток великокняжеских кметей был послан за Елизаром, дабы привести его в Кремль. Григорий Капустин еше издали заметил неладное в кузнечной слободке, расспросил соседей Лагуты, и те сказали, что произошло. Некомат с челядью еще и мост не переехал, как налетел на них Капустин. Мечей не вынимали – много чести! – наляпали оплеух. Развязали Елизара с Халимой.
– Держись, Серебряник, стремени – во княжий дворец торопись!
Елизар опешил. Растерянно глянул на перепуганную Халиму.
– А бабу обратно отошли, к Броннику. Тут Елизар оправился.
– Эти грабельщики, асаул хороший, вси поковки у Лагуты Бронника побрали. Это Некомат – потатчик татям своим!
Некомат подъехал к Капустину. В прищуренных глазах металось сомнение: дать денег сотнику или припугнуть? Денег такой не возьмет, да еще принародно.
– Самовольство творишь? – нахмурился Некомат.
– Княжью волю исполняю! А ежели еще уста отворишь – то пястью вот этой нос на затылок вытолкну!
И тут Жмых вывернулся:
– У его нос-от вельми ал – в сутеми светит!
И таким смешком угодливым раскатился, а ведь только что подвывал Некомату! Глазами по-собачьи поедал знаменитого на Москве силача и Князева слугу, но Капустин откинул его ногой в сторону от коня:
– А ну, Некомат, вернись и отдай добро Лагутово!
– Не кричи на мя! У меня сила велика за пазухою – байса! [Байса – знак отличия и поощрения. Знак власти]
Вмиг все притихли. Даже на Капустина это произвело впечатление, когда он увидал: хотя и деревянная, но все же это была байса! Некомат держал на ладони небольшую доску – символ безграничной силы и власти. Байсы выдаются ханом. Их получают за особые заслуги сотники (асаулы), темники, эмиры, члены семьи хана. Редко получали их иноземцы, но купцам удавалось за богатые подарки. Байсы были нескольких видов: деревянные, глиняные, железные, серебряные и золотые, весившие по целому безмену [Безмен – старая русская мера веса, равная 980 г], а особо ценные, с львиной головой – по два безмена! По байсе владелец имел право по всему ханову улусу – на всех покоренных землях – брать бесплатно лошадей для проезда, корм для них, пользоваться кровом, пищей в неограниченном количестве и про запас. Байса сила, богатство, уважение, страх... Капустин с пеленок слыхивал об этих чертовых досках, но видел впервые так близко и никогда не читал, не ведал, что там.
– А чего там прописано? – Он взял доску, повертел ее. – Эй! Полоняник! Разумеешь ли по-агарянски?
Елизар подошел и нехотя взял байсу. Читать стал сразу по-русски:
"По воле великого бога, по великой его милости к нашему государю, да будет благословенно имя хана и да помрут и исчезнут все ослушники".
– О-о-о-о! Ишь, как оно выходит! – промолвил Капустин задумчиво, уставясь в землю диким, невидящим взглядом, но ни страха, ни растерянности не было – злоба давила его.
– И да помрут и исчезнут все ослушники! – возвысил голос Некомат, победно оглядывая всех, а на Елизара посмотрел, как на собственность.
– И исчезнут ослушники! Ослушники! – запрыгал Жмых, вновь заискивая перед Некоматом.
– Та-ак... Мы-те ослушники, Некомат, а ты – кто?
– Купец я большой руки! Меня чтят не токмо в землях закаменных, персиянских и фряжских, меня чтит сам хан!
Некомат вырвал байсу у Капустина и сунул ее за пазуху.
– Ты – купец?
– Купец!
– Ты – христопродавец! Ты землю и людей попираешь! Ты грязную ханскую доску рядом со крестом носишь!
– Да есть ли, сотник, крест-то на нем? – спросил Елизар.
– А вот и узрим без прометки! – Капустин ухватил Некомата за его белоснежное иноземное платье. – Ишь он в иноземну тканину заоболокся, яко мертвец! Мертвец и есть!
– Отпрянь!
– Я те отпряну! Вот так! Вот!
Капустин рванул одежку на груди Некомата, а надорвав – дернул прореху вниз, до седла. Голое жиреющее тело купца обнажилось, забелело меж сермягой челяди.
– И ты еще носишь крест православный? Затвори уста – нос подковою на затылок загну! А ну, агарян-ский помет, правь до избы бронника Лагуты! Все поделки его до единой отдать доброму кузнецу!
– Ты умрешь по ханову слову...
– Ах ты прорва сотонинска! Изрублю!
Капустин рванул меч – Некомат скатился с коня и побежал на мост, потрясая рваниной. Кмети Капустина без команды кинулись за ним, столкнули на землю, подняли и повели к начальнику.
– На агарянску заступу уповаешь? А? – наклонился с седла Капустин. Некомат молчал. – А ну, веди татей своих ко избе Лагуты! Ну!
Челядь Некомата послушно поплелась во главе с хозяином. На месте остался только Жмых. Он стоял с застывшей улыбкой, будто напряженно следил за весами – куда пойдет чаша. Капустин подъехал к нему и с маху влепил ему ладонью по уху. Жмых рухнул в пыль и не шевелился.
– Не убил ли, Григорья Иваныч? И пятой не дрыгнет, яко мертв.
– Отойдет к покрову... А вы спровадьте татей да проверьте, все ли они отдали холопу Володимера Он-дреича! Я поехал во Кремль с Елизаром... – Он оборвал себя, глянул на Халиму и нахмурился. – А ей вели идти, где была!
...В стольной палате сбирались первые сумерки. Великий князь сидел с братом своим и зятем. Митрополит был тут же. Серпуховской.. Боброк одобрили затею Дмитрия, только митрополит Алексей поупрямился, но дело не ждало, и он отписал епископу Сарайскому, владыке Ивану, что едет к нему монах Чудова монастыря.
Монашеская одежда уже ждала Елизара Серебряника.
* * *
Соседи-кузнецы разбрелись от избы Лагуты поздно, еще поздней укладывались спать Бронники. Халима не пила и не ела в тот вечер и сидела в углу у порога, как затравленная. Лагута, совсем было потерявший голову, выгнал бы, наверно, ее, но несчастье немного отступило – вернулись все поковки, злодей Некомат предстал тут порванным, – и Лагута помягчал, не выгнал Халиму, но ворчал долго:
– Ума рехнулся Елизар: сам едва из полону утек, гол, как сокол, а хомут надел. Чего в ней? Нет бы нашу взял, наши бабы белы, что те сахар, татарва-та недаром вызарилась на их – чуют коротки носы, где лучше пахнет. Ишь, сидит, не ложится и спать.
– До сна ли ей! – вздохнула Анна, но тут же насторожилась: – Идет кто-то! Елизар!
Еще не отворилась дверь, а она уже услышала шаги брата.
Елизар не вошел – ввалился в избу.
– Анна! Подымайся! Где лучина? Огонь взгнести надобно!
Халима уже была рядом и как кошка ластилась к нему, беззвучно плакала, чтобы не рассердить угрюмого хозяина.
– Елизар, уймись! – подал голос Лагута.
– Не уймусь! Подымайся и ты! Ишь, лежебока! Лагута не желал понимать шуток, хотя и слышалось в голосе Елизара веселье – до шуток ли ныне? Все же поднялся, дабы поссориться с беспокойным нахлебником раз и навсегда. Но когда он вышел из-за рогожного полога, увидал избу, освещенную лучиной, широкий скобленый стол, а на столе серебро, он сердито прокашлялся и сел под икону, но не спрашивал ничего и даже не глядел на серебро Елизара.
– Бери! – сказал тот. – Тут хватит тебе выкупить себя у Серпуховского.
Анна не выдержала – ахнула и упала в ноги брату.
Елизар отстранил ее, повернул к Лагуте – ему кланяйся, он муж и хозяин, один тянул три воза: семью, брата Ивана и его, Елизара с Халимой.
– Спасибо тебе, Лагута, что не отказал мне во крове, ныне я с тобой тоже по-людски: бери серебро! Оно не граблено, не крадено – князем дадено.
– За что те князь? – на последнем сомнении спросил Лагута.
– За службу грядущую...
– Что за служба?
– Покуда мне то не ведомо... – утаил Елизар " свернул разговор: – До осени послужу, а коль приглянусь – еще послужу, благо осеребрил и ухлебить готов.
– Ну, коль сам великий князь... – Лагута дотронулся до серебра и нахмурился: – Много даешь мне.
– Все бери, мне ничего не надобно... – Он тяжело вздохнул и высказал: – Едина у меня забота и докука – Халима...
– А чего – Халима? – вскинулся Лагута. – Пущай живет, разве ей тут худо? В работе не переломится. Анна ее не обидит... Чего Халима?
...На рассвете Елизара вытребовал конный. Тот вышел и увидал ладного скакуна, что был пристегнут к седлу всадника длинным поводом. Ладный буланый скакун. В седле был гридник Капустина.
– Не ревите! – не строго прикрикнул Елизар на женщин. – Отрочат побудите, а слезы для загороды поберегите, тамо ныне воды мало... Ну, давайте прощаться, что ли!
Халиме он до утра втолковывал, что он на князевой службе, что надо ему уехать на месяц-два. Он держался молодцом. Легко и бодро сел на коня, приосанился, высокий и статный, качнул на прощание рыжей головой, перекрестился и стегнул скакуна. Только тогда, когда издали послышались снова рыдания, он подумал о своей судьбе: "Эх, пропало бабино трепало!"
У Чешковых ворот Кремля его поджидали двое кме-тей из вчерашних гридников Капустина – Тютчев и Квашня. Они провожали Елизара до границы Руси и ордынских пределов.
До восхода успели выехать за подмосковные перелески. Миновали Симонов и Рождественский монастыри. На душе у Елизара становилось все тяжелей и тяжелей. Сначала он не мог разобраться, откуда это тяжелое чувство, но вот прочие сомнения отошли, отпали и осталась одна тревога: Некомат не простит ему.
12
Выезжали рано поутру. Еще затемно были выведены кони, и к рассвету, когда Дмитрий вышел на рундук, уже одетый, уже оплаканный Евдокией, он увидел сверху выжженный солнцем, вытоптанный лошадьми и людьми двор, а посредине его, чуть в стороне от конницы кметей и ближних бояр, ехавших с ним в Орду, как раз напротив трапезной половины – своего буланого коня под черным в серебре седлом, матовый блеск серебряного стремени и бармы на очелье конской головы, тоже отделанные серебряным звездопадом, – увидел все и понял, что с этой минуты даже он, великий князь, ничего не может изменить в предстоящей судьбе своей и своих людей. На миг пустое седло, которое в тот момент старательно поправлял подуздный Семен Патрикеев, показалось ему опустевшим навсегда, будто он, Дмитрий, смотрит на него из будущего в сегодняшний день, в котором он живет и уже не живет, погибнув где-то в Орде и принадлежа вечности. Вообразив, что так и будет когда-нибудь, даже очень скоро, он ощутил неприятный холодный ком, шевельнувшийся где-то в груди, почувствовал, как деревенеют ноги. Он перемог слабость и стал спускаться вниз, считая зачем-то ступени. Следом за ним, да так близко за спиной, будто подгоняя и выталкивая, спускались князь Владимир Серпуховской и Дмитрий Боброк, ночевавшие в княжем терему.