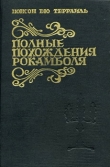Текст книги "Искупление"
Автор книги: Василий Лебедев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
Нет, яркая, дружная весна наводила тоску еще и оттого, что ушел из монастыря его духовный брат, Ослябя. Отпросился у игумена и ушел в полунощные страны. Наслушался прелестных речей от странников, что-де есть земля, где не заходит летом солнце, и там – рай или та дорога и те врата, кои ведут в райскую землю... Эти рассказы и Пересвет слышал. Вчера богомольцы, судача за воротами монастыря о том же, ввергли в беспокойство многих.
Пересвет вышел на середину монастырского двора, окинул взглядом два десятка низких строений – кельи, дворы, пекарня, бревенчатый забор, а в углу, на высоком месте, на маковце, – церковь Троицы, уже потемневшая, но еще совсем новая. Там ризница понемногу полнится серебром, ризами, окладами икон и самими иконами греческого и русского письма. Слышал Пересвет, что будто бы в Москве, в Андроньевом монастыре, ученик отца Сергия Андроник приютил иконописцев и завещал после себя хранить келью богомазов, щадить и любить отроков, кои склонность имеют к благолепному делу иконописи. В Троицкий монастырь, как старшему брату, присылают оттуда иконы.
Монахов не было видно. Ведра воды на скамьях около келий были полны наносил сам игумен для всех и ушел в лес, где ему думалось, должно быть, легче, ясней. А за воротами опять богомольцы. Все тот же голос, как и вчера, но, видимо, новым людям вещает о пречуд-ной и таинственной земле, куда ушел любимый брат Ослябя:
– То слыхивал я от людей новгородских. Есть, есть на грешной нашей земле рай! Тамо светло без солнца, и свет ровной да великой стоит над горами. Егда пошел един новгородец на светлую гору, глянул за нее, воссиял лицом и смехом радостным рассмехнулся да так и ушел туда без возврату. А те, что внизу были, послали еще одного – и тот тако же воссиял, рассмехнулся и на вернулся. И вот послали они на ту дивну гору третьего, к ноге веревку длинную привязали. Токмо он достиг вершины, токмо рассмехнулся да хотел бежать туда, а снизу-то его веревкой возьми да и потяни, дабы расспросить. Притянули, а он уже мертв...
Пересвет отошел от ворог, но в них застучали, решительно, как никогда не стучат богомольцы. Пересвет отворил. В воротах стояли трое юных воев. Кони их под седлами были привязаны в стороне, у мшаника, где зимой монахи держат колоды с пчелами – новое дело на Руси, домашние пчелы... Рядом с конями воев стоял белый конь без седла, но в уздечке, отделанной серебром.
– От московского великого князя! – весело, по-мирскому открыто воскликнул Тютчев.
– И чего надобно православным?
– Надобен преподобный Сергий!
Тютчев стоял перед монахом и как-то совершенно потерялся видом своим рядом с громадной фигурой в рясе. Он казался вдвое ниже и вдвое тоньше этого крупного человека. Тютчев назвал игумена "преподобным", чем польстил Пересвету и всему монастырю: ведь так называют лишь святых или пущих праведников после смерти, а при жизни...
– Преподобный Сергий удалился в лес, а братия – вся во трудах: кто пасет, кто рубит дрова, кто ушел в кузницу в Радонеж сохи править.
– Московский великий князь прислал преподобному Сергию коня. Возьми его.
Пересвет поклонился.
– Квашня! Веди Серпеня!
– Серпень... Вельми красно назван... И конь вель-ми добр – крутошей, подборист, – тихо говорил Пересвет, любуясь необыкновенно красивым конем. Войдите в обитель, отдыхайте на паперти, на услонце солнечном, а я схожу за преподобным.
Пересвет вышел за ворота, ответил на поклоны богомольцев, заметив среди них ретивых говорунов, беспокойных и дерзких, спустился к реке Кончуре и пошел берегом до старой ели, от которой шла тропа к лесному озеру. И получаса он не шел, да того времени не заметил, как понял, что пришел к месту и надо искать отца Сергия не торопясь. Всякий раз, когда Пересвету приходилось идти сюда за настоятелем, представлялось ему то время, когда никому не известный ростовский человек Кирилл, вконец разоренный, поселился в сих небогатых местах с детьми. Средний, Варфоломей, рано отдалился от мира, уйдя в глушь лесов, и долгие годы жил отшельником, пока не проведали о нем люди и не пошли к нему братья по духу. Недалеко от его лесной хижины и был основан монастырь. Варфоломей постригся, стал Сергием, настоятелем монастыря. А монастырь – двенадцать келий, срубленных каждая своим хозяином, да деревянная церквушка, которую братья взградили сами. Жили порознь и порознь держали свои пожитки и свое серебро. Разных людей принимал игумен Сергий, а когда он заставил слить воедино все пожитки, все серебро, многие покинули обитель. Вот тогда-то и стал игумен ciporo отбирать иноков, ввел строгую жизнь без излишеств, наполненную трудами и молитвой. Еще при князе Иване пошла гулять по всем княжествам, по всей русской земле слава о монастыре Троицком. И пошли сюда люди. И поскакали вестники от князей, от бояр, от митрополита с просьбой прийти, рассудить, унять церковную или княжескую власть. Шли сюда за благословением, шли со скорбью, с радостью, с сомнением. И он выходил из обители все чаще и чаще, усмирял, уговаривал, произносил горячие проповеди, твердил князьям о печали и проклятье земли русской – о ее разъединении. Он отказывался от лошадей, всюду ходил только пешком, проделывая порой сотни верст. Вот и в эту весну проходил больше месяца, оставив монастырь на братью – на келаря и подкеларя, на казначея, на устав-шика, на любимого хлебопека Пересвета. Корил князя Михаила Тверского, а потом корил в Новгороде посадника, московского наместника и старост всех пяти концов аа то, что снова выпустили на разбой ушкуйников, творящих беды не только в землях запредельных, но и в своих, как было это в шестьдесят седьмом году. Вернулся игумен еле жив, со сбитыми ногами, исхудавший, оборванный. Принес книги греческого и русского письма, зимой станет поучение говорить братьям – времени вдосталь... А ныне вот удалился в лес, видимо соскучал по зверям своим, да и паломники вчера ввечеру сильно опечалили его нескромными речами.
Игумен Сергий сидел на толстой валежине, а перед ним, за пнем, стоял на задних лапах медведь и ел с высокого пня хлеб. Видимо, хлеб был медом обметан, потому что медведь захлебывался слюной. Крупный зверь, почти черный, серебрился матерой шерстью, был, видимо, крутого нрава, но смотрел на старца ласково. С этим медведем игумен дружен много лет, с той давней поры затворничества одинокого... Пересвет знал, что не следует подходить близко. Он постоял некоторое время над спуском к озеру, посмотрел сверху на седую голову старца, невольно сравнил ее с седым, серебристым загривком медведя. Игумен сидел перед медведем прямо-спинно, величаво. Он был худ, тонок костью, и если бы не высокий рост, заметный даже тогда, когда игумен сидел, то его можно было бы принять за отрока.
– Отче Сергий! – негромко позвал Пересвет.
Старец медленно повернул голову, и открылось бледное, в продольно павших складках тонкое и сухое лицо, казавшееся еще длинней от узкой седой бороды, редкой, очесанной временем. Пересвет понял, что игумен внимает ему, пояснил:
– Там от великого князя Московского.
Медведь забеспокоился, заводил мокрым носом, взревел, учуя стороннего человека, седой киршень вскинулся на загривке, но от пня мишка не отходил, держал его обеими лапами и торопливо лизал протекший на него мед.
– Изыди, Феодор, не трави зверя, – послышался крепкий спокойный голос – Я в сей час приду, ждите.
"Ждите..." Он будто бы знал, что ждать его будут не один и не два человека, а много, и не ошибся: на берегу, в полверсте от монастыря поджидала небольшая толпа богомольцев. Ее привел на берег, дабы перехватить игумена, стригольник Евсей, посланный своим духовным наставником Карпом из Новгорода. Пересвет тоже не пошел дальше берега, чтобы не оставлять на этой полверсте отца Сергия с толпой, разожженной стригольником.
– Идет. Идет! – поднялся ропот. Посымали шапки.
– Ага, идё! – изрек Евсей и крепче натянул на голову свою круглую баранью аську, после чего стригольник ощерился в улыбке, излучив морщинами широкое конопатое лицо, сощурился и вышагнул навстречу знаменитому праведнику.
Игумен приближался, опираясь на самодельный посох, босой, прямой и бесстрашный.
– Отче Сергий!
Игумен не обратил внимания на этот возглас Евсея, приостановился, чтобы осенить всех крестным знаменьем, и только после этого глянул сверху на низкорослого человека.
– Чем смущена душа твоя? – спросил он кротко.
– Наставник мой, Карп, велел испросить: коли праведники духом своим сильны, к богу близки и примерны в делах своих, то почто праведники те от людей бегут? Почто жить им в пустынях, лесах да пещерах?
– Ядовит язык твой, сыне... Скажи мне: есть ли при тебе серебро?
– Звенит помалу.
– Где ты носишь его? Чему дивишься? Отвечай!
– На шее, в малом тобольце.
– А почто не во длани носишь, открытой всем?
– Во длани носить – серебра не видать: развеют его желанья свои и людской глаз.
– Истинно так, сыне... Но серебро – тлен. Я же реку: духовная ценность вечна, нетленна, но и хрупка, и всяк норовит коснуться ее, а потому хранить ее надобно строго, неприлюдно, дабы не истрепали ее всуе, дабы от рук нечистых не истаяла она. Да и времена ныне смятенны. Внемлешь ли словам моим?
Евсей задумчиво приумолк. Шапку он еще крепче, обеими руками прижал к голове. Игумен снова благословил толпу – двух крестьянок, убогого горбуна и четверых еще, что были с Евсеем.
– Отче Сергий! – воскликнул Евсей, увидав, что игумен пошел в сопровождении Пересвета, но старец не остановился, а лишь повернул на миг голову, слушая. – Поведай: ладно ли деют попы, что на крестьбинах, похоронах да свадьбах мед бражкый пьют, а в проповедях не велят того мирянам? Почто попы венчают и развенчивают не пораз за посул великой?
– Отринь, сыне, приход его и внимай тем, кто праведен.
– А праведен ли епископ, еже весь чин его на мзде поставлен? – Евсей забегал вперед то слева, то справа, при каждом вопросе старался заглянуть в лицо игумена.
– Праведен тот, кто жив трудом своим и словом, услышанным из божьих уст.
Между тем толпа разгоралась и при каждом новом вопросе Евсея и ответе игумена все горячей выказывала свой интерес. Горбун же кричал, непонятно и дико, махал руками на Евсея, стараясь унять еретические речи.
– Мой наставник, Карп, всех попов отринул! Всех епископов и самого митрополита!
– Почто так? – не выдержал и-спросил Пересвет. Евсей глянул на него, с опаской забежал на другую сторону, слева от игумена, и ответил:
– Понеже все они церкву божию себе в корысть обратили, превратя дом богородицы во сундук бездонен! Попы – разрушители веры христовой! Достоит ли при-мать от их таинства святые, коль сами они обычаем похабны?
Пёресвет вспомнил ту ночь, ту ночевку в сторожке Симонова монастыря, речи стригольника Карпа – тот говорил то же, только был еще непримиримей и злей, а речи о вере были еще крамольней и страшней.
Но вот уж и монастырь, богомольцы у ворот. Какой-то боярин привязал лошадь под дорогим седлом у коновязи, а телегу, груженную мешками и кадушками, подправил к самым воротам.
– Отче Сергий! – воскликнул боярин. – Благослови раба божия Никиту да приими дары скромны: рожь, пшено, мед пресной и сыры.
Игумен приблизился к нему и долго крестил его, потом твердо сказал:
– Дары отвези ко двору и раздари тем, что трудится о них, но гладом истощает себя, – рабам и рабыням, детям и внукам раздари.
Он растворил ворота, оставив их настежь, и оттуда, со двора, пахнуло тонким запахом печеного хлеба.
– Удались ли хлебы ныне? – спросил игумен хлебопека.
Пересвет не успел ответить, что хлебы удались и хватит их на братию и нищих.
Над Троицкой обителью раздался колокольный звон и потек по реке, над лесом, достигая села Радонежа и созывая к обедне монахов и мирян.
* * *
От Князева подарка, от коня, отец Сергий не отказался, но и ездить на нем. не обещал. Велел отвести ему лучшее стойло, в плуг не впрягать, а следить за конем поставил опять же Пересвета. Этот инок исправно пек хлебы, главной же работой была конюшня, заготовка сена, овса на зиму, пастьба летом, и все это Пересвет делал исправно и радостно.
После обедни посыльные великого князя – Тютчев, Квашня и новый их сотоварищ, принятый ими вместо погибшего Семена, Яков Ослябя, засобирались в Москву. Не по душе, видать, молодым Князевым дружинникам тишь монастырской обители, лучше они припоздают, заночуют в какой-либо деревне, посидят у костра на берегу реки... Однако игумен Сергий не пожелал их отпустить спроста, не расспросив хотя бы о делах мирских, княжеских, о событиях, уже волновавших княжий двор, мир и монастыри.
– Во здравии ли отец твой? – спросил игумен Якова, но ни словом не обмолвился о брате его, иноке Родионе, ушедшем куда-то на Двину или дальше искать рай на земле.
– Болен, батюшко, – потупился Яков.
Старец внимательно рассмотрел его – суховатый, костистый, голосом, однако, крепок, он походил на брата своего. "Вернется ли?" – подумалось игумену. Посыльные сидели на низком крыльце игуменской кельи. Слушали весну, слова роняли негромко, обдуманно, как могли, опасаясь не угодить отцу Сергию.
– Вернулись ли сын Вельяминова с Некоматом из Твери?
После смерти тысяцкого Василия Вельяминова в минувшем году сын его Иван не был поставлен на место отца: великий князь упразднил высокую должность тысяцких на Москве. В обиде Иван бежал в Тверь.
– Тут неведомо, отец Сергий, кто кого сомутил – Иван Некомата-сурожанина или тот Ивана, токмо слышно было, что-де Михайло Тверской принял их с лю-бовию, а ныне, после пасхи, напровадил будто бы в Орду, – отвечал Тютчев степенно и значительно добавил: – Надобно внове ждать послов с ярлыком ханским в Тверь.
Игумен Сергий, ходя по Руси, озабочен был теми же мыслями, даже грамоту послал епископу Тверскому, дабы тот унял князя, отвратил его от пути братоубийственного, по которому опять пускался князь.
Яков Ослябя томился больше сотоварищей: ему и оставаться тут было тяжело и хотелось спросить, где жил брат его, и старый игумен разгадал молодого воина.
– Поди, отроче, во-он в ту келью, что перед последней поставлена, указал он сухой ладонью в конец двора. – Поди, то келья брата твоего, никто там не живет. Тешу мыслию отрадной себя: вернется он в Троицку обитель, Яков вышел, поклонясь. Тютчев и Квашня степенно молчали, посматривая на затравеневший весенний двор, на позеленевшие, взявшиеся мохом бревна забора, стоймя врытые в землю.
Солнце клонилось к западу, Тютчев сделал знак Квашне, молодые вой поднялись и испросили благословенья.
Пересвет затворил за ними ворота и постоял, смотря им вслед. Вот поедут эти вольные молодые вой, будут перекликаться в дороге со встречными, улыбаться женщинам и петь мирские песни... А наступит час, они сядут на своих коней и устремятся в лихой скачке на ворога и сгинут в брани лютой вот им и рай небесный и вечная память на земле.
Вечером он ходил во мшаник, где ночевали вповалку богомольцы, – носил им хлеб и квас и наслушался престрашных рассказов о разбое ушкуйников, о душегубстве на дорогах. Эти рассказы, и уход Осляби, и ежеве-сеннее томленье по мирской жизни, растревоженное появлением в обители молодых воев, но особенно слова Евсея надломили в душе Пересвета что-то такое, к чему ранее опасался прикасаться.
Когда он вернулся, затворив ворота, и направился было в свою келью, поеживаясь от весеннего холода, от тумана, накатившего на обитель с реки, как всегда, после захода солнца, то заметил в церкви, через растворенную дверь, свет одинокой свечи. Приостановился, хотел зайти, но устыдился зачем мешать игумену? Так бы и ушел, но старец появился в дверях, посмотрел на инока и позвал.
Внутри церкви было совсем темно, туда и днем-то мало втекало света сквозь волоковые оконца, а в тот час горела лишь одна сальная свеча и было так тихо, что слышалось шипенье сала, в котором сгорала шерстяная крученая нитка, да тяжелое дыханье Пересвета.
– Феодор! Здесь токмо бог и мы... Отвори душу – и снизойдет благодать облегчения.
– Ты видишь, отче, душа моя смятена... Вот уж четвертую весну бури навещают меня. Зиму креплюсь молитвою, а как по весне приходят миряне, я журавлю-зимушнику подобен – рвуся к ним глазама и ушама, как сей день... Отче! Поведай мне пред иконою; почто так творится на Руси – по дорогам смертоубийство утвердилось, развратников веры люди слушают, не убо-ясь греха. Князья да бояре в кровавой купели землю крестят, а перед смертию постригаются в монахи и мрут с лицом преспокойным, ибо, греша всю жизнь, они за мало время в иночестве отмаливают грехи свои. Мне презренны слова стригольников, но и я бьюся в мелком недомыслии своем, страшась спросить тебя, отче...
Старый игумен стоял перед Пересветом, спиной к царским вратам. Он стоял со свечой в руке и смотрел на инока неистовым взглядом проповедника.
– Исповедуйся, сыне! Не оставляй в себе сомнения, они стравят душу твою, рже подобно...
– Скажи мне, отче, каким грехом великим прогневил бога народ? За что томим он неволею?
– О грехах да не грешным вопрошати... Удел смертного – замаливать грехи. Не отступи от заповедей! Мы, слуги дома божия, богатства тленного избежав, верою творим благо.
– Отче... Сыми камень с души многогрешной... Поведай, почто вера наша, праведна и воссияпна в веках, иных вер превыше и чище, но почто она пред ворогом безбранна и души ископыченны еще ниже смирять велит? Зимою ты твердил нам, как явилась на Руси вера, како несли ее из земель греческих... Грешен, отче!..
– Говори!
– Не подменили ли ту веру в пути? Не злым ли промыслом то изделано, дабы смирить нрав огневой древних русичей и тем обороть необоримых?
Игумен не ответил. Он медленно повернулся к иконе, укрепил свечу, стал молиться стоя, но страстно, сбивчиво, повторяя одни и те же слова: "Укрепи помышление мое..." Но вот он повернулся. Лицо оставалось в тени, а голова была охвачена светлым ореолом – то свеча высветлила белый, как пух, оклад волос.
– Престрашны слова твои, иноче Феодоре! Помни писание: неправедный, отступив от веры в гневе или сомнении своем, во братоубийственных яростях погибнет! Крепка ли вера, вопрошаеши ты, коли она, смягчая нрав народен, вселяет в сердца любовь? Да! Единственно крепка! Она – опора во дни мира и в час брани великой, ибо опорою и надежей земли не та десница станет в смертный час, коя с колыбели меч держит, но та, коя, благо творя, землю украшает, ближнего тешит, в той деснице меч крепче, ибо ведает она, за что меч тот подъ-емлет. В годину скорби и брани едину опору храни – веру, помни писание: воссияет она и над единомыслием лукавства смешанных языков, движет праведником и во младомысленном чаде будущий день крепит!
Пересвет опустился на колени. Игумен переступил босыми ногами, отошел от освещенной иконы. Казалось Пересвету, что он пошел к выходу, но позади снова послышался его крепкий голос:
– Помысли, сыне, наедине: чем живы мы ныне в розни княжеской? Не вера ли единит нас? Не она ли в час нужный подымет Русь, а час тот близится.
Он вышел неслышно, не притворив двери, распахнутой в весенний вечер. Ночная бабочка запорхала над свечой, раскидывая по рубленым стенам церкви страшные тени.
7
Три мирных года пролетели незримо, и вот уж снова потянуло хладом с севера и с юга: Мамай принял с честью московских беглецов – Ивана Вельяминова и купца Некомата – с дарами от князя Михаила Тверского, принял с речами сладкими, с обещаниями и хулой на великого князя Московского. Сам Михаил отправился в Литву и, на радостях, что Дмитрий отпустил из Москвы Ваньку, сосватал непутевому наследнику дочь Кесту-та – Марию. Через эту свадьбу Литва вновь становилась опасной для Москвы. В княжестве Московском поселилось беспокойство, но страха не было.
– Да что нам Тверь? – кричал на княжем дворе Митька Мо.настырев, хлебнувший меду в княжей подклети поварной. – То не княжество – сума нища!
– Истинно, истинно! – вторил Кусаков. – Взять ту суму да закинуть во крапиву!
– Так, так! – дергал шеей раненый Федор Свиблов. Бодрились и меньшие дружинники. Захарка Тютчев в воскресенье на всю церкву Михайлы-архангела орал:
– Чё – Литва? Чё? – и наступал на Якова Ослябю. – Она уже четвертый год без головы: старой Ольгерд давно уж единой ногой во трех гробах!
Дмитрий слышал это. Из церкви он шел повеселевший после слов Тютчева, – во, язык-то! – но слова эти больше на сердце ложились, голова же не принимала их всерьез.
На рундуке встретил великого князя чашник Климент Поленин, воздел тонкие женские руки к седой голове:
– Димитрий Иванович, батюшко! Ванька Минин с Монастыревым в терем ломились – челом бить метили, дабы ты пустил их Тверь брать на щит! Увидал, что князь прихмурил чело, опустил очи долу: – Меду браж-ного испили, греховодники... Ради петрова дня...
Дмитрий прошел в покои к Евдокии. Жена еще не вернулась из церкви, ушла с теремными боярынями, зато дети, разыгравшиеся на половиках, кинулись к нему – Даниил подпрыгнул, ухватился за шею, Вася, любимец, повис на поясе и рожицу измазанную к отцу тянет – целуй! Меньшой, Юрий, еще не ходил, но уже играл деревянным конем, ладно вырезанным из липы Бренком. Игрушки для ребятишек тот вырезал неустанно, но с еще большей охотой носил их сам в эту половину терема. Понятно для чего: повидать дочь боярскую Анисью...
С детьми игралось невесело. Из головы не выходили разговоры бояр и воевод. "А Иван-то Минин какие речи ведет? Не забыл ли, как брат его, Митя, изрублен был со всем полком? А Монастырев с Кусаковым? Забыли, поди, как рязанцы вышли супротив Боброка, похваляясь: без мечей одолеем Москву! Повяжем-де их, как баранов! А Боброк посек их мечом превеликое число... Когда кончится сие?"
Но не похвальба воевод огорчала его, а предчувствие новой распри с Тверью. Сама Тверь – невелика опаска, но если Тверь выступит супротив Москвы, и младенцу станет ясно, что за спиной ее стоит не только Литва (этого теперь мало), а сама Орда. А с Ордой уже затлело... В прошлом годе явились от Сарая послы в Нижний Новгород во главе с мурзой Сарайкой. Видимо, наученные Мамаем, позорили князя Дмитрия Нижегородского и граждан. Полторы тысячи Сарайкиных слуг творили свою волю, как баскаки в прошлом. Князь Дмитрий Константинович помнил наказ зятя своего, великого князя; воеводы подняли народ, и все воинство Сарайки-но было побито. Малое число оставшихся с самим Сарайкой заперли в порубах и держали как заложников. Весной нынешнего года были побиты почти все заложники, а Мамай снова послал войско на нижегородскую землю, опустошил берега реки Киши и иные притоки Суры, пожег села и деревни за рекою Пьяною. Дмитрий не пошел на них – не поддался на приманку Мамая.., Нет покою в русской земле.
* * *
Вечером того же дня Дмитрий ехал через Москву с малою дружиною в гости к брату: на петров день собирались у владетеля московской трети ближние бояре и воеводы. Жены их сбирались на дворе великого князя, и когда Дмитрий выезжал, то на дворе уже было тесно от летних нарядных колымаг.
В дни сенокоса Москва особенно сильно пустела и рано затихала. Далеко за город вышли люди целыми семьями, и ни в кузнечных слободах, ни в гончарных, ни у кожемяк, ни у хамовников, ни у иных черных людей московских в сенокосную пору не кипит работа, зато не утихает сенокосная, радостная страда вдоль бессчетных рек, по лугам, по лесным полянам. Как грибы, вырастают копны и скирды, весело перекликаются бабы, и скрипят, скрипят тяжелогруженые возы с сеном, медленно ползущие через мосты, по плотинам мельниц. Все гуще и гуще запах сена по улицам Москвы, но все еще тихо, пустынно на них, и только сегодня, в петров день, нахлынули потоки людей к церквам, а с полудня гомонят они по дворам своим. Через день-другой снова впрягутся в нелегкую, но самую дружную и радостную работу, чтобы добить покос на славу, а там, глядишь, поспела уборка. Так и течет она, размеренная, грешная и праведная жизнь человека, если ее не пресечет заполош-ньш колокольным звоном война.
Выехав через Боровицкие ворота, дружина сразу взяла на Старое Ваганьково и, оставив по правую руку кладбище и церковь, пересекла Арбат и вскоре оказалась между Введенским монастырем и берегом Москвы-реки, в том ее месте, где впадает в нее речка Пресня. Отсюда до двора Серпуховского меньше версты. Вот уж затемнели зеленью три холма – Три Горы, как звали это место, – а под ними, в растворе рощи, тоже буйно-зеленой в это щедрое на дожди и солнце лето, закурчавился резными крыльцами, рундуком, оконцами терем князя.
– Красен терем князя и пречудно резьбою испещрен! – воскликнул иерей и печатник Митяй. Раньше он здесь не бывал.
На выездах был он теперь всегда по левую руку от князя. Службой своей он был доволен: доходы его не убыли на Москве, ест и пьет с княжего стола, только появились завистники, вроде суздальского епископа Дионисия, Митяю довели свои люди, что епископ этот косо смотрит на водворение коломенского собрата в княжем дворе, ревнует, видимо, что близок стал Митяй и к верховной власти церковной...
Великого князя брат встретил с гостями сразу же за Пресней. Бренок уступил свое место и теперь издали посматривал на багряное корзно князя. Прислушивался.
– А что святитель наш? – спросил Серпуховской.
– Немочь обуяла святителя, – вздохнул Дмитрий.
– Стар наш святитель, стар... – сладко вымолвил Митяй.
В терему, в большой стольной палате, встречала княгиня Елена (не пустил ее муж на бабий сбор). Дмитрий вошел первым, снял легкую соболью шапку, помолился в красный угол. Княгиня Елена в расписном, голубом, как небо, сарафане шагнула навстречу к нему и поклонилась большим обычаем, коснувшись рукой намытого дбжелта пола. Две разодетые в белые сарафаны теремные девки тоже поклонились, но только в пояс, держа в руках "честной поклон" – одна хлеб-соль на шитой холщовой утирке, длинной и новой, хоть на божницу вешай, вторая держала глиняный кувшин и серебряную чашу.
А пожалуй-ко ты к нам, да великой князь, А пожалуй-то ты к нам на почёстной пир! – пропела Елена и опять поклонилась, блеснув серебром шитого сарафана.
Теремная девка налила в чашу вина и ждала, когда княгиня возьмет у второй хлеб-соль и поднесет. Дмитрий поцеловал пахучий подовый каравай тепло и сладостно, потом отломил корку, макнул ее в соль и съел. Не успел отдать каравай Бренку, как княгиня приступила с чашей. Пригубила сама и подала Дмитрию. Он перекрестился, принял чашу и стал пить. А девки теремные громко запели:
А как выпил светел князь пития яндову,
И почуял светел князь силушку велику!
Дмитрий выпил чашу и трижды поцеловался с хозяйкой. Он прошел к столам, а рядом с княгиней теперь встал хозяин. Княгиня подносила каждому гостю чашу, тот выпивал. Князь просил поцеловать его жену, но каждый гость просил Серпуховского сделать это сначала самому. Серпуховской целовал, за ним целовал гость и проходил к столам с шутками. Шутки сыпались и от порога, и с рундука, где оставались пока менее родовитые и потому особенно веселые люди – Митька Мо-настырев с Кусаковым и Мининым, толстяк Олешин-ский. Митяй прошел к столам вторым, он уже благословил хозяйку и терем ее и теперь взирал на столы, за которые степенно, по указанию Серпуховского и в строгом порядке (не посадить бы худородного ближе к князю, чем нарочитого!) рассаживались гости. Шурша добротными, вышитыми длинными рубахами, разглаживая бороды, сидели плечо к плечу соратники Дмитрия. Великий князь засмотрелся на их лица, разглаженные от дум сладким часом гостевания. Серпуховской уступил свое место в красном углу, в голове стола великому князю, а сам сел на столец, что был ступенью ниже. Столы тянулись во всю палату и загибались к порогу. Там, за "кривым" столом, усаживалась малая дружина и уже слышался голос Тютчева – кого-то уж подрезал языком своим. Он ныне женился на пленнице выкупленной, что оказалась дочерью нижегородского купца...
– Елена! – Серпуховской подал жене знак, и та вынесла тяжелую золоченую булаву.
– Ах, хороша-а! – крякнул Кочевии-Олешинский при виде дорогой вещи.
– Это тебе, великой княже, для уряду за сим столом: кто лишне изопьет – с булавой повенчается! – С этими словами Серпуховской подал булаву Дмитрию.
– Митька! Это про тебя! – воскликнул Кусаков. Столы сдержанно засмеялись, посматривая на Монастырева.
– Да минет хороброго вояку булава! – сказал Дмитрий, и все поняли: Митька отныне в любимцах у великого князя.
Владыка Митяй осенил стол крестом, изрек краткое слово о Петре и Павле и еще раз осенил крестом питье и еду. Он был велеречив, громогласен и сладкозвучен. Ласково постреливал глазом на великого князя и брата его, и Дмитрий уже в который раз дивился: почему недолюбливают сего ученого пастыря? Пир надо было править великому князю, и он, редко делавший это, старался вспомнить подсмотренные в детстве пиры, что правил его отец, и посылал со слугами кубки и яндовы именитым . гостям. Прежде самому хозяину, потом – ближнему воеводе Тимофею Васильевичу Вельяминову. Мрачен он и суров. Мрачен, что схоронил тысяцкого, брата своего, суров потому, что сбежал племянник Иван, в Орду спроважен с Некоматом... Только бы не заговорили про это за столом, но как тут не заговорят? Заговорили!
– Митрей Иванович, князь наш великой, дозволь слово молвить! – начал Акинф Шуба на правах двоюродного брата Серпуховского. С лица они едины, только усы у Шубы вниз канули и голосом тонок...
Дмитрий кивнул неохотно.
– Каково разумеешь, великой княже, о Некомате?
– За измену в ответе он будет! А покуда я поял себе все деревни его и терем московский! Ладно ли створил, бояре?
– Ладно, ладно!
– Так, так!
– А с Ванькой чего делать станешь? – не отставал Шуба.
Вот привязался, дурак, не вовремя. Тимофей головой поник, воеводы заерзали по лавкам, а у Морозова уши так раскраснелись, хоть лучину прижигай...
– Молодо-зелено... – проговорил Кочевин-Олешин-ский, но Дмитрий не поддержал его, однако и не ответил. Он смолчал и так же молча послал чашу меду Шубе.
Столы придавил груз раздумий, да и до веселья ли, когда году не проходит, чтобы не садилась Москва на коней. Так ли было при Калите или Иване Красном? .Четыре десятка лет не видала Русь набегов, и вот при
Дмитрии началось... В чем тот горький заквас? Не он ли, Дмитрий, повинен?
– Димитрей свет Иванович! – это тиун Свиблов незримо оказался за главным столом, верно, прошел за спиной припоздавшего слегка Боброка. – А ведь Неко-мат-от мстит тебе за того Серебряника, что ты с собою в Орду увел!
– Так, так! – поддакнул его брат Федор и шеей подергал.
– Иекомат жаден, а Ванька Вельяминов глуп, да разве их страшиться? Опомнитесь, бояре! Ежели Москва не учинит единение земель – не устоять против Орды. Эвона, купцы фряжски намедни челом мне били, на Двину промышлять просились, а у самих одно на уме: не нагрянет ли Орда новым походом, понеже от того походу и они опасаются живота избыть. Все те фряжские, свейские, немецкие страны недреманным оком следят за нами: сломит нас Орда – не властвовать им в своих землях. Ныне они храбры, покуда Русь Орду за своею спиною держит, а ну падем? Как станет супротив Орды тот же немец? То-то! Недаром сам патриарх новгородский дары от ханов приемлет. Тьфу!