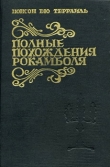Текст книги "Искупление"
Автор книги: Василий Лебедев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Тетка Марья, будто выжатая этой толпой, оказалась впереди и одна за всех снова зашлась истошным воплем и повалилась на колени. Ее не держали, не подымали, видать, предугадывали что-го еще. Она и впрямь поползла на коленях к порогу, за которым в растворе стоял великий князь.
– Митенька-а-а! Солнышко наше незакатно-о-о! Не вели казнити Ванюшку! Вели миловати-и!
Тяжело и глухо стучали ее колени, путаясь в сарафане, а мягкие белые ладони упрямо шлепали по половицам белыми оладьями. Вот уж совсем рядом ее полное белое лицо, мокрое от слез, и рука уже тянется к нему... Дмитрий резко захлопнул дверь да так и держал ее некоторое время за скобу, остановив дыхание и прислушиваясь. Там, за дверью, послышались подвывания и ропот родственниц и теремных боярынь великой княгини.
Дмитрий торопливо, сбивая половики, прошел чрез все покои на переходы, вышиб ногой дверь на рундук и пошел тешить себя зычным голосом, набираясь в нем крепости душевной, полнясь расплесканным было мужеством:
– Дядька Микита!
Он пошарил глазами по широкому двору и увидал, как от конюшенного навеса, где толпились ключник с подключниками, конюший и мечник Бренок с покладни-ком Полениным, торопливо крестясь, семенил большой тиун Никита Свиблов. "Эко рожу-то крестит! До меня ныне, како до сотоны, без креста не подходят!" – невесело подумалось Дмитрию, и он строго крикнул, тряхнув скобкой волос и останавливая тиуна еще внизу:
– Зови бояр на совет! Ближних, нарочитых... скоро велю!
* * *
Долго ждать не пришлось, да и не диво: последние дни ни у кого и дела не делались, только и разговоров по дворам было, что о Ваньке Вельяминове да о том, как огрозился великий князь. И вот уже потянулись по рундуку, заскрипели ступенями.
Первый появился Родион Калитин, боярин старый, отцу служивший, Ивану Красному. Сына своего, Квашню, не пустил: молод еще в совете сидеть, хоть и ведомо было ему, что великий князь не перечит и благоволит тому. Федор Кошка неслышно пробрался по-за стене и усмирился в дальнем углу палаты, забыв прежнюю веселость: смерть дружка Монастырева и тяжелый совет угнетали его. На ближних лавках разместились, расстегнув охабни от шеи до подола, Федор Свиблов и Иван Уда. Потом толпой, будто для смелости дождавшись друг друга на дворе, ввалились в ответную, крестясь и рассаживаясь по лавкам, норовя забиться подальше, Андрей Серкиз, случившийся в Москве из Переяславля (наехал, понятное дело, не случайно: слухом земля полнится), рядом приткнулся Семен Мелик, а за ним – Лев Морозов. На пороге палаты пропустили по-отцовски еще один клубок бояр Дмитрий Боброк и Владимир Серпуховской. Боброк после Вожи ходил немного скособочась: копьем угодило в бок, да спас надежный, своей работы калантарь... Последним пропустили Кочевина-Олешинского. Косматый проскочил через порог и дрянной походкой, крадучись, просеменил мимо великого князя к левой от входа, еще. свободной лавке. Вспомнив, что не осенил себя крестом, он приостановился лицом в красный угол, поднял глаза к иконам и положил поклон, но тут же смутился и сел под усмешки: в углу, под иконой, восседал Кошка, и кланяться ему велика честь! Бояре немного отмякли – заговорили тихонько, кивали друг другу бородами, опасливо поглядывая на великого князя, озадаченно переглядывались: нет Тимофея Вельяминова. Но вот пришел и он. Молча помолился и сел на самом видном месте, просторном, будто намеренно оставленном для него – прямо напротив великого князя. Михайло Бре-нок уложил в переходных сенях отобранные мечи и вошел с известием: приехал владыка! И вот явился он, новый святитель, митрополит Михаил. В сиянии богатых риз, святитель остановился посередь ответной палаты, помолился на образ Спаса в углу, благословил великого князя, потом всех бояр. Дмитрий все это время сидел недвижно, как каменный идол, изваянный каким-нибудь греком, лишь в последний миг указал на свободный сто-лец рядом с собою. Митрополит сел, охорашиваясь, укладывая большой золотой крест на груди.
Еще с минуту Дмитрий молчал, оглядывая палату, чуть подергивая широкие рукава голубой, шитой серебряными травами рубахи, и больше – ни движенья, даже ногами не шевельнул, не мелькнул сапогами красной кожи, лишь неприметно подергалась борода – то губу покусал в раздумье.
– Бояре! – Голос чуть осекся, но тут же набрал силу и ровность: – Вам всем ведома кручина моя. Скажите словесно да без утайки, что створим с Иваном, сыном Васильевым Вельяминовым?
Первым заговорил митрополит:
– Сам ты, сыне, великой княже, ведаеши, что не бывала такая нечесть столу великокняжескому ни при прадедах твоих, ни при дедах, ни при отце. А ныне что деется? Столоотступники самовольно выбиваются из-под крыла княжего, а потом его же ужалить норовят! В вере – стригольники, во княжестве – столоотступники, все они с сотоною в сердце пребывают, и грехи деют, и неправды творят. Им бы, крещеным, умиление имети, многие молитвы творити, а они зло творят, злато да славу промышляют, душу свою губя!
А на лавках уже тихонько зашептались. Гудели бояре из бороды в бороду, чтэ-де Митяй, став митрополитом Михаилом, начал со всех церквей дань сбирать без разбору, даже с тех, что от прежнего митрополита Алексея пребывали в своей воле. Берет, мол, сборы петровские, рождественские, Никольские – зимние и летние – доходы и оброки митрополичьи и иные поборы многие. Текут к нему и пошлины судные...
– Ныне сборного по шести алтын с каждой церкви имает митрополит, да по три алтына на каждый заезд, да десятиннику, да за въездное... – шуршал Кочевин-Олешинский бородой прямо в ухо Льву Морозову, но тот лишь слегка кивал и, будто стыдясь, еще сильнее распалялся ушами, лицом, шеей.
Долетали шепотки и до Дмитрия. Он уловил в них настроение палаты и понял: шепчутся не потому, что новый митрополит до сей поры еще не пришелся по душе московским боярам, не потому, что взбунтовался против него архиерей Дионисий, а потому, что заговорил святитель не в ту сторону – не в защиту Ваньки Вельяминова.
– Ну, как мыслишь, святитель, про отступника земли русской? – заглушая пересуды, загремел Дмитрий.
Митрополит выпрямил спину, утер уста пальцами и торжественно промолвил, подняв голову и воздев взор к потолку:
– Аз поял ныне в советники господа нашего, та-кожде и совесть свою, грешную, и надоумили они меня тако: Ваньку Вельяминова, сына Васильева, живота не лишати, но посадити в поруб крепкой и держати тамо от рождества богородицы до рождества Христова. Аминь!
Дмитрий выслушал, насупясь. Кажется, он впервые сейчас усомнился в ставленнике своем: не брал ли он посул великий златом али мягкой рухлядью от Вельяминовых за свое митрополичье слово-заступу?
– Князь Володимер Ондреич! Какую ты думу положишь на наш суд?
– А у меня так положено, княже: истинно изрек владыка Михаил. Посадити Ваньку в поруб, а по прошествии срока дать ему кнута и отправить на Двину комаров кормить!
Серпуховской хотел вроде добавить, но смолчал, откинулся к стене спиной и стал дергать усы-шилья.
– А коль ускочит Ванька со Двины? – выкрикнул Кошка из своего угла.
– От сего поклепника и лжепослуха всего жди! – тотчас поддакнул Кочевин-Олешинский и принялся за свою привычку – пошел чесать голову и бороду. Чудной. Дмитрий и не ждал от него путного слова. Теперь он смотрел на остальных, но бояре и воеводы опускали очи долу, похоже, они были довольны тем, что вынесли на суд большие бояре и митрополит, а если и не мыслили так, то не набрались смелости перечить. Пришлось кивнуть Боброку.
Боброк, видимо, чуял, что его время подходит, и загодя начал оглаживать ладонями колени. Он некоторое время пристально смотрел в лицо великого князя, стараясь проникнуть в его мысли, и уже хотел было высказать давно готовые, свои, но вдруг нежданно и непонятно для себя опустил голову, сломал бороду о грудь широкую, будто устыдясь помыслов своих.
– Почто, Митрей Михайлович, опустил очи долу? – изстрога глянул Дмитрий на своего старого учителя.
Боброк поднял голову, встретил взгляд Дмитрия и ответил:
– Великому князю ума не занимать, а советы наши... – Боброк выкатил свои глазищи, но глядел куда-то в окно, будто говорил сейчас с силами небесными. – Великой князь Московский и без оных советов добр преизлиху.
Вот ведь как ответствовал Боброк! Тонок Дмитрий Михайлович! Вроде и от совета отрекся, а сам совет дал: и так, мол, много прощено великим князем на сей земле – "добр преизлиху"!
Ответная ждала, Акинф Шуба неловко шевельнулся, кашлянул и затих, опасаясь, что заставят его говорить.
Нет, не было еще столь тяжкого сиденья боярского. Тут каждое слово ложится на века и века будет помниться в роду сильных бояр Вельяминовых, а коль западет туда – крепче сказаний летописных удержится. А как тут слово молвить? Великому князю потрафишь – врагом Вельяминовых станешь, а и супротив Ваньки слово отпустишь – тоже неведомо, что думает великий князь, может, он тоже только и ждет, чтобы все помиловали отступника, тогда и ему легче доброе дело сотворить. Вот тут и подумаешь, прежде чем уста открыть. Вот уж когда молчанье – золото!
– Боярин Юрья! Полно тебе бороду цапать, изречешь ли слово судное?
Вопрос Дмитрия поверг Кочевина-Олешинского в смятенье. Пальцы его вмиг окостенели и крючьми зацепились за бороду – не разогнуть от страху, не выдернуть.
– Изречено... бысть... поклепник ускочит... Дмитрий в досаде махнул рукой – затвори, мол, уста несмышлены! – и повернулся наконец к Тимофею Вельяминову, сидевшему совсем отрешенно – так, как если бы он в этот час говорил с самим богом. Этого момента ждала вся ответная.
– Боярин Вельяминов! – Дмитрий произнес это жестко, но умерил строгость и мягче добавил: – Тимофей Васильевич! Настал час и тебе высказать начистоту все потаенные думы про ллемянника своего. Внемлем тебе!
Вельяминов поднялся с лавки. Вышагнул к середине палаты, там он повернулся спиной к великому князю, лицам – к иконе и трижды перекрестился. После этого он сделал еще шаг, на самую середину, и остановился. Тучный, он, казалось, сейчас стеснен дородством своим, расшитым желто-алым кафтаном из оксамита, только что ему смущаться, коли всем ведом богатый и сильный род Вельяминовых? Тут как в хорошей песне – все на месте и по боярину кафтан...
– Великой княже! Бояре! Ныне, как и присно, уповаю на бога и на вас... Ты, княже, от всех людей любим и почитаем, ты красен людским попечением и никогда не оставлял ни богата, ни нища. Не остави же ныне и заблудшую овцу мирскую, племянника моего да и тебе не стороннего... С гордынею не совладал Иван, лукавый его попутал. Это – мое слово, великой княже, но в слове сием вопли матери его, молитвы загробны отца его. Во имя памяти отца, служившего тебе верою-правдою, как служили великокняжескому роду наши деды и прадеды, помилуй Ивана, не отыми дни его, отпущенные богом. Не нам, тленным, отымать то, что дано богом человеку – живот его... Смилуйся, великой княже, государь наш!
Тимофей Вельяминов едва не пал на колени, как смерд, но сдержался и низко – большим обычаем, касаясь рукой пола – поклонился сначала Дмитрию, потом на три стороны всем боярам. После этого он снова сел посреди пустого, как поле, провала лавки.
Тишь наполнила ответную, и, когда Кочевин-Оле-шинский подвинулся к Вельяминову, было слышно это. Тимофей Васильевич благодарно покосился на князя Юрью: добрый знак, коли бояре стали подвигаться к нему. Но больше никто не двинулся. Тишина. На дворе, где-то в самом углу, должно быть у конюшни, проржал конь, и слышно было еще, как плеснуло ведро у колодца – то понесли, видно, воду в поварную подклеть, на кашу челяди.
Великий князь нежданно поднялся со стольца. Дмитрий ведал, что это не в обычае, но выход Вельяминова на середину был так величав и так подействовал на боярский совет, что Дмитрию необходимо было еще до слов заслонить чем-то Тимофея Васильевича, И вот поднялся он и заговорил:
– Бояре и ты, владыко! – Голос сразу набрал мощь. Слова вырубались коротко, четко. – Вам ведомы мой нрав и обычаи. Памятно вам, что с божией, с вашей и митрополита, святителя Алексея, помощью заступил я престол великокняжеский, по дедине и отчине мне доставшийся. С той поры укрепил я великое княжение свое всем на радость. Не мы ли побили ворога? Не мы ли крепили землю? Не под вами ли держал я и держу ныне грады и веси? И любо мне, что отчину свою в русской земле я сохранил, а вас, слуг моих, такожде и детей ваших, всех любил, в чести держал, никого не изобидя.
На этих словах Дмитрий умолк ненадолго, ухватя бороду крупной рукой и глядя на Тимофея Вельяминова. Сидел дядька Тимофей бледный, как холстина с морозу. Так никто к нему больше и не подсел, не подвинулся, кроме князя Юрьи, сторонились, ровно прокаженного, а ему поди-ко нелегко! Не от взглядов боярских нелегко, а от слез, тех напутствий, что надавали ему на дворе Вельяминовых все, от мала до велика. Вот и сидит большой боярин Тимофей, остекленя глаза и бороду выставя, будто на крест готовый.
– Мало ли земля наша видывала набегов вражьих, всегибельного пала во градах и весях! Превелико скудельниц, телами порубленными наполненных, по сю пору в очах стынет. Не раз была котора великая с князьями удельными, слагали мелки князья крестное цело-ванье ко мне, от скверны их словесной, что от комариного зуду, еле руками отмахалися, но миновала землю сию презренная пакость – предание ее злому ворогу. А ныне? А ныне, бояре, то предательство свершилось! А свершил его отпрыск не последнего, но достойного роду – роду Вельяминовых. Это ли не срам? Это ли не печаль земле многогорькой? Земля наша ждет от родов сих защиты, строения и укрепы. Молвя "земля", я в помыслах держу – "люди", и прости я ныне Ивана Вельяминова, что скажет челядин на дворах наших? Что скажет простец всей земли русской? Даром ли катит, по всей Москве, по всем посадам ее, по всем черным сотням молва приухмыльная, что-де ворон ворону глаз не выклюнет? Прости ввечеру Ваньку, а наутре незримо отшатнутся от нас души людские. Великие душ тыщи! А не с ними ли мне да и всем вам, бояре, еще предстоит выйти супротив ворога во грядущий, во черный час, где падет уже не едина глава...
Вельяминов ссутулился, опустив к полу упавшие меж колен руки. Бояре не подымали голов. Боброк наконец успокоил ладони на коленях и уставился на воспитанника своего в восторженном удивлении, целиком захватившем бывалого воеводу.
Дмитрий сделал паузу, видимо, сам собирался с силами, дабы твердо провозгласить:
– И ныне, не убоясь греха, велю грозно исполнить повеление мое...
Эти слова великого князя наслоились на возгласы пасынковой дружины с Соборной площади, хотя не они, а иные звуки вдруг приковали внимание женский стон из-за двери ответной палаты. Там не должно было быть никого, кроме Бренка да в крайнем случае – дядьки Микиты...
Дмитрий приблизился к двери и отворил ее с осторожностью. Мечник, растерянный, стоял перед великим князем не в силах ничего объяснить, хотя и так легко было уразуметь: за дверью слушали те, кого даже мечник не смог отправить в покои.
– Евдокия? – спросил Дмитрий. Бренок кивнул.
Дмитрий покусал губу и в сердцах повелел:
– Зови отца Нестора!
Он вернулся к своему стольцу и никого не отпустил. Явился новый духовник и печатник, заменивший Митяя. Дмитрий указал ему на подоконник, где тот и пристроился стоя, разложив драгоценную бумагу, перья и глиняную чернильницу. Это были последние тяжкие минуты боярского совета, последние слова великого князя, теперь уже ложившиеся на бумагу:
– Повелением великого князя Московского месяца августа тридцатого дня на Кучкове поле презренного предателя, поклепяика, злодержателя супротив земли русской Вельяминова Ивана, сына Васильева, предать смерти!
Дмитрий тяжело поднялся со стольца и подошел к окошку, смотревшему на полуношную сторону. А там, чуть правее реки Неглинной, за Кремлем, за посадом, лежало Кучково поле. Там два с лишним столетия назад был убит первый хозяин этих мест, боярин Кучка. Там пролилась кровь этого невинного боярина от руки другого великого князя – Андрея Боголюбского. Пролилась кровь и сына Кучки, и до сей поры страшно помыслить, какой будет судьба сего града, коль невинная кровь влилася в основание его...
Ответная палата сидела молча.
* * *
Последним митрополит благословил Тимофея Вельяминова, и палата опустела, остался лишь Кочевин-Оле-шинский. Был он боярин митрополичий и имел право находиться при митрополите. Да его, боярина Юрью, чаще всего и не считали за полновесную ипостась, относясь к нему как к посоху первопастыря.
– Сыне! Великой княже! Не мне – богу судити о прегрешениях наших....
Дмитрию не было нужды выслушивать митрополита, не было желания да и сил тоже, но он не отослал владыку, а лишь насупился, склонясь бородой на грудь. Против ожидания, митрополит воздержался от поучений и укоров, он будто бы забыл о том, что сейчас только произошло здесь, на кремлевском холме, и удивление Дмитрия прошло, стоило митрополиту продолжить:
– Злокознями сотоны не токмо у великого князя заводятся вороги, но и у митрополита...
Вот теперь понятно: Дмитрий не единожды выслушивал по вечерам тихие словеса покладника Поленина, знавшего все новости на Москве, и не единожды доводил покладник о нежеланной смуте в митрополии. И иных уст и вовсе непристойные слухи долетали до великого киязя, шептали на Москве злонравные люди, что-де коломенский Митяй возведен Дмитрием в митрополиты не за мзду и не за так, но единственно за то, что у княгини Евдокии еще со свадьбы в Коломне нецерковное смирение пред лепотою митрополичьего лица. Неспроста великий князь, в угоду княгине, без патриаршего соизволения, самовольно поставил в митрополиты Митяя, а присланного из Царя-града Киприана с дороги поворотил бесчинно. Спроста ли? Но паче всех взъярился переяславский епископ Дионисий. Он набрызгал слюны на бороду митрополиту Михаилу, грозя ославить его по всем землям и нажаловаться в Царь-град. Пришлось оковать строптивого, но святой старец, Сергий Радонежский, руку дал за него, что отречется Дионисий от своих намерений. Отпустили...
– Сотона не спит с сотворения мира, – продолжал владыка Михаил, – и напускает слуг своих на тех, кто богу угоден. На тя, княже, напустил Ваньку Вельяминова, на мя напустил Дионисея, прескверного не токмо мыслями своими злокозненными, но и деяниями.
– Дионисий каялся, – ответил Дмитрий, подымая глаза на митрополита.
– Пред алтарем каялся, а на сотону косился: сбежал Дионисей во Царь-град, дабы хулу возвесть на мя, грешного, и на тя, княже!
– Сбежал?! – Дмитрий поднялся со стольца и тяжело отошел к красному углу. Остановился перед иконой. Перекрестился. – Сбежал,.. Праведного Сергия, что руку за него давал, во грех ввел!
– Его опередить надобно! – стукнул митрополит о половицу золоченым, в дорогих каменьях посохом.
– Не опередишь... – Дмитрий повернулся к владыке и твердо сказал: Ехать же во Царь-град тебе надобно. Грядущим летом собирайся. Дары отвезешь – перевесишь сего поклепника. Пойду я, владыко, душу гнетет...
6
Евдокия не вышла из своей половины. Ввечеру еще Дмитрий нашел пустынной крестовую палату, ложницу и даже детскую повалушу: Евдокия присылала теремную боярыню, жену Бренка, за детьми, и теперь все они ночуют у матери. Так уже бывало, когда он сильно огорчал ее. "Добре... Добре, жено!" – в сердцах твердил Дмитрий, слоняясь во тьме палат, и только когда прискреблись спальники из гридни и стали располагаться в переходных сенях, Дмитрий кликнул Поленина и велел стелить в крестовой.
– Не обессудь, великой княже, – заговорил Поле-нин, приволакивая из ложницы постельник и беличье одеяло, – токмо молва на боярских дворах да и на посаде не жалует тебя из-за Ваньки.
– Жалости предались?
– Так ведь сам посуди: Ванька чуть из отроков вышел!
– Эко рассудили! Ванька млад, а я – пожилой? Я тебя вопрошаю: я пожилой? То-то! А он меня извести норовил!
– Княже! Да мы тя любим всем сердцем, всей душою...
– Поди вон! "Всей душою!"
Поленин попятился, пошарил бледными, выпростанными из рукавов руками по двери, нащупал скобку и неслышно вышел.
Нет, никогда еще не был Дмитрий так строг с боярами и слугами, но никогда раньше не чувствовал он в себе такой твердости, не замечал такой ясности в голове.
Сон сбили ему задолго до полночи. Тиун Свиблов царапал дверь и робко молил отворить. Дмитрий отсу-иул засов.
– Митрей свет Иванович! Бога ради смилуйся и не гневайся. Повеление твое не смогли исполнити: не нашли на Москве ни единого мастера заплечных дел. Нету.
Это Дмитрий упустил. Да и откуда взяться им, коли не бывало на Москве казней принародных. Тиун стоял ссутулясь, по усталому лицу был размазан рукавом пот и блестел сально в свете свечей, что держали гридные спальники. За порог Дмитрий его не пустил, так и стояли в распахнутой двери, и тени их колыхались по стенам.
– По-доброму ли искали, дядька Микита? – спросил Дмитрий, понимая в то же время, что спрашивать это не следовало, потому не ищут того, чего нет. Поди разыщи Григорью Капустина и передай ему повеленье мое: завтра своею рукою он казнит Ваньку Вельяминова! И да исполнит он сие грозно и скоро!
Тиун поклонился и пошел, крестясь. Дмитрий видел через дверной притвор, как он устало раскидывал руки, касаясь на переходе стены, так же устало перешагивал высокий порог, выходя на рундук. "Вот кто пожилой..." подумал Дмитрий, затворил дверь и отправился к постели, устроенной в красном углу, изголовьем к иконам. На ходу он глянул в темный омут окошка и не увидал ни вблизи, под самым Кремлем, ни вдали, на посаде, ни единого огня. Глухо спала Москва последнюю ночь перед первой в ее истории казнью.
* * *
Сразу после заутрени, еще и солнце не обсушило крыши, а три полка: великокняжеский стремянной, полк пасынков и полк тоже детей боярских уже были в седлах. Слышалось что-то тревожное в ржании коней, выкриках сотников, в говоре толпы, набежавшей в кремлевские церкви к заутрене да так и оставшейся в стенах. Смятение людское перекинулось на скотину, и вот уж нарастал в закутах кремлевских дворов визг поросят, а из-за реки накатывало коровий рев.
Дмитрий слышал все это через растворенные окна, пока переодевался. Поленян вытащил из сундука богатый наряд: новые красные сапоги с серебряными подковами, зеленого оксамита порты и того же цвета кафтан, шитый серебряной канителью. На плевд Поленин набросил Дмитрию алое корзно (любил это делать Поленин). Нынче он ни словом не обмолвился о Ваньке, хоть всю ночь не давали ему покою Вельяминовы – просили-молили, подносили дорогой посул и довели до того, что сам он согласился бы лечь под топор, но просить великого князя о помиловании не стал.
– Изготовлен ли конь? – задал Дмитрий праздный вопрос, зная точно, что конь готов с вечера, спросил для того, чтобы покладник понял: князь не держит зла за вчерашнее.
– Подуздный вывел под злащеным седлом, батюшка...
Дмитрий появился на рундуке и услышал издали нарастающий вал голосов то неслось с соборной площади, откуда увидали его посадские люди. Он спустился вниз, где стояли тесной толпой ближние бояре, кроме Вельяминова, и направился было к коню, что вели ему навстречу, но вдруг остановился. Перед ним, растеснив толпу бояр, вырос во всю свою телесную мощь Григорий Капустин. Дмитрий и бровь не успел вскинуть от удивления, как богатырь, недавно поверстанный званием тысячника, пал на колени, смерду подобно.
– Великой княже! Не посрами имя мое! Не дай пасти на весь род мой черному проклятию – не вели мне поганить руки свои казнью Вельяминова!
Это было совсем неожиданно. Тут уж прибежали от Беклемишевых и довели, что Ваньку вывели из башни и, связанного, закинули в телегу. А что дальше и сам великий князь не ведал, ибо стоял на распутье.
– Вельяминовых опасаешься? – спросил Дмитрий.
– Никто мне не страшен! – решительно воскликнул Капустин, все еще стоя на коленях, пачкая парчовые порты землей. Дмитрий хорошо знал, что это так, что робость не селилась в сердце этого верного слуги и первого богатыря на Москве.
– Ты за великого князя не желаешь руку поднять? – пошел Дмитрий на последнее средство, но и тут Капустин нашелся:
– За тебя, Митрей Иванович, рад живот положить в брани лютой с любым врагом. Повели – и выйду один супротив сотни, дух испущу и не устрашуся! Токмо не вели... Молю тя, княже, не дай сгинути душе слуги своего! Не несут меня ноги на Кучково поле. Мне краше в колодец кинуться, нежели обагрить руку кровью православного. Прости мя, княже, отыми у меня все деревни и земли, как у Ваньки Вельяминова, голову отруби – то за счастье почту, нежели сам рубить стану...
Дмитрий хотел перешагнуть через павшего на землю Капустина, но такую гору не перешагнешь, и он в растерянности пнул его ногой.
– Поди прочь, дабы очи мои тя не зрели! – вдруг воскликнул Дмитрий, теряя самообладание. – А вы чего выстоялись, взоры утупя? – повернулся он к толпе ближних бояр. – Кто тут на руку скор? Кто из вас, из бояр, готов показать службу свою? Кто покажет службу сию – даю все деревни Ванькины, все села со приселками, кои поял я за собой. Кто? Молчите, воды в рот набравши! Крови страшитеся? Ручки измарать страши-теся? А кто из вас, из бояр, али из ваших отцов тысяцкого Алексея Хвоста умертвил? Кто решился на то во мраке рассветном вон на той, на Соборной площади? Не вы ли? Приумолкли! Не сын ли боярской убил великого князя Андрея Боголюбского? То-то!
Но тут Дмитрий понял, что сказал лишнее: Боголюб-окого кровь пролилась за кровь отца и сына Кучки... И, вспомнив это, пригасил великий князь взор свой и тяжело приблизился к коню. Отстранил было подуздного и хотел молодцевато вскочить в седло, но почувствовал слабость. Стремянной гридчик ловко поставил оковрен-ный приступ, и Дмитрий, едва ли не впервые, не пренебрег им, а ступил на него, вдел ногу в стремя и медленно сел в седло. Бояре кинулись было к своим коням, но Дмитрий строго остановил:
– Чего бородами затрясли? Бежите – седые власы, будто перо куриное, трясете на стороны, а чтобы совет великому князю дать – нету вас! Где найти мастера заплечных дел?
В растворенных воротах, чуть поодаль от всех остальных, стоял князь Серпуховской. С помощью слуги он сел на своего вороного коня и подъехал к великому князю, ибо пешком подходить было бы зазорно.
– Брате! Не утруждай себя сим поиском. Нету заплечных дел мастеров на Москве, чем и славен град наш! – сказал Владимир Андреевич и замолк. Послышался гул одобрения.– Повеление же твое – казнить Ваньку Вельяминова исчолнит злокозник, Ванькин пособник – Жмых, ныне пребывающий в башне у бояр Беклемишевых!
– Истинно!
– Истинно так!
– Мудро изрек Володи мер Ондреич!
Дмитрий и сам, под шум боярских голосов, готов был обнять брата, но сдержался, лишь кивнул. Он увидел, как Григорий Капустин вихрем сорвался с места, подбежал к полку гридни и с первого же коня смахнул седока, как муху с седла. Сам вскочил и, пастясь улыбкой во все лицо, погнал серого в яблоках жеребца через ворота, через соборную площадь, прямо ко двору Беклемишевых. Дмитрий тоже был рад за него и, повеселев, велел выезжать со двора.
* * *
Ивану не лежалось на телеге. Он, увязанный, будто куль, толстой веревкой, силился сесть, и это ему удавалось, если телегу качало не шибко, и тогда всем становилось видно его бледное, ставшее неожиданно красивым лицо. Его не портили даже узко посаженные глаза, а волосы, вымытые накануне в бане Беклемишевых, куда водили Ваньку под стражей, рассыпались на щеки легким ленком и подымались, и пряли по ветру. Чистая рубаха, вышитая матерью, боярыней Марьей, была надета утром перед причастьем. Из шитого шелком ворота белела гордая шея, гладкая, юная...
– Эва голову-то воздымает, – ворчали ближние бояре, будто ненароком косясь на великого князя.
– Истинно! Ишь уста-те кривит!
– Криворотой себе на уме!
– Надо бы: великого князя в Орде приторговал!
– Эва, эва! Брови-те возвел горе!
– Молиться хочет! Руки развяжите!
– Как дьявола ни крести, он все кричит: пусти!
За телегой вольно шел Жмых. Он смотрел по сторонам, и на лице его, исстеганном кнутом Капустина, не было ни смятения, ни жалости к Ваньке. Этот отсечет голову, не дрогнет...
Впереди шел легкой рысью полк пасынков. За ним – телега с Ванькой Вельяминовым. За телегой – полусотня гридников, потом – великий князь с боярами, а следом, то напирая, то придерживая удила, резвился стремянной полк великого князя, красуясь дородством и блеском упряжи.
А кругом валил народ. Плотные серые толпы мальчишек в старых зипунах, во рвани шапок песком пересыпали слева и справа. Поддаваясь общему движенью, спешили неторопливые обычно кузнецы, кожемяки, горшечники, плотники, мастера каменного строения, дегтя-ри, дровосеки... Особо держалась, не смешиваясь даже в общей толпе, дворня разных бояр. Челядь... В черных сотнях были повольней на слово. Они кричали без большой оглядки на бояр и великого князя:
– И чего не хватало Ваньке? Жил бы!
– Не нам попа каять, на то есть другой поп!
– Пришел кончик, сердешному! Думано ли?
– Судила судьба киселем заговеться!
– Небывало дело: прилюдно живота избыть!
– Вот судьба: ныне губы в меду, а наутрее – во гроб тебя кладу!
– Простил бы великий князь – Ванька бы век за него молился!
– Не-е! Тут сошлись, како кистень с обухом!
– Нельзя прощать: зло коренливо!
– А пролита кровь – не во зло?
– Вот то-то и есть: Андрей Боголюбской убил Кучку, и его убили...
– Прикуси язык! Не то в башне Беклемишевых вырвут!
– А у меня их два, языка-то! Един – для господа бога, другой – для дьявола!
– Богат Тимошка – и кила с лукошко!
– Зрите! Едва не пал Ванька!
Телега с Иваном Вельяминовым вытягивалась из рытвины и разворачивалась у широкого старого пня. Все три полка-дружины пошли по кругу, стали оттеснять напиравший народ и с трудом оттоптали свободный пятачок земли, похожий на измятый щит.
– Жмых, развяжи его! – крикнули из дружины гридников. Но Жмых и ухом не повел. Он выдернул из сена, из-под Ваньки, топор, ПОЛОЖИЛ его на плечо и за-похаживал у телеги. Никто из больших бояр, как и Дмитрий, не знал порядка этому непривычному делу и потому все шло комом. Великий князь требовал исполнить его повеление боярам. Те зашушукались и стали выкликать все того же Григория Капустина. Когда московский богатырь, чуть оробев (не его ли опять заставят голову рубить), приблизился к телеге и сказал Жмыху тихо некие непонятные другим слова, знакомые тому по страшной башне, тот забегал. Зубами вцепился в веревки и развязал узлы. Огладил Ивана.
– Не робей, я тя не больно...
– Брысь!
Иван Вельяминов поднялся на ноги. Одна уперлась в грядку телеги. Сено, зеленое, свежее, только-только накошенное на подмосковных лугах, доставало ему колено другой. Он оглядел. Кучково поле и смотрел, казалось, не на народ, не на воинство князево и не на князя, а куда-то дальше, будто что-то вспоминал. Может, и впрямь, вспомнился ему тот день, когда наехал с сотней татар посол Сарыхожа, и он, еще совсем молодой, скакал рядом с отцом, тысяцким Вельяминовым, потом мчался от воинства за коршуном и подстрелил хищника из лука... Давно было...