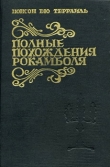Текст книги "Искупление"
Автор книги: Василий Лебедев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)
Углан левого подскакал к Красному холму с двумя своими слугами, спешился и взбежал на холм:
– Эзен!
"И он еще смеет называть меня великим, как Те-мир!" – Мамай отошел к ставке, к чаше с каракумысом, и стиснул зубы: чаша давно стояла на солнце! Он взял чашу, вернулся.
– Эзен!.. – углан Кутлуг осекся.
Мамай выплеснул ему теплый каракумыс в лицо.
– Подлый, глупый шакал! Ты рвался по краю оврага, а не по центру крыла русских! Они пропустили тебя и столкнули в овраг, как слепого верблюда! Я привяжу тебе деревянный хвост и заставлю гонять и бить головешками!
– Эзен! Дай мне еще тьму конников!..
– Я дам тебе тьму конников, но ты поведешь их на большой полк русских и срубишь их презренное знамя!
Позади углана уже стоял темник кашиков и, оска-лясь, держал обнаженную саблю в темных подтеках уже застывшей крови порубленных кочевников.
– Возьми остатки черной пехоты, остатки нашей, вдохни мужество в тех, кто завяз сейчас в центре, и брось все эти силы на большой полк!
Мамай понимал, что большой полк углану не сокрушить, но надеялся, что удар по нему будет сильным и, возможно, отвлечет запасный полк, тяготевший к левому крылу русских. Он опасался какой бы то ни было подмоги там, потому что уже наметил главный удар на левое крыло и всю надежду возлагал на тот последний, решающий удар. Если там, на левом крыле русских, удастся проломить брешь, он не пожалеет для победы ничего и бросит туда свой золотой коварный припас – тьму кашиков.
От Красного холма отошли и приготовились к удару последние десятки тысяч. "Неужели и они уйдут туда и исчезнут, как в трясине, в этих тонких рядах русских? Тонких и все еще не рвущихся..."
Он вглядывался с холма и не мог точно определить, велики ли потери у князя Дмитрия: горы трупов мешали видеть и сбивали с толку.
22
Полк правой руки исполнил свой долг: выстоял. Остатки его продолжали стоять, как велено было великим князем, и, прячась за увалы мертвых, перестреливались с татарами, больше не приступавшими. Но затишье на этом краю мало радовало: в середине, на большой полк, уже вдвое поредевший, кинулись большие и свежие силы.
Михайло Бренок, который волей-неволей исполнял роль великого князя, уже около часа как оказался в первых рядах, поскольку передовые были вырублены. Знамя по-прежнему развевалось над его золоченым шлемом. Ему нет-нет и доносили о ходе побоища на краях – в полку правой и левой руки. Он уже знал, что погибли князья Белозерские, – это он видел в передовом полку, погиб сын бывшего тысяцкого Николай Вельяминов... Сказали, что погиб на левом крыле Лев Морозов. Но тосковать было некогда: сильный удар конницы в лицо большого полка и одновременно охватное движение ее смяли передние ряды большого полка. Бренок неожиданно увидал – и обрадовался! – живого великого князя. Оа отходил без коня в сторону левого крыла, кровь текла у него изо рта... И еще заметил Бренок, что латы на груди были измяты, видно, сильным ударом копья. Кто-то рыжий, без шлема, отбился от татарского конника и повел великого князя к левому крылу войск. "Жив!" – ударила радость, и, уже готовясь встретить татарскую конницу, он понял, что рыжеволосый – это Елизар Серебряник...
Но что-то изменилось в стойкости большого полка. Что – этого Бренок сразу не понял, но, когда принял первый удар копья на щит, когда отбил кривую саблю и поразил одного, потом другого нукера, стало ясно: усталость подкралась и коварно сковывала руки, спину, шею. А кругом снова вскипел ад. Падали те, кто продержался с ним вот уж почти три часа, кто навалил горы трупов...
– Братия! За Русь! Потянем заедино! – кричал оглохшим голосом Бренок, и колол, и рубил, и нырял под страшные удары копий, но одно из них угодило ему в бок, и он замертво повис в стременах.
Темно-багровое знамя покачнулось и пало.
Визг радости разнесся по рядам нукеров. Углан левого крыла горел страстью охотника, чуя, что тут, в сердце битвы, может свершиться желанное – русские побегут, а это и есть победа. Но, видя замешательство а рядах большого полка, видч, что больше не блестит золоченым шлем Бренка, что нет бородищи Вельяминова и, главное, нет знамени, Григорий Капустин, которому велено было с Дмитрием Брянским стоять в запасном полку, свистнул оглушительно и ринулся в самую гущу татар. Дружина опытных воев вела за собой юных кме-тей, коих набрал по Москве гридник Палладий. Этот встречный удар приостановил татарскую конницу, а чуть позже5 когда Капустин располовинил углана левого крыла, развалив его от плеча до алмазного полумесяца, болтавшегося на золотой цепи, нукеры дрогнули. Передние ряды их, углубившиеся в ряды большого полка, повернули назад и смяли идущих на помощь собратьев. Их били со всех сторон, по всем правилам окруженной рати, которой нет спасения. В пылу схватки Капустин не устоял на месте, как велено было князем и Боброком, он кинулся за оступающими нукерами и, переваливая через увал трупов, выставил себя напоказ – наткнулся на стрелу. Она попала прямо в лицо – ни уклониться, ни перенести этот страшный рубящий удар. Конь тоже рухнул под Капустиным – четыре стрелы вошли ему в грудь и бока, а несколько стрел отскочило от доспехов славного и уже мертвого тысячника.
Умеют отстреливаться яукеры, отступая...
На правом крыле все сложилось так, как рассчитал Мамай: самые крупные силы ударили всей мощью на передние ряды князя Федора Моложского, в то время, как запасный полк (Мамай видел и радовался этому!) завяз среди поредевших воинов большого полка. И хоть там снова взметнулось великокняжеское знамя, дело было сделано: запасных сил у полка левой руки не осталось
В ходе всего этого изнурительного побоища не складывалось для русских полков более тяжкого часа. В то время, как на далеком правом краю князь Андрей Ростовской, напрягая силы, отбивался от мелких наездов нукеров и нес потери от их смертоносных стрел, а большой полк не мог отрядить на помощь ни одной тысячи изможденных воев, потому что Мамай велел держать обе эти точки в напряжении боя лучного и мелких приступов, – на краю, у Зеленой дубравы, в полку левой руки, гибли десятки, сотни и тысячи. Татары старались узким, кинжальным ударом пробить сначала неширокую брешь, оттеснить упорных русских пеших воев от дубравы и, удерживая этот проход, дать дорогу тысячам свежих сил, коим надлежало обойти наконец русских и, смешав их ряды, обратить в бегство, чтобы излюбленным способом вырубить их при отступлении.
Однако и тут получилась заминка: русские стояли! Была смята дружина Федора Михайловича Моложского, Сам он со стрелой в боку отъехал к дубраве и свалился там с седла. Боярин Андрей Серкиз собрал оставшиеся сотни и закрыл брешь. Servian правого крыла помнил судьбу своего сотоварища и, чтобы не упустить напряжение битвы, бросил в бой все запасные отряды, предназначенные для прохода и охвата оставшихся потрепанных русских полков. Силы получились неравные: на каждого русского тут пришлось по четверо нукеров.,.. Андрей Серкиз и его друг Волуй с несколькими сотнями перекрыли путь тьме,
– Братья! Милые! – закричал Серкиз. – Смерть на брани – дело божье! Порушим нечестивых!
И они держались, пока все до единого не были вырублены. Князь Василий Ярославский, один из подколенных князей великого князя Московского, снял свои задние ряды и заткнул ими образовавшееся пространство, но вскоре и они поредели...
В большом полку появился с рыжими прядями из-под шлема высокий ратник на коне и потребовал дружину гридников во главе с Палладием на помощь полку левой руки.
– Пойдем, сынки, там тяжко вельми, а не то – пропало бабино трепало! Скоро за мной!
И Елизар Серебряник увел юных воев. Еще издали он с ужасом заметил, что от Красного холма с дьявольским свистом, визгом летела дикая тьма кашиков: Мамай бросил свой последний резерв, свою гвардию! Еще больше испугался Елизар, когда нежданно наткнулся глазом на великого князя, уже рубившегося снова в передних рядах на буланом коне. В считанные минуты там все перемешалось: крики, стоны, дикий степной визг, лязг сабель, тяжелый грохот мечей по железу, и страшное зрелище смерти – разбитые головы, порушенные тела, проклятья, предсмертные хрипы, ржанье и визг раненых коней, скользкие увалы трупов – все это предстало перед глазами юных воев из дружины Палладия а все это было так далеко от представления о славных походах древних князей, о коих читалось в летописных сказаниях и слышалось из былин древнего времени, что оми, хоть и насмотрелись сегодня за день на смерть сотен людей, не вынесли этого зрелища и невольно повернули коней.
После гибели Льва Морозова на левом крыле Елизар Серебряник, ушедший из большого полка за великим князем сюда, ближе к Зеленой дубраве, не видел столь тревожного зрелища. Бежали юные вой, оголяя левое крыло сразу на несколько сот сажен. Елизар бросился было за ними, дабы остановить, но новый вид, еще более страшный, поразлл его. На свободном от теснины клочке поля, куда уже накатывали кашики, метался, взбрыкивая, буланый конь. В седле, задом наперед, сидел молодой кметь и дергал коня за хвост. В свободной руке он держал чью-то отрубленную руку и весело размахивал ею над головой. Он запрокидывал русую простоволосую голову назад и дико хохотал вослед убегавшим. От хохота этого, на несколько мгновений вдруг покрывшего звуки битвы, дрожь прокатилась по телу Елизара.
"Скрянулся разумом, сердешной..." – догадался он, и надо было бы перекреститься, но дикая лава кашиков уже брала разгон, увидев желанный простор, освобожденный на левом крыле русских.
– Сынове! Сердешные мои! – прокричал Елизар и погнал коня вслед дружине Палладия, но те не слышали, увлеченные спасительно-веселым бегством от смерти.
Елизар, настегивая коня, заметил, что нагоняет, и даже успел оглянуться, увидеть, как помешавшийся в яростной битве кметь поднялся в стременах и один с окровавленной рукой остался против лавы ордынцев. Это зрелище поразило, видимо, и тех. Они, попридерживая коней, закричали и изрубили несчастного в куски.
– Сынове, милые! Стойте, бога ради! – Елизар перегнал отступающих, снял шлем перед ними и... впервые заплакал: – Не дайте позору пасть на поле сие священное! Зрите, сколько сгинуло братьев ваших и отцов! Предадим ли мы в сей роковой час память их? Сынове! Ударим вси заедино! Потянем, а не то пропало бабино трепало и не воскреснет доброе копье...
Палладий, бежавший один из первых, устыдился. Пошмыгал носом, утер ладонью глаза и повелел:
– А ну, поворачивай на поганых! Али мы ее русские? А?
– Скорее, сынове милые! Скорее за мной! Вот зрите, как я сгину глазом не моргну!
И Елизар кинулся навстречу совсем близкой смерти – туда, где не оставалось уже ни одного стройного ряда русских, оттесненных от дубравы, а в проход вырвалась с гиканьем последняя, свежая лава бешеных кашиков.
– О! Они-то нам и надобны! Сынове, за Русь!
И удивительное дело! Полторы тысячи юных воев с Елизаром Серебряником во главе завязали неравную рубку на краю Зеленой дубравы, отходя с потерями, но не убегая. Елизар тоже поднялся в стременах, для того чтобы юные вой видели его и дольше держали бы ряды.
Но ряды таяли, и кашики все же прорвались и разворачивались для смертельного удара в спину большого полка. В то же время, ожидая этого удара, готовились ударить в лицо и те нукеры, что налезали и налезали со стороны Красного холма.
Со слезами рубились юные вой, с криком, но рубились и не отходили. Елизар заметил пятнадцатилетнего сына Лагуты. Он узнал Воислава по белому шраму на виске – увидел и навеки потерял: кожаную шапчонку разрубил кашик вместе с головой... Елизар потерял из виду врага, кинулся было отомстить за Воислава, но тяжелый удар копьем в бок опрокинул его. Калантарь выдержал, только перехватало дыханье, но новый удар саблей был хлесток и точно рассчитан по голове. Елизар нашел в себе силы и, вися в стремени, поднял руку со щитом. Острая боль в плече, и конь вытряхнул его на кучу мягких и липких трупов.
Он услышал еще воинственные крики татар:
– Урранг! Урранг! – Но крики эти вдруг потонули в других – в криках страха, которые легко разобрал Елизар.
Вскоре послышались кэики русских – мощный вал гневных голосов и топот тысяч свежих коней.
– Царица небесная!.. – проговорил Елизар и хотел подняться, чтобы увидеть, как засадный полк Боброка и Серпуховского, истомившийся ожиданием своего часу, крошил и рвал на части десятки, сотни, тысячи кашиков, вмиг рассеявшихся по краю Куликова поля от задних рядов большого полка до Непрядвы.
– Вершись, правое дело!.. – шептал Елизар, но так и не мог подняться и увидеть конец битвы. Глаза его застилал туман – желто-красная густая пелена, а боль в боку и плече свалила его наконец, и он ткнулся шлемом в спину кашика, еще подымавшуюся в предсмертном дыхании.
23
В первые два часа битвы даже Федор Кошка не смел выходить к опушке Зеленой дубравы, опасаясь гяг-ва Боброка, лишь князь Серпуховской подкрадывался с поляны, осторожно раздвигал кусты и молча топорщил усы за спиною большого воеводы. Картина, что открывалась взору, была раз от разу асе тревожнее и страшней. Отсюда не видно было не только полков правой руки, но и большой полк едва угадывался по священным хоругвям, колыхавшимся на длинных древках вокруг великокняжеского знамени. Оттуда доносился самый страшный рев. Но на третьем часу битвы, когда солнышко стало как раз напротив дубравы, неладное содеялось и тут, в полку левой руки. Тут с самого начала пешая орда, учиня смертоносную стрельбу из луков, навалилась наконец грудь в грудь на полк боярина Льва Морозова, стоявший первым, и битва у Зеленой дубравы сразу выровнялась. Шла она так же отчаянно и страшно, как всюду, но на пространстве в каких-то семьсот саженей трудно было ордынцам перевесить. Их было много больше, но попробуй поставь против одного русского троих – места мало, вот и ждали вороги, когда выбьют передних, чтобы вступить, и напирали сзади, торопя передних в дальнюю дорогу – на тот свет. Однако для полка Морозова время готовило испытание. Силы его иссякали, и дело было не только в том, что нестерпимая жара, жажда, напряжение нервов и просто усталость вымотали бессменно стоявших ратников, дело было в том, что их просто мало оставалось. Мало, а пространство в семьсот саженей, казавшееся ранее совсем крохотным по сравнению с большой силой ратников, теперь растягивалось на глазах и, чтобы заполнить его и с прежней плотностью держать тяжелый, беспросветный вал нукеров, генуезцев, фрязей – всю эту дикую, ревущую многоязычную стену, задним рядам русских приходилось растекаться, бросаясь в образовавшиеся бреши.
– Не пора ли, Митрей Михайлович? – не выдержал Серпуховской, но Боброк даже не обернулся, лишь глазом дико повел.
Князь отпрянул и тяжело удалился сквозь дубраву к войску. Лучше не смотреть пока..,. На его глазах пал в передовом полку Николай Вельяминов, брат казненного Ивана. Николай сам выбрал это смертное место, и теперь он лежит там, впереди, заваленный грудами трупов, в середине вырубленного полка... Там же пали отчаянные князья Белозерские, князья Друцкие, вся коломенская дружина, догнавшая их за Окой... Мало что осталось и влилось в большой полк от крепкой сторожи Мелика и Тютчева, а сами они тоже там, в глубине этого длинного то ли вала, то ли кургана трупов,..
Через некоторое время князь Серпуховской привел с собою Федора Кошку, в последний раз объехавшего весь засадный полк, давно изготовленный на рать. Они стали за спиной Боброка. Саженях в десяти, в опушко-вом кустарнике были поставлены в два ряда и связаны вожжами телеги, дабы конница ворогов не могла обтечь тут полк левой руки или отдельные, раненые конники не смогли углубиться в дубраву и наткнуться на засадный полк. Все предвидел Боброк. Серпуховской смотрел на серебряные пряди волос, поблескивающие из-под шлема большого воеводы, и ждал минуты, чтобы опять заговорить о выступлении.
– Морозов! – воскликнул Боброк, и все трое увидели, как медленно падало с седла обезглавленное тело боярина, еще раз, уже бездыханное, разъятое надвое звериным ударом сабли...
– Пресвятая богородица.., – прошептал Серпуховской.
– ...приими раба божия Льва в богоотеческом жилище! – перекрестился Боброк, снимая шлем с подшлемником.
Два клина вошли в русскую стену глубоко, почти до последнего ряда, но и в стену татар вошел широкий клин наших. Клин этот разделился, и левый поток его ударил к дубраве и перерезал ворожий клин. Все перемешалось: русские бились далеко в глубине вражего войска, а те клином своим зошли в самые дальние ряды наших. Казалось, сейчас должна решиться судьба великой брани.
– Настал ли час? – спросил Серпуховской, и в голосе его не было сомнения.
Боброк все так же строго покосился на него, хотел обронить слово, но Федор Кошка истошно закричал:
– Великой князь!
Он ринулся было вперед, но Боброк ухватил его сзади за кольчугу и как котенка отволок за спину. Молча. Так же молча глядели, как великий князь, пеший, вышел из рубки, опираясь на обломок копья. Кровь обагрила губу его и чернела на доспехах спереди. На миг мелькнули помятый шлем и поручи, и тут же рыжеволосый воин что-то жарко крачал ему, указывая рукой на дубраву. Великий князь отошел вправо и скрылся из глаз.
– Митрей Михайлович... – простонал Кошка. – Вели ударить!
– Велю стоять!
Во все это время в просветах меж рядами открывался порой в отдалении большой полк. Он скорей угадывался по хоругвям, по великокняжескому знамени, по яркому блеску золоченого шлема Бренка. Но вот уж нет этого шлема, и знамя, поднятое ненадолго, упало вновь. Значит, и там было тяжко... Но и опять весь жар битвы перевалил сюда, на полк левой руки. Тьма пеших ордынцев, брошенная на последний смертельный приступ, оттеснила, вырубила ряд за рядом уставшие передние ряды полка. Оставшиеся не побежали и из последних сил встретили этот натлск. Вмиг возникла теснота. Воины с трудом изловчались для удара мечом, копья же были втоптаны, поломаны или беспомощно торчали рожнами в небо. Бились грудь в грудь, и эту тесноту нежданно усугубила подмога запасного полка. Боброку на миг показалось, что Дмитрий Брянский рано послал свой полк, но тут же понял: не рано...
От Красного холма с воем и визгом катилась еще одна волна пеших, должно быть последняя. Эта волна с их стороны и запасной полк Брянского – с другой учинили на самом жале схватки уже чудовищную тесноту. Воины не могли разить друг друга даже мечами. Зажатые страшным напором задних рядов, резали друг друга ножами-засапожниками, бились головами в лицо, рвали зубами щеки, носы, кисти рук, изловчались вцепиться в шею или в горло. Те, кому удавалось поднять руку с мечом, били не того, кто стоял грудь в грудь, а тех, кто был дальше – во втором, третьем ряду. Убитые стояли, как живые, занимали место, и только тогда, когда в тяжелой раскачке рядов трупы оседали, их облегченно подминали под ноги вместе с ранеными, стремясь стать на них, высвободиться и разить врага сверху. Беспомощно поднятые над головами руки отрубались вместе с мечами и саблями... С той и другой стороны удалось втиснуться по сотне конных с копьями, и они усилили ужас. Сверху, привставая в стременах, билн копьями в лица, в шею, выбивая беспомощных, зажатых, изворачивающихся в агонии страха людей. Так бьют загнанных животных. Так бьют острогой рыбу...
– Постоим за Русь святую! – послышался голос Дмитрия Брянского, но ни его смелость, ни его призывы, ни знамя его, ни святые хоругви – ничто не могло изменить того, что уже назрело, что должно было свершиться: сила одолевала силу. Невероятно быстро рассеялась масса людская, и снова стало просторно. Снова высоко стояли пешие, подымаясь на горы трупов и тяжело переступая по ним. Снова страшно зазияли прорехи в рядах полка левой руки, и снова озаботился Боброк с Серпуховским и Кошкой. Теперь оставались только они и дружина юных воев Палладия, уже раз кидавшаяся на помощь большому полку.
С задубравной поляны прибежал сотник и возвестил со страстью великой:
– Митрей Михайлович! Володимер Ондреич! Там татарвы набежало! – и указал рукой на засадный полх.
Боброка подбросило силой неведомой. Он сгреб сотника в едину горсть и затряс:
– Выпустили? Ну!
– Всех мечом порушили! Сквозь дубраву проникли...
– Много ли?
– С дюжину токмо...
– Велю тебе, сотник Всеволож, немедля напустнти в дубраву сотню лучного бою, дабы ни едина мышь не проскочила! А как мы ударим – всем лучникам тем выйти на раменье дубравное, во кустье припольное и нещадно разить ворога стрелою!
А за деревьями, за рядами телег, за кустами скопилось воинство Мамая: будто волки, почуя добычу, почуяло вкус победы ордынское воинство – победы такой ценой, какую не платили они за все походы вместе от Батыя и по сей день, но тем более вожделенной победы. Здесь, на полк левой руки, брошены последние свежие силы пеших и конных резервов, и вот он, рев радости, рев, раздирающий тысячи глоток:
– Урранг! Урр-рранг!
И то ли ветер прошел по Зеленой дубраве, то ли ударил этот истошный вопль, но листья дубов ворохнулись на ветках.
– Митрей Михайлович, зри!
Боброк видел и без подсказки Серпуховского, как рухнула стена русских от дубравы к центру сразу саженей на полусотне и пошла отжиматься дальше и дальше, а в образовавшийся пролом – такой долгожданный! – неудержимо ринулись все те, что были прибережены угланами, те, кому сам Мамай судил остаться живыми, для того чтобы было кому грабить, жечь, убивать, продолжать нести его победоносные бунчуки по землям, над коими еще не развевается его знамя с полумесяцем.
– Урр-рранг! – неистово ревело совсем рядом.
– Митрей Михайлович! Упустим час! – возвысил голос князь Серпуховской, грозно натопорщив усы.
"И ратовати будут на нас и не премогут..." – шептал про себя Боброк, не отвечая.
– Митрей Михайлович! Я велю...
– Повеление твое не мне исполнять! – Боброк распрямился и встретился со взглядом Серпуховского.
– Они вонзят копье в спину нашим полкам! – еще жестче проговорил Серпуховской.
Боброк отвернулся, прислушиваясь.
Там, за дубравой, мелькнул прапор на невысоком древке – то кинулась в битву дружина юных воев Палладия. Она сумела заградить брешь и, казалось, снова восстановила ряды полка левой руки, но тут налетел последний шквал, самый яростный, – удар гвардии Мамая, конницы кашиков.
– Митрей Михайлович! – голос Серпуховского задрожал.
– Слышу...
– Чего слышишь?
– Слышу ветер велик...
– То не ветер, то – кашики Мамая иссекают тела, наших братьев! Митрей Михайлович! Их целая тьма!
Боброк и сам видел, как повалилась снова только вставшая стена. Расширился проход конницы, но кашики все лезли и лезли в яростном вихре, визге, все расширяли, будто размывали, горловину между Зеленой дубравой и большим полком, к остаткам которого отжимали остатки полка левой руки. Они ввалились в эту воронку, растекались за спиной русских, впивались в задние ряды, начав там долгожданную рубку и в то же время оставляя русским путь к отступлению – к Непрядве.
Но русские, те, кто был жив, стояли! На них усилился напор тех, кто приступал со стороны Красного холма, и напор этот начался на всей линии Куликова поля, дабы сковать последние их силы и дать прорвавшимся ка-шикам дорубать сзади оставшиеся тысячи русских на месте, поскольку те не хотели бежать.
– Настал наш час! – воскликнул Боброк.
Они кинулись к засадному полку, к своим коням, и весь полк, истомившийся ожиданием в седлах, встретил их гулом голосов, исполненных нетерпения и мести.
– Братие! – воскликнул Боброк, привстав в стременах,
И впервые за многие часы той невиданной на земле кровавой бойни лишь на одном краю Русь перевесила числом своим ордынскую силу. Кашики, привыкшие истреблять бегущих, избалованные великим темником, дрогнули, испытав всю ярость справедливого гнева, всю тяжесть русского меча. Дрогнули и первыми побежали – кто к Непрядве, кто – к Дону, а большинство оставшихся в жизых повернули коней к своему повелителю, тотчас позабыв древний закон не отступать! – забыв, как всего часа два назад сами изрубили своих единоверцев, простых кочевников, дрогнувших перед полком правой руки. Они бежали, потрясенные неожиданностью удара в спину, потрясенные непривычным для голов своих ужасом смерти.
Бегство кашиков было замечено ордынскими полками в центре поля. Испуг передался им. Большой полк русских, в коем оставался стоять на рубеже только каждый седьмой, воспрянул духом вновь и из последних сил ринулся на ворога. А тут еще Боброк, кинувшийся за кашиками, на ходу отрядил четыре сотни, и те ударили справа в середину. Вал ордынцев, подковой впившийся в остатки большого полка, тотчас смешался. Пешие посыпались с горы трупов вниз, под ноги коней, конные торопливо поворачивали, бросая сабли и копья, доставали из-за спины лук, дабы отстреливаться на ходу. Копыта коней тяжко хлюпали в сыром прахе раздавленных трупов.
– Устрашились, окаянные! – ревел Федор Кошка.
– Не упускать ни единого! Понеже вновь найдут на Русь! – надрывно выкрикивал рядом Дмитрий Всеволож.
– Вот и хрен-то! За Русь!
Центр рухнул. Русские ратники из пеших переваливали через курганы мертвых, ловили коней, брали у мертвых оружие по руке и гнались вослед отступающим.
– За Русь!
Опьяненные усталостью, нежданной радостью очевидной победы, приостанавливались на миг и, незнакомые, обнимались коротко, не стыдясь слез, и, будто наполненные новой силой, продолжали погоню, нещадно разя каждого настигнутого.
До полка правой руки тоже докатилась эта волна. Там еще жив был Федор Грунка, во всем слушавшийся осторожного, но смелого литовца Андрея Ольгердавича. Оба они просмотрели, когда побежали татары, зато не пропустили этот грозный для себя знак их враги: тотчас с воплями кинулись они назад, вскакивая по двое в седло, ссорясь, убивая друг друга из-за коней.
– Грядет победа! – возликовал Федор Грунка.
И не надо было призывать к погане: полк правой руки, выдержавший первый натиск еще утром, весь день хоть и с большими потерями, но успешно отбивался. Не раз ратники переваливали через курганы смерти, теснили ордынскую пехоту, ввязывались в рубку с конными сотнями, но всякий раз Андрей Ростовский, Стародуб-ский или Андрей Ольгердович останавливали лихого Грунку и ратников, помня чаказ великого князя: стоять! Но теперь настал и их час! Это они начали творить победу на правом крыле после выезда Пересвета, после славной гибели передового полка...
– За Русь!
* * *
Боброк выскакал на вершину Красного холма и рассек мечом желтый шелк ставки Мамая.
– Что там? – придержал коня Серпуховской.
– Поло!
Боброк развернул коня, метясь втянуться в погоню, но с другой стороны ставки крикнул Иван Холмский, племянник великого князя Михаила Тверского:
– Митрей Михайлович! Чаша злата!
Глянул Боброк – огнем наживы полыхали глаза Ивана Холмского, а чаша аж двумя руками ко пруди прижата.
– Брось! Стыдись злато имати на костях православных!
– То Мамай изронил... Моя ныне чаша!
– Брось, велю тебе, Ванька! – грозно надвинул коня Боброк. – Эва, нравы агарянские утвердил! Обеими руками к себе чашу жмет... Брось!
Иван Холмский откинул чашу и несколько мгновений следил, куда она покатится, замечая место.
– Зело нравен ты, Митрей Михайлович...
– Скачи за мною! Вишь, утек окаянный зализывать раны по-песьи. Чингиз-ханово исчадье! Догнать!
Но догнать было непросто.
С холма открылся простор громадного полевого услонья – покатость на многие версты, и повсюду оно было забито тысячами арб, стадами верблюдов, коней, быков, Они заполонили все пространство, отдаленные перелески, и казалось, никакая сила не может проломить эту запруду. Но запруда эта была уже пробита самим Мамаем: еле заметной черной точкой метался вдали, у самого Дона, у той, позавчерашней переправы, бунчук великого темника. Прикрывая свой бег, уберегая себя от погони, он успел приказать последней сотне преданных кашиков из личной охраны, чтобы те развернули обоз поперек поля за холмом. И кашики развернули сотни арб своего повелителя, а спереди поставили те сорок возов с драгоценностями, мимо которых проходили наемники в пекло Куликова поля. Эти-то несметные богатства и задержали некоторых кашиков. Жадные, привыкшие еще в десятом колене только грабить, но не бросать, они рисковали жизнью, но приостанавливались у этого обоза. Приостанавливались не для того, чтобы прикрыть отступление своего бежавшего непобедимого повелителя – нет! Они приостанавливались, чтобы отбиться от неплотной пока погони русских, изловчиться и схватить хоть немного из того злата и серебра. Прямо с седел кашики вспарывали бараний мех мешков и с воем кидались к другим арбам, сшибаясь там меж собой, рвали мешки, рубились и снова выли, бросали мешки, кидались к следующей арбе.
Какое-то время было потеряно, пока разметали русские завал арб, пека сбивались в сотни для погони.
– Братие! Гнати ворога по свету и в сутеми! – крутился на коне Серпуховской.
Боброк менял коня у первой цепочки арб: стрела вошла в шею животного.
– Митрей Михайлович! Каменье!
Боброк глянул нестрога: Иван Холмский шел по арбам, по распоротым мешкам с драгоценностями, держал узду коня в правой руке, а левой выкидывал что-то из мешков. Боброк переложил седло с раненой лошади на хребет степной, бывшей в упряжке арбы, оседлался и подскакал. То, что он увидал, поразило: в мешках вместо драгоценностей, о которых говорили захваченные сторожами языки, вместо злата, серебра, драгоценных камней, коими бредило все воинство Мамая, вместо всего этого в тридцати девяти арбах были камни, а сороковая арба была разнесена, разметана по запазухам давно...
– О исчадие злобесное! – воскликнул Боброк и плюнул. – Всех обмануть норовил, ажио своих людей. А они, малоумные, живот свой за него положили... Ну, воздастся тебе, Мамае!
Боброк с Иваном Холмским догонял свои сотни. По пути придерживал коня, выстегивал нагайкой русских ратников, забившихся в походные ставки к татаркам, и снова втягивал их в погоню. Разрозненные тысячи и сотни Мамаева воинства не пошли к Дону за своим повелителем, они направили коней своих на полдневную сторону. Они скакали, настигаемые свежими конями русского засадного полка, падали под мечами, отстреливались, пока были стрелы, или бросались на землю и закрывали голову полой дыгиля...
И по свету, и в сутеми гнались Боброк с Серпуховским, но потом приостановились и поручили погоню своим тысячникам, сотникам – всем, кто не излил ярость свою. Погоня продолжалась до густой темноты и окончена была у реки Красивой Мечи, за сорок верст от Куликова поля.
– Что будем делать, Володимер Ондреич? – спросил Боброк Серпуховского.