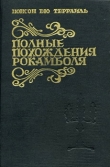Текст книги "Искупление"
Автор книги: Василий Лебедев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
– А ввечеру Василей Капица да Семен Онтонов узрели во поле виденье чудное: набежало с востоку эфиоп превеликое множество и все ко княжему шатру, а тут и явись внезапну Петр-митрополит со жезлом златым и почал тех эфиоп жезлом прокалати и всех про-боде!
Елизар послушал его немного, но дольше оставаться у светлого и теплого костра ему душа не дозволяла. Надо было снова отправляться за Красный холм, туда, где ходили на рысях две сторожевые сотни – Мелика и Тютчева. Он поклонился за хлеб-соль и, уже подтягивая подпругу и поправляя седло, слышал, как Бренок внушал кому-то:
– Река Дон за спиною нашей – то победы знак. Так и в досельны годы Ярослав Великой победил презренна Святополка.
Обе сторожевые сотни Елизар нашел скоро, он услышал их по топоту копыт: сотни подошли вплотную к стану татар и теперь уносили ноги, потому что со страху передовые полки ордынского воинства пускали стрелами во тьму. Даже когда сотня русских отскакала далеко, стрелы все еще шоркали во тьме жарко и жадно, – ордынцы били для острастки.
Уже к утру, когда перевалили через Красный холм, Захарий Тютчев, слегка стеснив коня Елизара в сторону, сказал:
– Ты мне ровно брат родной... Сейчас рассветет и сдвинутся рати... Давай, Елизаре, простимся, да крест мой прими, а я твой надену...
Они сняли кресты и обменялись.
– Ты мне ровно брат родной, – повторил Захарий. – Ты мне по сердцу пришелся еще в Орде, когда полонянку выкупали... Ежели со мною прилучится что, не забудь моих...
Они привстали в стргменах и крепко обнялись, трижды поцеловавшись в губы.
21
Тихим всплеском колокольного звона пришло утро восьмого сентября 1380 года. И текли те всплески от устья Непрядвы, от той походной часовня, что стояла позади левого крыла русских воинов. Крохотный колокол еле пробивал густой туман, облегший за ночь Непрядву, Дон и Куликово поле, и никому в то утро неведомо было, что колокол будит вокруг себя землю, коей на многие века суждено стать самой большой могилой на Руси.,
Крупная, погожая роса приклонила и обелила осенние травы. Щиты, латы, шлемы воинов – все было омыто росой, и сами они освежались ею, надевали последние, чистые, смертные рубахи, уже не таясь друг от друга, открыто приемля скоро грядущую смерть. Там, в утренних сторожах, в передовом полку, – там еще с вечера обрядились в эти рубахи и ждали в любую минуту, в любой час супостатов, а тут есть еще этот последний час, принадлежащий воину, его душе.
В каждом полку были священники – те, что повелением митрополита Киприана, призванного Дмитрием на Москву (пришлось позвать!), были посланы с воинством из Москвы, те, что своею волею – кто дорогой, кто приехал из других городов – пристали к полкам, кто был взят самими боярами как теремные духовники... И вот всколыхнулись над полем хоругви и началась утреня. Громадное поле наполнилось пением разнобойным, но ладным. Где только-только запевали протяжный ирмос, а в большом полку, где тяжело обвисло великокняжеское знамя на безветрии привосходном, уже слышен был кондак канона...
После заутрени Дмитрий надел шлем и всю наплечную приволоку кольчугу, латы. Иван Уда туго застегнул на спине ремни и накинул багровое великокняжеское корзно. Меч Дмитрий прицепил сам, как ему было удобнее. Бренок подал щит темно-коричневый, бычьей кожи, надежно оправленный широким железным обручем, крашенным суриком. Бренок помог сесть юнязю и сам проворно вскочил в седло. Буланый жеребец великого князя косился ria черного, что был под мечником. Дмитрий никого не ждал в сопровождающие: все были при полках, а Боброк и Серпуховской еще задолго до рассвета увели свой грозный полк за дубраву, на левом крыле войск. Туда сокрылась часть московской дружины, полк серпуховский и основная ударная сила – тверская дружина под началом Ивана Холмского, племянника Михаила Тверского, туда же, за дубраву, поставил Боброк и дружину князя Василия Кашинского. Немалая притаилась сила, но отрадней всего, что вся она, из разных княжеств, сошлась под единым знаменем. В прежние годы дед его Иван Калита, а потом и отец только в мечтах да во сне могли видеть такое...
У Красного холма, уже оттесненная надзинувшейся татарской ратью, еще ходила на рысях сторожевая сотня Тупика, сменившая Мелика и Тютчева. Ночной дозор довел, что под утро татарские конники близко подбирались к нашим. Бренок выкликал из передового полка Тютчева, и тот подтвердил:
– Истинно, княже: еще в сутеми кралися нукеры там и там, – он махнул рукой на правый край и левый. – Нюхать норовило агарянское племя – лазейку для конников шукали, вестимо!
Дмитрий тронул коня на полки правой руки. Тютчев правильно рассудил: Мамай в последний раз погслал разведку, дабы отыскать незащищенное или слабое место для стремительного и всегда смертельного прорыва и охвата своей конницей полков врага. Однако Дмитрию казалось, что обойти справа татары не могут, недаром они с Боброком выбрали это место, там мешает разгону конницы речка Нижний Дубяк с оврагом и частая дубрава. У Мамая тут один план – проломить оборону, изрубить отступающих (это они любят!) и выйти за спину большого полка, и тогда это ядро в сорок тысяч треснет.
– Братия моя возлюбленная! – обратился Дмитрий к полку правой руки. Как бы вам ни было тяжко, а стоять надобно! Сдвинетесь с места – смерти не минете, а пропустите конников Мамая, нам там не устоять...
Тут начальствовали бояэин Федор Грунка и два князя, два Андрея и оба Федоровичи – Стародубский и вот уж восемь лет близкий сердцу князь Андрей Ростовский. Как тогда, восемь лет назад, смело поехал он с Дмитрием в Орду, так и ныне одним из первых привел дружину свою, с готовностью стал над полком правой руки. Негусто их тут, негусто...
У большого полка, что выстраивался посреди, еще только-только подымались дружины с седел и попон, расстеленных на траве после заутрени. В густом тумане звякали доспехи, мечи, рожны копий.
– Бренок...
– У стремени, княже!
Но Дмитрий закусил губу, наклонился к гриве и тронул коня. Лишь через полсотни саженей промолвил:
– Ныне стану я в передовой полк! Ты же, Михайло, волен в выборе места...
– Княже... Я помню вчерашний уговор...
Кони их замялись: на пути стояли, посвечивая дорогими доспехами, все князья и бояре большого полка: Тимофей Вельяминов, Акинф Шуба, Иван Смоленский, Иван Минин, Иван Квашня. Голос Квашни Дмитрий услышал еще издали, старик выкликал сына к себе, видно хотел отвести от него первую, страшную грозу, что ударит по передовому полку, но тщетно: юный кметь не желал покидать своего сотоварища Тютчева, а тут и великий князь подъехал...
За этот полк Дмитрий был мало-мальски спокоен: что ни говори, а большой. Пятьдесят тысяч надежных пеших воев да двадцать тысяч позади конных. На краях конных поставлено лишь по десять тысяч, остальные схоронились за дубраву с Боброком и Серпуховским. Здесь можно надеяться на то, что не сдвинутся далеко, а вот полк левой руки...
Лев Морозов начальствовал над ним. Бренок выкликал его из середины дружин. Морозов увидел великого князя, засветился улыбкой крупных длинных зубов, раскраснелся то ли от волнения, то ли от прохладного тумана и растерялся немного. Часто ли приходилась ему бывать воеводою сразу нескольких дружин? А ныне под рукой у него сразу два князя с дружинами Василий Ярославский и Федор Моложский. В рядах воев было у Морозова какое-то смятение.
– До великого князя дойду! Челом бити стану! Почто нельзя в пярядовой стать?
Голос князя Моложского:
– Тебя, Рязанец, пешая рать генуезская на копье воздымет!
– Ня страшуся! Мяня лось рогама бол! Пуститя сотни рязанские во пярядовой полк! О! Княже! – Рязанец увидел багровое корзно Дмитрия и ринулся из тумана к его коню, косолапя и вразвалку. – Челом бью, княже: вели отпустить рязанских воев во пярядозой полк! Сотни наши ня считаны самовольно шли!
– Торопит Рязанец судьбу; татарина зреть восхотел! – заворчал князь Ярославский, выйдя из тумана и тут же кланяясь Дмитрию.
– Восхотел! Вельми тоскую по ем, по племю ага-рянскому, понеже давно не видывал: со прошлого году... как сынка они пред покровом порубили... Вели, княже великой, во пярядовой полк стати!
Знал бы Емельян Рязанец, что Дмитрий готов был в тот радостный миг расцеловать строптивого рязанца, но он лишь кивнул и ответил коротко:
– Велю!
С князьями они проехали краем дубравы,убедились, что прямого и быстрого прорыва у Мамая тут не получится, но если его конники возьмут чуть влево, то им хватит места, чтобы втиснуть перед полком левой руки, перед двадцатью тысячами воев, тысяч сорок – пятьдесят...
– Спасение наше, братие мое, в крепости нашей. Устоим – победу пожнем, отсунем ряды свои к Непрядве – смерть примем... Так и всем воям скажи! А еще чую, сюда ударит Мамай, на вас, а вы стойте, понеже к вам сдвинул я запасный полк, где Григорья Капустин с Митрием Ольгердовичем. Они-то нам сгинути не дадут...
Дмитрий хотел сказать, что немалая сила стоит за дубравою, но смолчал. Воезоды ведают про то, а упоминать про засадный полк не к месту, ведь если посчитать все силы да сравнить их с силами Мамая, то, как ни кинь, а на каждого русского треокаянный уготовил двух, а то и трех, поди, алкающих крови. Он поднял всю степь, загнал в седло всех кочевников от мала до велика, он сдвинул воедино все кочующие по бескрайней степи аилы, они резали колесами степь на сотнях верст и все сошлись тут, у Куликова поля. Семьи растянули свои арбы на пятнадцать верст широким потоком – это духовная опора воина-кочевника, придуманная еще зло-бесием Чингиз-хана...
– Княже... Како мнишь: отстоим Русь? – негромко спросил Лев Морозов.
– То надобно вопрошаги у души своей... И помнить надобно: ныне здесь вершатся судьбы домов наших и потомков наших. Во-он там, на том берегу Дона-реки, в обозе русском, оставил я привезенных от Москвы куп-цов-сурожан. Они, те купцы, сию битву зреть станут и понесут по белу свету вести о ней. А вести те станем мы писати своею рукою, своею кровию... Пожалеем ли бренного тела своего для Руси?
– Истинно, княже! – воскликнул Федор Молож-ский. – Токмо краше те вести писати Мамаевой кровью!
"Добро бы страх избыли..." – подумал на это Дмитрий. Ему вдруг стало как никогда понятно, что в битве, которая вот-вот начнется, судьбу решит не только сила и, быть может, не столько сила, которой у Мамая более чем вдвое против русских, а крепость духа, возвеличенного святостью гнева, пределом терпенья людского, и чувствовал он, что не все силы души своей употребил, чтобы вознести и укрепить самую главную стену обороны – силу воинского духа.
Он глянул вдоль бесконечного, на много верст уходящего строя русских полков, увидел поднявшийся, оторванный от земли солнцем густой туман и решил, что еще успеет объехать свое воинство, уже построившееся, способное видеть великого князя.
– Бренок!
– У стремени, княже!
– Стремени и держись! – Дмитрий подстегнул коня и вернулся к полку правой руки.
Вой увидели великого князя – заколыхались знамена, плотный лес копий и бесконечная россыпь лиц, пожилых, старых, молодомужих и совсем юных. В первом ряду он ясно различил приземистую фигуру Лагуты, а рядом с ним, чуть выше ростом и потоньше, но лицом в отца, – сын его, верно, старший...
– Возлюбленные отцы и братия моя! Не премог я влечения души своея и понудил себя вернуться и поклон творить вам, вставшим на поле сем за Русь святую, за храм пресвятой богородицы. В сей час узрят очи ваши кровопролитие великое и смерть скорую, но не за тем ли пришли мы, братие, едины от мала до велика, единого роду и племени, дабы умереть, если надо, в сей грозный и пресветлый час за все православное христианство? Нам ли убоятися всепагубного Мамая? Пусть же он, треокаянной, вострепещет при виде грозной силы нашей, коей испокон веку не сбирала Русь!
– Умрем, княже, за отчую землю, за обиды твои! – грянуло воинство, и крики, крутой волной вставшие над полком правой руки, заставили заволноваться бесконечную цепь передних рядов, убегающую туда, где малой птицей поднялось темно-багровое великокняжеское знамя.
Они еще не добрались до большого полка, как со стороны ордынской заметили конника. Он правил прямо на багровое корзно Дмитрия.
– Никак Ржевской? Он и есть! – признал Бренок. Вскоре Ржевской уже натягивал повод и кричал на ходу, еще тряслись за спиной его две стрелы, торчавшие в кольчуге, как два ощипанных крыла:
– Княже! Татарове грядут!
Ржевской мог уже и не кричать: вокруг Красного холма, все лучше и лучше видимого, по мере того как подымалось над Куликовым полем солнце и рассеивался туман, сотня за сотней, тысяча за тысячей, тьма за тьмою выливалась, как из преисподней, косматая конница под сенью бесчисленных знамен и бунчуков. Ее накапливалось там все больше и больше, но вливалась оиа не беспорядочно, там был свой, особый, порядок, задуманный угланами, бакаулом и темниками. Вот уж появилась пешая рать – разношерстные толпы пленных, наемников, бедных кочевников. Многие тысячи. На Красном холме полыхнуло, опало и снова полыхнуло, утвердясь, что-то ярко-желтое.
– Шатер ставят! – оглянулся Ржевской.
Но тут в рядах большого полка поднялся легкий ропот. Там, по правой стороне холма, втекала в оставленное пространство широкой смоляной лентой черная генуезская пехота.
Дмитрий еще успел сказать слово полку левой руки. Успел вернуться к большому полку.
– Княже! У тя конь три крат споткнулся...
– От судьбы, Михайло, не посторонишься... – Отдай мне твоего коня!
Дмитрий задумался. Подъехали воеводы большого полка и стали просить, чтобы Дмитрий скорей стал под свое великокняжеское знамя, громадное вблизи, с большим шитым желтым шелком и золотом образом Спаса.
– Место мое в полку передовом, воеводы!
– Место великого князя – в середине большого полка, а не то – назади всех, дабы видеть доблести воевод и рядников, дабы награждать и миловать после брани.
– После брани едина награда всем – победа! Нет, бояре! Не повелось так-то! Испокон веков великие князья водили полки за собою, мне ли обычай сей менять, уподобясь Мамаю погану?
– Княже! – решительно сказал Тимофей Вельяминов. – В сей смертельной битве смерть князя повергнет в уныние все полки и дух воев падет.
Дмитрий наклонил голову и сильно закусил губу. Но вот он тряхнул головой, блеснув золоченым шлемом:
– Будь по-вашему, воеводы! Бренок!
– У стремени, княже!
– Ты конем меняться удумал? Слезай!
Бренок охотно выпрыгнул из седла, подвел своего черного коня великому князю.
– Давай меняться и шлемами! Сымай же и всю приволоку, и доспехи!
Татары еще не нападали, лишь медленно двигались, уступая напору сзади, но Дмитрий торопился и торопил мечника. Вот они поменялись одеждою, и, когда Бренок надел золоченый шлем, даже ближние бояре не сразу увидели разницу – так похож был теперь Бренок на великого князя. В рядах воинов тоже началось движение. Там еще застегивали ремни доспехов, некоторые надевали еще чистые рубахи, менялись крестами, обнимались перед смертельной битвой.
– Поди, Михайло, и стань под знаменем великого князя Московского!
– А ты? – побелевшими губами еле проговорил Бренок.
– Я иду в передовой полк, дабы вместе со всеми умереть за веру, за землю русскую! Где вы, там и я. Скрываясь назади, могу ли я звать вас на священную битву? Слово мое да будет делом!
Он не дал никому возразить, а чтобы Бренок не смог отринуть великую честь, обнял его и трижды поцеловал.
В передовом полку качнулись копья: татары развернулись для наступления, но вдруг приостановились, как перед заговоренной чертой. За триста саженей уже различимы были их лица. На этой последней полосе оставалась последние не смятые травы: темные султаны конского щавеля, зеленые лапки заячьей капусты, еще держащие капли поздней росы, колоски тимофеевки, желтые огоньки пижмы – сентябрьская постель Куликова поля. И в эти травы, выбрызгивая росу копытами, выехал могучий воин на крупном косматом степном коне. Латы не могли охватить его грудь полностью и, будучи привязанными на ремнях поверх толстой бараньей шубы, дыгиля, надетой по-дневному – мехом наружу, поверх кольчуги, – казались эти латы игрушечными. Шлем, чтобы налез на крупную голову, был надет на тонкую поддевку. Мелкокольчатые бармы спускались на плечи и волнили по ним, потому что у татарина не было видно шеи, казалось, голова растет прямо из мощной груди. Меч его был мало приметен на левом боку, зато угрожающе торчало выброшенное далеко вперед генуез-ское копье с длинным рожном, с ножами, оперившими древко, крашенное черной краской до самого подтока, так что копье казалось все откованным из тяжелого железа.
– Где рус-батыр? – крикнул татарский воин, остановившись ровно на середине, меж ратями.
По рядам русских прошелестел ропот, но никто не вышел. Прошло мгновение. Другое.
– Елизар! Не тебе ли укротить нечестивого? – выкрикнул через два ряда, назад, Квашня, но Серебряник лишь вскинул голову и окаменел взором, уставясь на страшилище с копьем.
По рядам уже перекликались. Дмитрию было слышно, как громко крикнул Тютчев:
– Эй! Рязанец! Выйди на Темир-мурзу, ты бесстрашен!
– Сей сотона ня по мне!
– Ня по мне! Тябя ж лось ногама топтал и рога-ма бол!
– Ня выйду, понеже с этаким бугаем пупок скрянешь!
Воины ведали, что меж них великий князь в доспехах своего мечника, и часто поглядывали туда.
– Где рус-батыр? – еще громче выкрикнул в нетерпении Темир-мурза и смело приблизился к стене русских. Он что-то залопотал по-татарски, из чего Дмитрий да и многие поняли, что он издевается, грозя один передавить русские полки, надеть на копье десяток самых сильных воинов, зажечь Москву и зажарить на том великом костре свои жертвы. Он оборачивался к своим и кричал, что выбросил на подстилку верблюдам все свои дорогие персидские ковры, что отныне он будет спать на ковре из живых русских девок!
Визгливым хохотом ответила стена татар, и Дмитрий почувствовал, что еще мгновенье – и все то, что он воздвигал в душах всех воев своих в последние дни и сегодня поутру, растает при этом хохоте врага, как последние клочья тумана, отшедшего к Дону. Так же, как чуть раньше Елизар Серебряник, Дмитрий окаменело глядел в одну точку вперед, видел там, на Красном холме, желтое копыто Мамаева шатра.
В плечо толкнули. И тут же послышался многотысячный вздох облегчения: от большого полка, обтекая левый край передового и выправляя на середину, выскакал конник на белом как снег коне.
"Серпень!" – едва не выкрикнул Дмитрий и обеими руками вцепился в древко копья. Хотелось пробиться в самую переднюю линию, но конь был прочно зажат другими, и все же, привстав в стременах, можно было хорошо видеть черную мантию, свисавшую на конские бока, и куколь, прикрывавший шею и грудь, на которой мелькнул крупный, шитый золотом крест, и клобук – все говорило воинам, что монах этот, в котором Дмитрий сразу узнал Александра Пересвета, – монах не простой, а самой высокой степени пострижения, тремя заборами отгородившийся от суетного мира. И вот он здесь, в миру, в самом сердце Куликова поля... Вот он подъехал к Темир-мурзе, заслонив его от Дмитрия и заслонив ставку Мамая, потом оба развернулись и отскакали к своим.
– То Пересвет! Инок Пересвет!
– Наш! Брянской! – послышались возгласы. Александр Пересвет на миг приостановился, обратясь лицом к русскому воинству, обвел, сколь хватило око, все полки смиренным взором и возгласил громко:
– Отцы и братия! Простите мя, грешного... Дмитрий еще видел, как он перехватил копье, как погладил своего любимца Серпеня по шее и тронул широкой, мощной ладонью морду коня и ухо с серым серпиком на краю.
Пересвет только-только развернул Серпеня, а Темир-мурза уже взял разгон и гнал своего косматого коня на Пересвета. Серпень потерял еще несколько мгновений, пока понял, чего хочет от него хозяин, пока вставал на дыбы, но вот он подобрал голову к груди, ударил светлыми копытами и, заржав, ринулся навстречу, выкинув под ноги Тютчеву два кома черной земли Куликова поля.
Они не сошлись, не встретились, не обменялись ни криком, ни ударами, они сшиблись и оба пали замертво. В глухом стуке был слышен слабый треск копий, мелькнувших на миг, как две изломанные молнии, да ржание коней, тоже павших и бившихся еще в судорогах.
– Сверху! Наш сверху!
– Мантией покрыл нечэстивого!
Их не успели отнести, да никто и не решался на это, потому что две стены людские, изведенные ожиданием, кинулись одна на другую, будто пали, лишившись последних рухнувших опор. Первое, что бросилось Дмитрию в глаза, была туча стрел – тысячи их были пущены с обеих сторон, и летели они туча за тучей, торопясь, пока еще оставалось время до встречи грудь в грудь, лицо в лицо...
В следующий миг все поле было наполнено грохотом, лязгом, воплями отчаяния, злобы, боли, предсмертными криками и стонами. Перед Дмитрием только что было два ряда своих, и вот уже мало осталось их: кто углубился в чужую стену, кто пал, а Дмитрия слева и справа обходили два плотных косяка татар. С визгом, пронзительным, как ржание коня, они кидались на ряды русских, и уже повсюду мелькали красные от крови сабли, мечи, обагренные латы. И валились на землю, под ноги трупы. И заметались первые кони с пустыми седлами.
Дмитрий принял удар сабли на щит и резко, чуть сбоку ударил татарина по плечу в то место, где начиналась кольчуга, и увидал, как выпал у врага щит, а чей-то топор разнес раненому голову.
– Елизаре?
– Куда ты прешь?.. – в сердцах укорил великого князя Елизар и пошел махать топором, кованным Лагу-той, направо и налево.
Чья-то сабля звякнула Дмитрию по шлему, он принагнулся и скоса заметил, как рука с той сабли падает отдельно от тела к нему на седло: кто-то отрубил руку. Конь стал спотыкаться о трупы. Стало тесно, душно от странного запаха, какой не раз он чуял на бойне – теплый запах плоти и крови... Он сразил татарина со знаком сотника на груди, но с затаенным страхом ощутил, что рука его не обрела твердость. Вот он увидел, как кинулись слева на Тютчева два пеших и конник, и Елизар упредил одного топором, двое других ударили его, но оба в щит, и тут же один пал под ударом меча Тютчева, а второй опять сильно впорол копье в бок Елизара. Дмитрий вытянулся и достал мечом руки врага. Копье выпало, вторым ударом он снес голову. На миг – на один миг! – мелькнул бело-розовый срез шеи, страшный, с темным провалом горла, и тут же кровь брызнула фонтаном куда-то в сторону, направляемая падающим телом.
– Не страшись, Квашня! – послышался голос Тютчева. – Не поддавайся!
Дмитрий опять заметил, что свои обтекли его справа и слева, как бы храня его. Он огляделся, привстав в стремени, и увидел, что битва началась повсюду, что передовой полк оттеснен к большому, что осталось от него совсем немного, а впереди, подымаясь на грудах павших, появилась страшная генуезская пехота, положив длинные копья на плечи идущих впереди.
– Мяня лось ногама топтал! – послышался близко крик Рязанца и после лязга и других криков: – И рога-ма бол!
"Жив еще... – мелькнуло в сознании Дмитрия, но он тотчас пригнулся в седле: несколько стрел жарко шорк-нули у самой головы. – Вот и подымись..." Он бросил коня в образовавшееся пространство вперед, где желтели рыжие волосы Елизара, достал кого-то мечом по спине, хотел добить, но конь заржал и поднялся на дыбы. В тот же миг черное генуезское копье прошло через гриву коня и торкнулось в панцирь на груди. Резко обрубил Дмитрий конец копья с рожном, но второе копье метило прямо в горло снизу, и не видать бы больше белого свету, да конь, уже раненный в грудь, резко кинул шеей на сторону и отбил копье. Сильным ударом, с оттяжкой, как учил его Боброк, Дмитрий порушил правое плечо генуезца и вторым сшиб с него шлем, и наемник пал замертво. Только сейчас он почувствовал, что размахался, что только сейчас наступает его час.
– Братия! Потянем заедино! – воскликнул Дмитрий и услышал ответ Федора Белозерского:
– Потянем, княже!
Брата его и сына Дмитрий уже не видал, а хотелось увидеть этих самых отчаянных воинов в битве... Пали, должно быть...
Елизар, в крови, но еще свеж и толков, тянул из сутолоки коня. Это был конь Тютчева...
– Княже! Пересядь скорее! Твой падет вот-вот!
Дмитрий отбил кривую саблю, принял второй удар татарина на щит и в тот же миг коротко, но сильно ткнул концом меча под пояс врагу.
– А-а! Скривился! – воскликнул Елизар, торопливо озираясь, и, не глядя на Дмитрия, совал ему узду нового коня.
Кругом опять нахлынули свои. По шлему Вельяминова было понятно, что в битву вступил большой полк. Сторожевой был весь вырублен...
* * *
– Клянусь небом, он убит! – воскликнул Мамай, увидев, что его любимый телохранитель не подымается с земли и накрыт сверху черной одеждой русского монаха.
Он удалился в ставку и ходил там по ковру, злой, одинокий, метал по сторонам взгляды остро сощуренных черных глаз под кочками коротких, косо стрельнутых к вискам бровей. Он сутулился, и шаг его был тяжел: много сил ушло на борьбу за власть, за трон, и вот сейчас, когда началась первая и, должно быть, не самая большая битва, но первая из тех, которые должны сделать его властелином мира, которая должна положить начало нового покорения Руси и открыть наконец широкую дорогу на Запад, – и зот сейчас он потерял своего верного слугу. Утром он по привычке ударил саблей по золотой чаше и вошел Темир-мурза: "Я твой, Эзеи!" Нет теперь Темира, а ведь это он обещал Мамаю вырывать из каждого вновь покоренного народа, из каждой земли, лежащей за Русью к заходу солнца, помимо ежегодной дани еще по самой красивой девушке и привозить их в золотой клетке, сделанной лучшими мастерами покоренного народа. Нет Темира.., Но есть он, Мамай!
Солнце било сверху прямо в раздернутый полог ставки, как всегда поставленной входом к югу. Мамай слышал нарастающий шум битвы и вышел к своим мурзам. Их было тут немного: управитель двора и повелитель Сарая Халим-бег, бакаул Орды – Газан-мурза, главный даруга Орды, которому предстоят большие хлопоты по обложению данями новых земель, – Оккарай, и чуть ниже по холму стояли врозь друг от друга два его кровавых полководца, двауп-лана – левого и правого крыла. Оба неотрывно смотрели на небывало большую битву.
У подошвы Красного холма плоской подковой стояла отборная гвардия десять тысяч кашиков, не знавших ни пощады, ни усталости, ни страха, ни поражений. Среди них Мамай мог спокойно лечь спать даже в самой середине вражеских войск, на чужой земле... Мамай опытным взглядом бывалого темника оценил начало битвы – повсюду хорошо впились в русских – и потребовал чашу каракумыса, а приняв ее от Халим-бега, медленно стал пить, по глотку, всякий раз отрываясь на несколько мгновений, в каждое из которых там вдали, за версту от ставки, успевало падать не менее сотни трупов...
Мамай отвел руку управителя двора и сам отнес золотую чашу в тень ставки, поставив ее на полсажени от солнечной кромки. Он загэдал: если вскоре наметится перелом в битве, то он изопьет еще холодного кумыса, пока солнце не осветит чашу. С той же таинственной улыбкой на обветренных губах глянул он на восток и увидал там Орду: бескрайнее море арб, бугры походных ставок, стада верблюдов, быков, серые пятна баранов, пригнанных главным бакаулом на кормежку войск, если кончатся свои запасы у воинов-кочевников. Там паслись табуны запасных коней, на которые можно было посадить чучела людей-воинов для устрашения врага, но армия Мамая так велика, как не бывало никогда и ни у кого из всех завоевателей, так что не потребовались чучела. И без того громадная степь со странным именем – Куликово поле – не могла вместить все приведенные для сражения тьмы, вот и стоят они за Красным холмом, медленно подвигаясь вперед и обтекая его по мере того, как там... таяли тьмы, вступившие в битву.
Мамай вышел из-за ставки и нахмурился: в центре русских по-прежнему возвышалось великокняжеское знамя, а большой полк, едва тронутый его тьмами, стоял непоколебим. Правда, исчез передовой полк, но тот вал трупов, что вырос там, не вернет уже ни его пешие тьмы, ни пешие тьмы наемников. Он сощурился – черная генуезская пехота лишь кое-где чернела крохотными пятнами, рассеянная и побитая. Мамай лишь скривил губы: эти алчные глупцы мнили получить от него горы серебра и злата! Да-а... Он выдал им перед битвой по горсти серебра и велел вывезти сорок арб с сундуками серебра и золота, даже открыл два сундука, и наемники, пожирая богатства очами, ушли в пекло Куликова поля. Мамаю, опытному воину, было ведомо, что мало кто придет к нему после битвы за расчетом.
В центре таяли тьмы.уже не наемников, и Мамай потребовал к себе углана левого крыла. Там, на правом крыле русских, углан левого крыла должен пробить брешь сорока тысячами пеших воинов, а когда эти нищие кочевники, это сабельное мясо, раскачают крыло русских, углан должен брослть в ту щель свои отборные тьмы конников, дабы отсечь русских, зайти в спину большого полка и... кончить этот затянувшийся кровавый пир. Одновременно сн велел усилить натиск на большой полк и приготовить всю лучшую конницу для удара по левому крылу русских, где для конницы все же оставался небольшой разгон, если совершить расчетливое движение зигзагом.
Никогда не думал Мамай, что битва, даже такая тяжелая, может продолжаться дольше часа. Дольше не могли выдержать никакие армии! Тут идет второй час – второй час! – а углан левого еще не может решиться бросить конницу! Да оно понятно: пехота, четыре тьмы, не сделали бреши – они там стоят! Но вот, кажется, конница берет разгон... Наконец-то! Но куда она лезет? Она замешкалась и лезет... на горы трупов! А пехота бежит!
Мамай взвизгнул, но никто не понял его, только Те-мир-мурза мог понимать его бессвязные выкрики, эти приступы гнева, лишавшие его слов... И он объяснил темнику кашиков Гаюку, заменившему сейчас Темира-мурзу, чтобы тот половиной гвардии оттеснил отступившую еще дальше назад пехоту и перед строем изготовленных к битве полков, конных и пеших, изрубил эту жалкую и трусливую горсть шакалов – каких-то сотен пять истерзанных в битве кочевников...
С воем ринулись кашики к левому крылу, где уже атаковал углан конницей. Оттеснили пеших, отогнали и прямо перед Красным холмом изрубили трусов, помня древний закон Чингиза... это подстегнет других!
На левом крыле углан прорвался саженей на сто, пожалуй, но середину его конной лавы вдруг потеснили справа и опрокинули в овраг. Тех, кто не успел прорваться, оттеснили назад, а те, кто прорвались, растерянно заметались в кольце русских конников, и было видно с холма, как тают они там под короткими молниями русских мечей...
– Проклятье неба! Пусть бросят они тот гнилой угол! Пусть держат его под стрелой издали! – вскричал Мамай и приказал нанести сокрушительный удар по центру правым крылом своих войск.