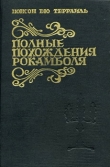Текст книги "Искупление"
Автор книги: Василий Лебедев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
В тот день, седьмого сентября, Мамай наметил было смотр своим бесчисленным тьмам, но угланы еще утром уговорили его не делать большого смотра, поскольку на это могло уйти больше дня. Последняя разведка, проскакавшая ввечеру, подтвердила правильность совета угланов: надо торопиться, готовиться к броску на правый берег на ширине в несколько верст, поскольку Дмитрий ждет орды там, Мамая не долго смущал ход великого князя. Правда, два года назад, разбирая подробности проигранной битвы на Воже, все пришли к выводу – весь военный совет, – что причиной была река Вожа, но, объясняя поражение только этим, каждый из его начальников лгал самому себе и всем. Да разве мало великих и малых рек переходило их воинство, разве мало взято неприступных городов, разве мало разбито войск силами меньшими, чем у врага, а на Воже сил было больше! Нет, Мамай пойдет на тот берег и докажет, что его воинство, как и в былые времена, не считается ни с какими преградами, ни с какими силами! А если считать силы, то их-то у Мамая едва ли не вдвое больше, чем у Дмитрия, да и можно ли их равнять: там мужики-хлебопашцы, а у него – воины, с двух лет сидящие в седле, с пяти лет убивающие птицу ка лету! Но если удастся, то и их он убережет в предстоящей битве – пусть судьбу ее решают наемники, вон сколько их, жаждущих злата и серебра, умело заманенных ордынскими зазывалами. Правы военные советники: не развернуть всего воинства и в сутки, а вот смотр наемникам можно провести и сделать это надо на походе...
Мамай вышел из шатра в сопровождении Темир-мурзы, главного бакаула и походного кама. Место было достаточно возвышенное, но обозреть сотни тысяч воинов было невозможно. Они медленно двигались сотнями, тысячами, тьмами, подпираемые от Дона все новыми и новыми силами, а за теми силами двигались табуны коней, овец, коров, двигались сотни тысяч походных ставок, запряженных быками. Земля дрожала от топота ног, луговина тотчас чернела и пахла развороченной землей, смешанной с запахами навоза, конского и людского пота. Воздух на десятки верст был наполнен ляз-гом железа, ржаньем коней, криком и взвизгиванием людей, и все это сливалось в сплошной мощный гул. Казалось, это множество уже одетых в железо, в кожу, увешашшх оружием людей не знает над собою власти и готово вершить все, что захочется ему, куда поведет его стихия устрашающей громады сил, но это было не так. Стоило какому-нибудь соннику или тысячнику привстать в стременах, крикнуть или махнуть нагайкой, как целый косяк конных или пеших, будто косяк рыб на мелководье, в едином порыве делал поворот и шел туда, куда велели. Мамай что-то буркнул Темир-мурзе, и гора-человек повалился вниз, едва успевая переставлять короткие толстые "оги, чтобы не упасть на склоне. От подошвы склона двинулись (навстречу сразу три углана, три верных пса Мамая, и у каждого на золотой цепи горело по крупному полумесяцу, выложенному алмазами. Те-мир-мурза не удостоил их своим приближением, заметил, что те глядят на него, и отдал приказ: выдвинуть вперед обоз Мамая – ту его часть, где было сорок возов золота, серебра и драгоценностей, забитых в мешки, завязанных, укрытых шкурами и охраняемых каждый круглосуточно пятью кашиками, получающими за то по три чаши кумыса ежедень. Угланы кинулись было исполнять приказ, но Темир-мурза вновь их окликнул и велел выделить из войска всех наемников и провести их здесь, мимо ставки Мамая, и дальше мимо возов с добром, которое будет после успешной битвы принадлежать только им, наемникам, не считая военной добычи. И менее чем через час из необозримого моря коней и людей, моря шлемов, копий, щитов выделились потоки наемников. Мимо холма прошли половцы, бессермены, ясы, буртасы, фрязи, армены, черкесы... Прошла грозная генуезская пехота, в которой немного было людей италийской земли, ее ряды составляли пираты, потерявшие свои корабли, причерноморские разбойники, отребье всех сущих в округе народов степи, Причерноморья, Кавказа, Ирана и многих иных земель... Они прошли пеше и прогарцевали в седлах сначала мимо Мамая со всем его воинским начальственным рнездом, потом – мимо вожделенного обоза с богатствами, до которых и всего-то было – рукой подать, но по условию бесовской игры прежде надо было разбить русские полки. До последнего дня ходили по всем тьмам слухи, что-де битвы не будет, будет только длинный, утомительный сначала поход, потом – бегство московского князя, потом полугодовой грабеж русской земли и отдых. Следующая весна станет весной нового похода, похода на заход солнца, в богатейшие, еще не тронутые мечом земли... Наемники шли мимо арб с богатствами, л никто из десятков и десятков тысяч не смог удержать рев восторга, когда видел, как на первой арбе два кашика а чине сотников вытряхивали из мешков на ковры, расстеленные по земле, серебро, золото, драгоценные каменья. С блеском и цоканьем летели драгоценные чаши, оклады икон, серебряные стремена, золотые потоки серег, ожерелий, награбленных в разных землях подлунного мира, обагренных кровью, орошенных слезами, овеянных смертью тысяч и тысяч людей... Из-за арбы порой выбегали кашики, подгребали ногами то, что осыпалось с ковров на землю, и вновь отскакивали за арбу, дабы не заслонять зрелище несметных богатств.
На других арбах кашики-охранники стояли, опершись на копья, и тоже смотрели туда, на первую арбу. Им кричали из проходивших мимо полков, чтобы и они развязали мешки, но не было такого приказа от Мамая, и они стояли недвижно, как каменные истуканы стародавних времен. Смотрели мрачно и мрачно провожали взглядами наемников, коим достанется все это богатство. Достанется ли?..
Солнце уже было низко, когда в ставку Мамая поступили два противоречивых известия.
Еще накануне была послана стремительная сотня к Ягайле с требованием приблизиться к русским и ударить им в тыл сразу после того, как в бой пойдет великая армия. Дело Ягайлы просто: следить, ждать и ударить в тыл русским, когда они все будут скованы мощным напором ордынских полков на протяжении нескольких верст по берегу Дона. При выходе татарской конницы на левый берег Ягайло должен ввязаться в рубку с русскими. Таков был строгай приказ – грозное повеление властелина Золотой Орды... Часть той сотни должна вернуться с дороги, разведав, стоят ли полки Дмитрия на правом берегу. И вот первые сведения: русские стоят лагерем на левом берегу Дона!
Второе известие полностью разошлась с первым.
Перед заходом солнца прискакал с восточной стороны сотник. Его воины ведали переправами через Дон у Гусиного брода. Они перевозили оставшиеся телеги и перегоняли вброд табуны кобыл, верблюдов, коров, му-чались с глупыми овцами, устраивая мостки с пряслами, чтобы те не попадали в воду. И вот, начальствуя там, на перевозе, сотник увидел, как по стрежню реки поплыла белая короста. Он набрал за пазуху щепу и поскакал к ставке Мамая. Это известие показалось тысячнику ка-шиков непонятным, странным, а потому особенно важным. Он довел о сотнике Темир-мурзе, а тот – Мамаю. Великий теммик сам вышел на воздух, хотя и был утомлен после смотра тысяч наемников.
– Поди ко мне! – повелел он похолодевшему от ужаса сотнику и протянул руку, на которой в этот раз не было перстней. Мамай не любил их надевать перед битвой, веря в недобрую примету.
Сотник развязал кушак и не успел подхватить щепу, как она просыпалась ему под ноги. Он торопливо наклонился и подал великому темнику сырую дубовую щепу. Мамай приблизил щепу к носу, тяжело и чутко, по-звериному, втянул в себя свежий дух дерева и помрачнел: он понял, что Дмитрий встретит его не на правом, а на левом берегу Дона. Он отгородился от Ягайлы водою, но водою же и запрет себе путь к отступлению. "Никого не выпущу живым!" – в ярости подумал Мамай и посмотрел туда, где заходило солнце, там за окоемом уже были налажены переправы московского князя, опять обманувшего его, повелителя Золотой Орды.
– Темир!
– Я твой, Эзен!
– Дай сотнику кумыса от моих кобыл!
Мамай тяжело, вперевалку пошел в ставку. У входа оглянулся, кинув неистовый взгляд через плечо, и сам выкликнул к себе всех трех угланов. Угланы вошли в ставку, но тут же вылетели из нее, чтобы позвать темников. Тысячники оставались при войске и не присутствовали на совете, хотя боевой курултай обыкновенно не обходится без них.
Военный курултай был короток.
Мамай приказал коннице выступить немедленно вперед, к Непрядве, и двигаться до самых черных сумерек. Утром она должна занять боевые позиции все три ударных кулака: левое крыло, правое крыло и центр – как можно ближе к русским. Пехота тоже должна выступить немедленно и идти до наступления полной темноты. Затем всем отдохнуть, а на рассвете пройти уже в боевом порядке последние версты, выйти за тот холм, о котором Мамаю доносила разведка, и ударить на русские полки всей массой, всей тяжестью невиданной вооруженной силы.
Битва не должна продолжаться более чем до полудня.
На истребление истерзанных и отступающих полков, на потопление их в водах Дона Мамай давал углаиам еще немного времени.
19
По пяти переправам в течение долгого времени продолжалось движение пеших полков, и конца им еще не было, хотя Боброк с Дмитрием рассчитывали закончить все гораздо скорее. Воеводы и сотники стояли у начала и конца переправ, окликали своих и указывали, куда идти. А шли все наверх по крутому берегу, обходили справа Зеленую дубраву, которая целый день была у всех перед глазами, да и само поле, что вырисовывалось с левого берега вдали, уже было каким-то своим, почти привычным и теперь, в ночи, не пугало, но напротив – звало к себе запахами подвядших осенних трав, сулило покой в эти последние часы перед завтрашней битвой, умиротворяло необманной явью своею, горькой и все же облегчающей истиной: пришел конец всем ожиданиям, всем движениям по дорогам, отныне надо стоять и ждать...
Конные полки начали переправу позже, в сутеми, но сумели выйти на указанные им места, и уже запалили к полуночи высокие костры, и готовили еду, и отдыхали.
К тому времени, как последние пешие сотни перешли До" и по приказу великого князя стали разбирать переправы, а бревна пошли на костры, начал переправляться самый мощный из всех конных полков – московское ополчение Владимира Андреевича Серпуховского и Дмитрия Михайловича Волынского-Боброка. Этот большой полк днем был отведен ниже по Дону и тихо пасся там, на отшибе, выжидая своего часу. Когда по переправам перешли последние пешие полки, Боброк позвал из тьмы Федора Кошку и наказал:
– Слушай Володимера Ондреича и помогай ему. Всем боярам накажи, дабы полк хранил тишину и костров за Зеленой дубравою не взгнетали, понеже про стояние наше не только ворогу, но и хрестьянам ведать не велено. Ведаешь ли броды?
– Ведаю, Митрей Михайлович!
– Радеешь ли о спасении земли нашей?
Лица Кошки не было видно во мраке ночи. Он молчал.
– Что молчишь? Не в смятение ли пришел?
– Преобидел ты мя, Митрей Михайлович... Не я ли с Мнтей Монастыревым на Воже...
– То ведомо! – оборвал Боброк. – Начинайте с богом! Я доеду к вам под утро.
Боброк пробирался к шатру великого князя осторожно, не подгоняя коня, опустив поводья, лишь изредка трогал их, указывая путь на костры гостей-еурожан, близ которых все еще стоял шатер великого князя, ожидавшего своего зятя.
Пора было и великому князю перебираться на левый берег. Пора объехать наскоро полки, поговорить с боярами да воеводами, проверить, так ли стали, как сговорено было на совете. Надо посмотреть, надежно ли забиты телегами стыки меж большим полком и крыльями, левым и правым, но самое главное, размышлял великий князь, дожидаясь Боброка, надо просто показаться всем и всех успокоить...
Вскоре Боброк различил смутные очертания конной сотни, толстую спицу свернутого великокняжеского знамени, что сейчас повезут в большой полк, увидел отсветы костра на иконе Владимирской божией матери и услышал спокойный голос самого великого князя:
– Митрей Михайлович, не ты ли?
Дмитрий был уже в седле. Их кони сравнялись, и, постояв с минуту молча, великий князь тронул коня на ближние огни гостей-сурожан. Однако сажен через десять остановился, выловил из тьмы лица Боброка и мечника бледные, еле видимые пятна – и озабоченно спросил:
– Не велико ли копий поставлено под стяги в полках?
Боброк вздохнул и, помолчав, спокойно ответил:
– На Воже ставлено нами по восемь – десять копий под стяг, а иные людом превелико огрузилися. Почитай, три на десять городов пришло на зов твой и стали под стяги, ранее шитые. Считано мною днесь: шестьдесят да еще три стяга воспашут наутрие по ветру на поле Куликове и под каждым, княже, станут по десяти да по пятнадцати копий... [Пятнадцать копии – 1500 человек] Радуйся!
Дмитрий смолчал на это, обеспокоенный тем, что большие полки еще не были под рукой у его воевод. В обычае было, чтобы воеводы водили своих только людей, коих боярыни на дворе своем перед походом поили-кормили да хранить господина наказывали, а тут в одном полку люди из разных мест сошлися... Он тронул коня и вскоре остановился у веселого костра. Из шатра спешно вышли купцы-сурожане и посымали дорогие шапки.
– Здравия тебе, великой княже, на многая лета! – закланялись купцы. Отведай с нами хлеба-соли.
Дмитрий любил застольные беседы с купцами. Сколько рассказывали они о дальних городах, княжествах и землях, лежащих на восход, на дневную сторону и на заход солнца! Сколько дельных товаров привезено ими на Русь, а сколько высмотрено да выслушано вестей, тревожных и важных для земли своей! Бывало, за радость чудного подарка, что заводился в великокняжеском терему и тешил княгиню с детьми, Дмитрий поил, кормил и ласкал самых верных и смелых из них. А смелость нужна купцу, ибо он, землепроходец, не по-раз бывает встречен злыми людьми в степи, в горах, на море... Кольчуга, шлем и меч постоянные его спутники. И в этом походе они мало чем отличались от воев, ушедших в полки на тот берег: у каждого меч и длинный граненый кинжал восточной выделки – кончар. Многие купцы привезли с собою по возу оружия и роздали уже тут, на берегу Дона.
– Любезные гости-сурожане! Не до застолья ныне, не обессудьте... Спаси вас бог, что не замедлили приехать сюда, что привезли оружие доброе.
Купцы поклонились. Пламя от костра дрожало на их одежде, поверх которой были наброшены кольчуги.
– Семен Верблюзига! – окликнул Дмитрий. – Ты пришел с захода солнца, проехал немцев и Литву, украйные земли... Ведомо ли тебе, сколько ведет на нас Ягайло?
Купец Верблюзин неторопко вытолкался вперед и остановился, посверкивая кончаром на поясе. Он поклонился, держа шапку в обеих руках, под грудью, и твердо ответил:
– У сорока тыщ, княже, воинства у Ягайлы, но ни белая русь, ни украйные люди не идут с ним. Ведомо мне учинилось, что и златом и угрозою манил и гнал их Ягайло, но не пошли они на нас – кто во леса-болота утек, кто плеть принял, а не пошел, истинно реку...
– Добре... – промолвил Дмитрий со вздохом облегчения. – А вам, сурожане, велю оставатися тут, и, коль не свидимся на этом свете, разносите по миру весть о завтрашнем побоище, а горькую или веселую – ныне нам неведомо.
Подъехал с сотней теремной духовник Нестор при светоче. Дмитрий, Боброк, а за ними мечник Бренок и вся сотня кметей из тысячи Григория Капустина вместе с препоясанным на брань Нестором – все стали осторожно спускаться к воде. Отыскали ближний брод, высветив светочем черное месиво земли от тысяч копыт, и парами въехали в воду, тотчас доставшую до стремян.
* * *
За два минувших года Федор Кошка заметно сдал, сник и даже будто постарел. Оттого ли, что на Воже стрела попала ему в мягкое место и все бояре на Москве скалили зубы, или оттого, что не стало его задушевного друга, Мити Монастырева, к которому они были привязаны вместе с Кусаковым, ревнуя и ссорясь? Теперь, когда на Воже погиб и Кусаков, Кошка каялся и корил себя за все нелестные мысли, за все грубые слова, сказанные Кусакову... Была у Кошки и еще одна душевная ухабина. Он никак не мог отделаться от нежданного и тяжелого виденья, преследовавшего его вот уж вторую неделю. В последний день в Москве, перед выступлением полков из Кремля, увидел он на паперти церкви Михаила-архангела калеку с отрубленной правой рукой и порушенным левым плечом. В каком-то сражении его "перекрестили" саблей, и вот мается, христова душа, мыкается по свету, никому не нужный, голодный, вечно убогий в своем безручье. "Завтра только бы не это... – накатила опять непрошеная дума на Кошку. – Лучше в самое пекло адово, лучше голове моей на траве лежати, нежели убогостью до конца дней своих обремененным быть..."
Ветки дуба над головой были еще густы, они еле заметным облаком охватывали звездное небо, громадное, исполненное тайны и неведомых страстей. Что сулит оно ему, Кошке? Что сулит всему запасному полку и всем тем, что стали ныне в ночи на поле Куликовом?
Кошка смотрел в небо, усыпанное звездами, а видел вершины деревьев, таинственно и живо подрагивавшие в некоем неведомом и неверном свете. Он с удивлением сел на попоне, опершись рукой о лежавшее под боком седло, и смотрел на вершины дерев, пока не догадался, что это играют отсветы высоких и многих костров, зажженных на поле. А здесь было сумрачно, тесно и все же немного жутко. Над громадной, сейчас невидимой поляной стоял непривычный для великого числом воинства потаенный шепот, похожий на шелест листьев в осеннем лесу. Изредка цокнет копье о чей-то меч или щит, и снова тихий шелест, да где-то в отдалении, у самого Дона, нет-нет и проржет конь из отогнанных туда семнадцати табунов их засадного полка. Вот забрезжит рассвет, разберут коней, оседлают и станут ждать. Чего? Долго ли? Тяжело вот так, одному. Иные дети боярские поразошлись по своим тысячам, и теперь уж не своя воля...
Поблизку от Кошки осмелел московский мезинный люд. Отужинали, отмолились, а сон, видать, тоже не идет. Гудят из бороды в бороду – и то отрада:
– Эка невиданная силища собралась! У пяти десятков прожито мною, а и думать не думалось, что-де Русь многолюдна.
– Наросло нас, ровно травы сквозь борону в заулке.
– На траву и покос поспел...
– Горька истина твоя: косец поблизку и коса востра...
– Бог милостив... Одолеть бы ворога токмо... В этот разговор двоих вошел третий:
– Одолеем! На то и силою купно сошлися!
– Воистину купно! Не бывало так-то в досельни годы!
– Собирались и в досельни, да токмо за тем, дабы бороды драть друг дружке!
– Вот уж истинно так! Сотона разум помутил предкам нашим, вот и грешили исстари супротив земли своей ради выгоды своей князья да бояре, нечестивых накликали на Русь, превелико душ сгинуло по винам их многотяжким, искупятся ли те вины?
– Тяжко ныне искупление, да свято!..
Кошка поднялся, толкнул слугу своего, дабы не спал покуда, и направился проверять сторожу, поставленную им у ближнего к Орде края дубравы. Там, у речки Смолки, затаилась сотня сторожевая. Не дремлют ли тоже? Не приведи бог, коли выведает Мамаево око их засадный полк – надежду великого князя, надежду завтрашнего дня...
– На стрелы не наступи! – сердито одернули Кошку.
– Подбирай! Стопа – не лик, очи не держит! В нем не признали боярина, и говор не утих:
– А Тимофей-то, Вельяминов-то – на поле стал! Не держит зла супротив великого князя!
– Из-за племянника зло держать – самому дороже...
– Ванька жил – не человек, умер – не боярин.
– А у его, болтали, на Москве баба осталась краса-ва...
– Краса-ава! На крыльцо выйдет – три дня собаки лают!
– Вот у боярина Тютчева истинно красава и ликом – что твоя богородица. Предивной красы боярыня.
– Она не боярыня по роду! Он ее из Орды выкупил!
– Жену по мужу чтут! А он божье дело створил, поди-ко радости-то ей!
– Надо бы! Из неволи да в добры руки...
Кое-где еще ужинали и пахло над поляной вяленой рыбой, хлебом и квасом из березовых туесков, привезенных от самой Москвы в переметных сумах. Дома жены цедили тот квас, детишки ныряли в напогребницы за рыбой, дочери завертывали хлеб в чистую холстину...
– Отче, вернись к нам!
Кошка вздрогнул. Ему показалось, что он услышал эти слова. Остановился, зачем-то придержав ладонь на рукояти меча, но устыдился этого жеста и того, что явившийся его слуху детский голос вдруг так нежданно кольнул. Огляделся. Поляна была уже позади. Последняя тысяча, с самого краю, еле слышно ворочалась во тьме. Впереди, саженях в двадцати, должна кончиться Зеленая дубрава, и откроется невидимое пока Куликово поле, уходящее вправо и вдаль...
"Сохрани и помилуй..." – прошептал Кошка и двинулся вперед. Не доходя до Смолки, до потаенных сторожей, он снова остановился, пораженный еще одним видением: далеко-далеко, за Красным холмом, откуда-то снизу, куда уходило поле, будто из преисподней, подымался красный, воспаленный отсвет во всю ширь неба над ордынской стороной.
"Они!" – только и подумал Кошка, и рука его твердо ухватила рукоять тяжелого меча. Он напрягал слух, стремясь расслышать хоть какие звуки со стороны того неземного, адова отсвета, но только легкий ропот за спиной засадного полка да стук собственного сердца нарушали тишину. Были и еще звуки – те, что Кошка пока не брал в разум. Это был ровный гул русского воинства, ставшего на поле, но вот сквозь этот гул явственно донесся тревожный, по-зимнему голодный вой волков, взалкавших человеческой плоти...
– Сие грядет неминуемо... – прошептал Кошка, не отрываясь взором от чудовищного зарева, невероятного в своих размерах. Такого он не видывал в былых походах с пожарищами, о таком не слыхивал от стариков. Он смотрел туда и невольно косил глазом чуть вправо, назад, невольно же сравнивал размеры этих ночных огней – свои и те, что вдали, за холмом, – сравнивал, и тяжелый ком заваливался ему через гортань прямо в живот и холодил, и .ка.менил ноги, руки, все его еще молодое и жаждущее жизни существо. Этот страх, свалившийся на него, вмиг осознанный и перемогнутый им, навел на мысль: как-то там потаенная сторожа? И он кинулся к Смолке-реке.
20
В сумерки за Дон были отправлены две крепкие сторожи – Семена Мелика, почти бессменно гулявшего под боком у татар все эти последние дни, и небольшая, быстроконная Захария Тютчева. Во тьме они отогнали разъезды татар, а потом сами едва не сшиблись в смертельной рубке, обознавшись. Они за полночь колесили по Придокью, пока не увидели вдали, в своей стороне, высокие огни. Только тут спокойно передохнули: то были костры десяти тысяч ратников передового полка, выдвинутого в ордынскую сторону на сто саженей дальше самого крепкого и надежного – большого полка. Значит, завершилась переправа и все полки вышли на свои места, чтобы утром окончательно выверить свои последние рубежи.
Захарий Тютчев вдруг вспомнил, что на том берегу Дона, в обозе, оставлен малый бочонок меду. Он напомнил об этом Елизару Серебрянику, выехавшему с ним, и оба порешили, как поклялись: открыть тот бочонок после брани...
– Тихо! – Семен Мелик привстал в стременах. Воины прислушались. Странный звук, будто шелест одежд, послышался в темноте. Звучал долго, и никто не мог разобрать, что это. Правда, Захарию показалось, что когда-то встречал он такое, и он вспомнил, что было это давно, на походе протав Ольгерда, когда их сторожевой полк наткнулся на литовцев, а в утреннем бою они потеряли сотоварища... Тогда с вечера вот так же раздался в воздухе шелест.
– Лебеди! – догадался Тютчев.
Большая стая птиц, изредка тревожно вскрикивая, прошла за Непрядву, и оттуда еще доносились их тревожные и печальные голоса.
– Семен! Где ты? – Тютчев в темноте подправил к Мелику, негромко и убежденно сказал: – Татарва птицу спугнула. Птицы много поднялось, понеже вся Орда грядет... Довести надобно великому князю: ночью не напали бы!
– Вот ты и доведи!
– Почему я? Служба моя в сию ночь тут. – Тютчев насупился, запыхтел в темноте. В конце-концов он тоже начальник своей сторожи и сам волен повелевать. – Елизаре! Серебряник! Скачи до великого князя и извести его про лебедей.
Воины обеих сторож с тайной завистью слушали глухой стук копыт, затихавший в стороне высоких костров. Там уже не таились. Там ждали...
* * *
От полка левой руки князь Дмитрий и Боброк выехали за костры и краем дубравы, казавшейся во тьме непроходимым лесом, углубились далеко в простор Куликова поля, где уже не слышно было треска сучьев, огня и многолюдного тихого говора, сливавшегося в сплошной гул низких мужских голосов. Не слышалось уже и запахов полкового варева и дыма, на Куликовом поле пряно пахли перезревшие травы, некошеные и не стравленные окотом. Завтра они, преклонливы и печальны, обагрятся кровиго великой, какой не суждено будет видеть ни одному полю на земле...
Начался чуть заметный подъем – то Красный холм. Остановились. По правую руку кто-то проскакал из ордынской стороны. Тревогой повеяло от этой ночной скачки. "Кто-нибудь из сторожевых воев", – подумал Дмитрий.
Дмитрий Боброк-Волынский считался волхвом в народе и среди бояр, и Дмитрий замечал у него порой странные взгляды, пронизывающие человека. И казалось князю, что только он, Боброк, может предугадать в эту ночь день завтрашний, день страшного суда земного. Как будто услыша помыслы великого князя, Боброк медленно слез на землю, прошел несколько шагов, потом припал всем телом к земле и замер. Конь Боброка подошел и стал над ним. Дмитрий различал лишь белый, вышитый подол рубахи, торчавший ниже кольчуги. Хотел окликнуть зятя, но увидел, что он лежит и слушает, припав ухом к земле.
Лишь сейчас, когда за спиной все слабее и слабее становился гул многотысячного воинства, готовящегося к смертному бою, а отсветы костров меркли, – лишь сейчас увидел Дмитрий над собой громадный купол звездного неба. Он загадал было на падающую звезду: коль падет в ордынскую сторону его победа... но ни одной звезды не упало.
– Что скажешь, Митрей?
Боброк по-прежнему лежал неподвижно, правым боком к русскому лагерю, левым – к Орде. Но вот поднялся. Угрюмо ответствовал:
– Заря ныне долго гасла – то верная примета, кня-же: доброе это знамение.
– А чего те мать-земля поведала?
Боброк молчал, и Дмитрий приступил к нему:
– Молви, Митрей!
Боброк пошуршал бородой по кольчуге. Вздохнул.
– В ордынской стороне слышен стук велик, и клич, и вопль, будто торги там снимаются, будто гром великий гремит, а назади их грозно волцы воют, по правой их стороне вороны кличут, а по левой будто горы шатаются – вельми гроза велика.
– А как Русь прослушал? Ну? – в нетерпении спросил Дмитрий.
– По реке Непрядве гуси и лебеди крылами плещут, грозу великую подают... А на нашей стороне, – повернулся Боброк в русскую сторону, тишина...
– А земля, княже... Слышал землю, плачущу надвое: едина страна, аки вдовица некая, страшно рыдает о детях своих на чужом языке, а другая, аки девица, вдруг возопит вельми плачевным гласом, аки в свирель, – очень жалостно слышать... Чаю, княже, победы, а наших... наших много падет.
И, ставя ногу в стремя, Боброк вымолвил тихо, будто кто-то мог их услышать:
– Не подобает сего в полках поведать.
Боброк был уже в седле, приумолкнув, будто ожидал, что вымолвит ему на это великий князь, но ни слова не обронил Дмитрий из темноты. Он отошел саженей на двадцать в глубину поля и остановился правым боком к Орде, сердцем – к русскому воинству.
Ночь плотно объяла его всей густотою своею, горьковатым запахом перезревших трав и тревогою, никогда не бывавшей доселе столь глубокой и тяжкой. "Слышал землю, плачущу надвое..." – все сильней пригнетали его душу эти слова Боброка, и не деться никуда от них, не посторониться, не уйти в темноту. О них напоминали затухающие огни приумолкшего русского воинства и нарастающий гул в ордынской стороне: там ясней и ясней были слышны ржанье коней, рев верблюдов – то приваливала к боевым тьмам обозная тяжкая крепь.
"...Землю, плачущу надвое..." – прошептал Дмитрий, и, казалось, впервые он уяснил для себя всю бездну людского горя, что разверзнется поутру на этом, не ведомом никому покуда поле. Это он, Дмитрий, привел людей земли своей, коим суждено будет лечь на этом поле и унести с собою тех, кто нашел с восхода, по ком восплачутся неведомые ему кочевые семьи... "Беру сей великий грех на душу свою..." – шептал Дмитрий страстно, подымая глаза к небу, сплошь усеянному звездами. И понял он, что только в страшной сече, своею кровью сможет он причаститься к безмерной скорби Руси и, быть может, великой радости победы...
Конь проржал во тьме, и Дмитрий вернулся к Боброку.
* * *
Остаток ночи Елизар Серебряник промыкался по полкам, растянувшимся по Куликову полю на невиданно большое расстояние – на целых семь, поди, верст! Он шагом направил коня мимо затухающих костров, мимо воев, уже знавших с вечера место свое на поле, а он все еще гадал, куда поставят их малую сторожевую сотню, и завидовал тем, кто сидел у костров, правил доспехи, готовил себя к рати, к смерти и тайно надеялся на жизнь.
– Елизаре!
Елизар присмотрелся и увидал в свете яркого костра среди простых дружинников Бренка. Костер горел за линией большого полка, за самой спиной передового, выдвинутого на самое жало завтрашнего татарского приступа. Бренок сидел в одной исподней рубахе и пришивал суровой ниткой деревянную застежку, длиной в палец, к верхней рубахе, чистой, вышитой по рукавам и подолу красными крестами.
– Премного о господе здравствуй, боярин Михайло! – еще с седла поклонился Елизар и спрыгнул на землю, едва не наступив на доспехи и оружие Брейка, сваленные в кучу.
– Садись, Елизаре! Чего взыскался?
– Великого князя, – ответил Елизар и только тут понял, что причина, по которой он полночи искал Дмитрия, так мала и неважна, что говорить о ней стыдно. Подумаешь, лебеди пролетели! И без них теперь ясно, что Орда недалече.
– Он тамо, на поле, – кивнул Бренок во тьму. – С чем ты прискакал?
Елизар ответил, стесняясь, но вокруг костра все рядные вой, десятники и сам Бренок серьезно приняли сообщение о спугнутых лебедях.
– Я доведу великому князю, а ты садись да сыру позобай, завтра некогда будет. – Бренок подвинул Елизару завернутый в холстину сыр.
– А ты, Михайло, рубаху ладишь – долгу жизнь чуешь, знать! – весело заметил Елизар.
Бренок ничего не ответил ему, лишь посмотрел в глаза долгим, печальным взором и стал прислушиваться к беседе у костра, прерванной появлением нового человека.
– ...и единому воину из полка серпуховского князя было ввечеру виденье предивное на небесах, – продолжал разговор десятник. – Явилось облацо великое от востока, от Орды, а на облаце том ордынской мурза. От закатной же стороны явились два юноши светлы со мечами острыма и рекли тому мурзе: а кто повеле вам грабить отечество наше? И начали сечи его на части.