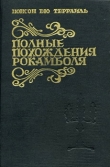Текст книги "Искупление"
Автор книги: Василий Лебедев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
Вернулись, как велено было, к вечеру. Исполнили наказ толково, справно. Воевода обронил слово похвальное, двинул Оглоблю по скуле – не пей меду бражного на деле! – и повел полк скорой грунью на Торжок. На ходу раскинул конников по местам: сотню к Тверским воротам, сотню – к Новгородским, перекрыли все ходы и выходы в бревенчатом заборе-стене вокруг города, а главная сила – внутрь!
Половина города была в полях, другая половина затворилась по избам да теремам, лишь купцы томились в рядах торговых. Их-то и выпахали новгородцы из лавок.
– Воевода! Вели Торжок на щит брати! – хрипел в азарте Оглобля.
– Токмо посмей!
– А купцов?
– Токмо тверских! – из облака пыли кричал воевода, пересиливая топот, ржанье, визг.
Вместо дневного сна праведного, заповедного, учинили новгородцы веселье дивное: пограбили тверских купцов, а когда кто-то из них отпихнулся копьем и убил новгородца – побили всех купцов до единого, а с ними десятка полтора иных тверитян. Наместников Михаила Тверского повязали и привели к церкви. Там, над рекой Тверцой, вече созвали на манер новгородского, там же прилюдно укрепились с общего согласия крестным целованием с горожанами, что будут заедино стоять против Михаила. На том и порешили. Наместников, развязали и пустили в Тверь, а сами стали укреплять город и сели за стенами в ожидании тверских ратей,
Михаил Кашинский вновь сложил крестное цело-ванье Михаилу Тверскому, о чем послал грамоту с наместниками.
Торжок зажил ожиданьем грозы, и, хоть воевода Александр ходил по Торжку в обнимку с торжковским воеводой Степаном, хоть и пировали они на княжем дворе, хоть воинство новгородское и тешило взгляд но-воторжцев блеском доспехов, по церквам ставились многочисленные свечи и пелись молебны во спокойствие града. В считанные дни в женскую обитель пришло постригаться столько девиц, сколько не приходило и за три года. Никто не говорил об опасности вслух, каждый думал, что страх перед Тверью только в нем одном, но весь Торжок помнил: свобода от Твери обагрена кровью.
* * *
Голодный год заставил многих забыть гордость, тщеславие, мелкие обиды, думы о новых избах, теремах, нарядах для жен и коней. Голод напоминал о тленности многих людских устремлений. Потому, должно быть, Михаил Кашинский здраво помыслил: не может Михаил Тверской вновь поднять на войну рать свою – два раза в один месяц. Раньше осени, по его расчетам, не должно быть нападения. И Торжок тоже не сбирал свое удельное воинство, занятое мирными делами. Но не таков был Михаил Тверской.
31 мая огромная сила в четыре полка подошла к Торжку. Был сухой ветреный день. Накануне служили водосвятный молебен по всем церквам, опасаясь вновь засухи, и аот с ночи задул упорный ветер со стороны солнцепада – из гнилого угла – значит, быть дождю, только бы нашла туча. Но туча пришла с полдневной стороны, и грозила эта южная сторона большим суховеем...
Михаил Тверской похватал у города земледельцев, но не пленил, не убил, а послал в город и велел сказать воеводе, чтобы тот выехал к нему в стан.
Никто не выехал.
Михаил послал своих послов и велел сказать им сло-во свое к воеводе и ко всем новоторжцам, что он-де не держит большого зла на них, но велит выдать тех, кто бил и грабил тверских людей. Послы вернулись ни с чем, а на стене объявился воевода Александр и потребовал подъехать на разговор самого Михаила Тверского.
Это было неслыханно: новгородский воеводишко вызывает под гнилую деревянную стену великого князя Тверского. Михаил походил по просторному, пустому шатру (он не думал надолго останавливаться в нем), потом позвал племянника и послал его под стены Торжка.
– Скажи, Митька, этим новгородским толстосумам, чтобы выдали... Нет! Пусть горожане выдадут мне новгородцев, понеже смерть людей наших новгородское дело.
– А коль не выдадут?
– Торжок на щит возьму!
Победитель Кистмы взял двух конных стремянных – по левую руку слуга, по правую слуга – и подъехал под стену Торжка. Кричать долго не пришлось: за полем следили, и вот уж снова с застенного помоста-раската послышался голос воеводы новгородского:
– Чего наехал?
– А ничего – вот чего! Подай сюда князя, не то – посадника какого ни есть!
– Изыди, оплёвок тверской!
– Пузо новгородское! Не заслонить тебе Торжка окаянного!
– А тебе, козел тверской, не сносить башки!
– Блевотина пятиконецка! Неурядица вечевая!
– Рванина тверская! Приступи до меня – я те кусок кину, хоть хлеба отведаешь перед смертью!
– Приступлю – порушу тя, вонищу рыбью!
– Причащался ля ноне? – все повышая и повышая до крика голос, спрашивал со стены воевода Александр: заметил, что внизу слушают его жители, уже не раз а глаза называвшие его спасителем.
– Не сотонинска то забота!
– Тогда окстись пред смертью!
– Не визжи, веприна супоросна! Выходи в поле, коль смел!
– А я тя и тут!..
Воевода взял из рук сотника лук, выдернул стрелу из колчана и, не целясь, высвистнул стрелу. Митька заранее сжался, подняв щит перед собой, и тотчас почувствовал резкий глухой удар – стрела рассекла кожу шита и почти проклюнула деревянную пластину.
– Ну, погоди! – только и выкрикнул Митька, пока разворачивал коня, и прикрыл спину щитом.
Вслед неслась уже непристойная ругань и несколько стрел жарко прошипели с левого и правого бока.
Михаил Тверской все видел и почти слышал – так близко был поставлен к стенам его шатер, но все же для порядку спросил племянника:
– Ну, чего привез?
– Новгородский воевода все дела вершит!
– А князь?
– За стену канул!
– Чего он те изрек?
– Матерно изглаголал!
Михаил Тверской окинул воевод своих неистовым взором:
– Торжок – на щит! Трубите!
При первых же звуках труб на стены Торжка высыпали защитники, новгородцы и свои, новоторжцы. По-явился и воевода. Ему, пережившему не раз гнев и на
смешки князя Тверского, было в тот день не до веселья. Велика сила в новгородском полку, хороша в Торжке крепость-детинец, но сила Твери, кажись, больше.
А за дубравой, что зеленела выше по Тверце, не умолкали трубы. К шатру князя Тверского – к желтому стогу шелка, шитого алыми маками, – придвинулся конный полк.
– Что делать станем? – спросил Степан Оглобля воеводу.
– Не дам Торжок в обиду!
– Созову город на стены да врата затворим крепче...
– Отвори, Степан, врата! Поведу полк свой в поле, дабы не.причинять худа Торжку. Выйду с полком и поражу их с божией помощью!
– Достанет ли силы, Олександр Абакумович?
– Достанет, Оглобля! Доводилось мне аж немцев бивать, а те от пяты до маковки в железах. Воевода в последний раз глянул со стены на полк тверичан, уже развернувшийся и заслонивший шатер тверского повелителя, почуял, что сила там больше, но не дрогнул и бровью – решительно кинулся к лестнице и вниз.
– Оглобля! Чего на баб воззрился? Всем на коней! Рраствори ворота-а-а!
Илюха Баев мигом накинул на рожон копья две веревочные петли, что были продеты в полотнище, и хоругвь с образом богородицы, шитая золотой канителью, взметнулась над рядами. К воеводе с правой руки подъехал сотник Травин, слева подправил коня каменщик Неревского конца Никита, севший за сотника. Илюха Баев размахивал стягом, овевая начальство, себя и Оглоблю волнами прохлады: солнце было высоко, оно прокалило латы воинов, и жар, которым пылали они, смешивался с душным теплом конских крупов, запахом сыромятной упряжи, кожаных щитов, крытых слоями толстой бычьей кожи.
– Шире ворота! Оглобля... режь! Пронзительный, подкашивающий свист Оглобли был последней командой. Полк ринулся из ворот на конные ряды тверитян, еще не совсем готовых к бою. Еще конники искали свои места в спутавшихся рядах сотен, еще знамя не успело взметнуться у шатра великого князя Тверского, а новгородская конница уже рубила первые ряды. Удар был силен, плотен в своей нечаянности. Хоть племянник Митька и вызывал новгородцев в чистое поле, но никто не думал, что те полезут на рожон. А они полезли и уже вырубили передовые ряды тверитян. Крики, лязг железа, стоны и ржанье раненых коней наполнили все пространство от Торжка до дубравы, покрыли звон колоколов во всех церквах Торжка и двух его монастырях.
Сам Михаил Тверской спешно поскакал к дубраве, хоть князю надлежало быть впереди. Удар новгородцев, их смелость смутили полк тверитян, но не повергли в полное смятенье, потому что они знали: они не одиноки, за дубравою спешно седлает коней еще полк, главный, к которому и отскакал князь.
Неизвестно, решился бы воевода Александр на столь смелую вылазку, знай он, что главная сила тверская в укрытии, но когда он увидал идущий жуткой стланью свежий полк от дубравы и мигом прикинул силы, то понял, что ему, воеводе, отсюда не уйти и живу не быть.
– Братие! За святую Софию новгородскую! Потянем! – отчаянно крикнул воевода и полез в самую гущу искать смерти, чтобы не видеть гибель своих.
Но он видел, как пали оба его стремянных, как бился еще, весь в кровище, Оглобля, понося тверских бранными словами. Видел еще хоругвь в руке Ильи Баева, но держалась она шатко, непрочно, то опускаясь, то подымаясь снова, по мере того как Илье приходилось отбиваться мечом. Слева и справа наперли свои же, стало тесно и душно и неудобно – это охватили подковой тве-ритяне и яростно кололи сбившихся в кучу новгородцев. Теснота вокруг воеводы дзржалась недолго: попадали те, что окружали его надежным кольцом, и вот уже сначала одно, потом сразу три копья достали до него. Одно он обрубил мечом, второе скользнуло по шее и ушло бы мимо, но рожон клюнул в мелкую кольчужную сеть бармы, свисавшей из-под шлема и прикрывавшей шею, и барма вместе со шлемом слетела с головы. Третье копье ударило в бок, но пластина латы отвела удар. Воевода тотчас достал мечом тверского сотника и надрубил ему сначала кисть, сразу обронившую копье, потом прорубил ему плечо, занявшееся кровью, как малиновым медом облитое. Тут же обозначилась впереди просека – нежданно растянулись тверитяне,– он рванул туда коня, ловя себя на мысли о том, что, может быть, удастся уйти, но резкий удар в спину и боль в позвоночнике проколола все его тело до последнего краешка, до ногтя на ноге. В глазах потемнело, но он еще видел, как по новгородской дороге скачет, побросав копья, жалкий обрубок его полка. "Бегут..." – еще подумал или прошептал он.
Свежим ветром повеяло на лицо воеводы – не замечал он сильного ветра ни в городе, за стенами, ни а поле, в конном разбеге, а вот в этот последний миг ощутил... Удар мечом по голове оглушил и порушил его с седла.
– Вот те, веприна новгородская! – воскликнул Митька.
И, удивительное дело, воевода Александр еще слышал эти обидные слова, уже повиснув вниз головой с одной ногой в стремени...
* * *
Торжок продержался в своих стенах не более часу. Уже в нескольких местах – у Девичьего монастыря, у церкви Спаса по обе стороны от ворот были проломаны бреши, наконец и сами ворота рухнули. Тверитяне загнали людей по домам. Защитники укрылись в детинце, окруженном высокой стеной-подковой, упиравшейся основой в реку Тверцу. Стена эта смыкалась по одну сторону со стеной Девичьего монастыря, по другую сторону – мужского. Часть защитников укрылась в церквах, где шла служба, пелись спасительные молебны.
Но спасенья уже не было.
Первые наскоки были отбиты новоторжцами. Тверитяне оттащили раненых, готовя лестницы. Сам великий князь Михаил Тверской с обнаженным мечом разбрасывал приказы:
– На щит!
– На щит берем! – раздавались повсюду крики. Повелев взять город с жестокостью, князь Михаил уже ничего не мог сделать сейчас, ему уже было не остановить ожесточенье, алчность своих воинов, распаленных битвой, обагренных кровью и кровью же натравленных на еще большую жестокость.
– На щит! На щит берем! Подскакал Митька:
– Дядько Михайло! Почто воям гинути? Вели запалить детинец! Слышь?
– Палите!
Легонько, домовито пахнуло дымком от первого светоча. Задымилось сначала в одном месте, потом сразу в нескольких. Во дворах слышались крики, визг, проклятья – то грабили жителей, убивали отбивавшихся и поджигали избы. Пламя поднялось высоко и страшно, еще страшней был его стремительный бег по крышам, по стенам домов, и вот оно уже перекинулось на детинец. Туда дул ветер. Уже никто не думал о штурме крепости – она и так сгорит! – все кинулись к богатым домам, пока не сгорели, ч к церквам, где по обыкновению хранят свои богатства нарочитые люди.
– На щи-ит! – неслось со всех сторон.
В мужском монастыре монахи взялись за мечи и бились с единокровцами, как с татарами, – яростно и до конца. Монахов перекололи копьями. Богатства подпольных каменных хранилищ разграбили. Ризницы растащили. Те, кому не досталось звонкого серебра, обдирали золото и серебро иконных окладов такого не было еще у единоверцев.
– Кровопийцы! Татарам подобны! – проклинали тверитян.
Детинец тоже занялся огнем. В него, в сердце города, стремились пробиться те, что не награбили добра. И проникли. В дыму, сторонясь большого огня, воины князя Михаила ворвались в кремль и рушили и грабили там всласть. Волокли сундуки, сбивая с них огонь, прямо на улице разбивали и отбегали по-волчьи, в сторону с охапками добра.
– На щи-и-ит! – Ив крике этом было то чудовищное всепрощенье, что даровал разъяренной людской лавине их великий князь, добивавшийся, как и все другие князья, славы и власти на этой земле, под этим небом, принявшим в себя дым половецких, татарских нашествий и самый горький дым единокровных распрей.
В детинце и в женском монастыре, уже охваченных огнем, укрывались женщины и дети. Тверитяне ворвались туда и обдирали с них одежду. Митька выследил молодую монахиню, но та скрылась в дыму и юркнула за стену монастыря, в горящий город. На площади, где еще можно было дышать, он настиг ее и ободрал донага. Скрутил.
– Хороша чага? [Чага – пленница]
Князь Михаил сидел на лошади посреди площади и наблюдал за концом города.
– Кощеев [Кощей – пленник] надобно брати – больше толку! – отвечал он племяннику.
А в монастыре и детинце дело шло к концу. Оставшиеся защитники были порублены. Люди, обезумевшие от страха, пустились вплавь на другой берег Тверцы. Девушки, женщины, монахини – все ободранные донага, кидались от сорому в воду, и многие тонули.
– Будьте прокляты, окаянные!
– Ниспошлет вам господь возмездие!
– Ироды-ы!
Детский плач, пронзительно-высокий, калеными стрелами прошивал все остальные звуки – пожара и затихающей битвы – и долетал до слуха великого князя Михаила Тверского.
– Труби сбор! – повелел он сотнику, бывшему все время при стремени.
Трубы нескладно и тихо – видимо, трубачи были на грабеже – сыграли сбор, но мало кто вышел из дома. Легко ли оторваться от грабежного зуда, легко ли отринуть себя от поверженной жертвы?
Разграбление Торжка продолжалось до сумерек.
3
Сторожевой полк шел на полдня впереди главных сил. Вел его Монастыре(r). Дмитрий полюбил Монастыре-ва во время тяжкого пребывания в Орде и доверял ему. Монастыреву было сказано в ставке великого князя, дабы створил правое дело – усмирил Тверь и Литву, и довели: к Любутску подошел с новыми силами сам Ольгерд. Туда же, на соединение с ним, направился и Михаил Тверской.
– Сила там великая, Митрей, зри денно и нощно, а ежели завидишь ворога – посылай до меня вестника, – сказал Дмитрий.
На втором дне пути сторожевой полк выделил впереди себя еще свою, особую сторожу – легкий разъезд из десятка бывших гридников. Главным был поставлен Арефий Квашня, поскольку Тютчеву Монастырев не доверял после самовольства на базаре в Сарае. В полку, правда, поговаривали, что Монастырев просто завидует Тютчеву, ведь выкупил из полона такую красивую девку, что вся сотня на дворе епископа чуть не загрызла счастливца. Говорили также, что Тютчев будто бы обручен с нею и вот-вот женится, только ждет осенних денечков... Квашне не давалось начальство, но он старался и в то же время, памятуя старую дружбу с Тютчевым, слушал того, а порой и подчинялся даже тут, в сторожевом разъезде.
На закате, как и было наказано, они остановились, выбрали место для стана, но костра не разложили, только спешились и стали поджидать сторожевой полк. Сидели тихо. Новые места, незнакомая полулесная дорога, что посвечивала рыжей пылью, уходила вдоль неизвестной речушки и ныряла в опушковый кустарник, поломанные жерди покинутого выгона – все говорило о заброшенности этого места. Не промычит корова, не щелкнет кнут пастуха, ни крика петушиного, ни ребячьего плача – омертвевший край. Какое-то лихо коснулось и этих мест.
– А ведомо ли вам, сколь много побил Михаил Тверской люду православного? – спросил начальник Квашня.
– Во Торжке, что ль? Знаем! Пять скудельниц мертвых наметали, отозвался Захар Тютчев.
Он сидел на щите и трогал языком белесый пушок на губе. Ему казалось, что судьба обделила его, поскольку у того же Квашни уже образовались вполне, видимые усы и высыпала бородка, а у него – лишь робкий пока намек...
– А за Тверью наши видели, как утопленников вьь лавливали из Тверды. От Торжка доплыли!
– На рогожках носили...
– О, господи! – перекрестился пожилой ратник из дворни Серпуховского. – На рогожках...
– Отольются Михаилу людские слезы, – ядовито сощурился Квашня.
– Великий князь наш, Митрей Иванович, ныне проучит его! – радостно заметил молодой кметь Семен, ровесник Тютчева.
Все посмотрели на него, и тот сразу сжался, будто сказал неладно, поерзал на щите, нахохлился и как-то особенно притих, обхватив голову ладонями.
– Вот бы хлебушка позобати... – промолвил он.
Тяжело вздохнули сторожевые вой: всем было голодно дома, в походе надеялись подкрепиться на княжеских харчах.
– Нынь хлеб-от дороже коня, – напомнил пожилой ратник.
На это никто не возразил, но каждый подумал о полковой повозке с мешками пшена и сухарей. Каждому так и виделась та повозка и черный курган артельного кругового котла на ней, привязанного веревками.
– И чего расселись? – спросил Тютчев. – Начальник! Гони нас дрова готовить.
Все зашевелились, мечтая, как подъедет сейчас та повозка, как снимут и установят котел...
– Тихо, отроче! – привстал вдруг пожилой ратник. Прислушались – в воздухе нарастал, как ветровой вал, свист крыльев, и вот уж поймой речушки прошел косяк диких уток.
– Чего это они?
– Не время им кучей летать.
– То-то и есть, что не время...
Утки прошли рекой с той стороны, куда уходила дорога.
– Ой, братове, спугнул их кто-то! – уверенно сказал Семен и даже потряс головой, как бы подтверждая догадку.
– Та-ак... – Квашня приотворил рот и думал.
– А ну, гоните коней вниз, к реке! – скомандовал Тютчев решительно.
– Ага! – подтвердил начальник.
– А сами – катись в кусты!
– Ага! – повторил Квашня. – А еще чего?
– А еще посылай одного по дороге, пусть глянет, нет ли кого за лесом.
– Ага! Семен!
Семен все понял и медленно, со страхом во взоре поднялся со щита.
– Чему ощурился? А ну, поезжай сторожко туда, сведай!
Семен облизнул враз пересохшие губы, подхватил щит, копье, но тут же все это бросил и скатился вниз по береговому уклону. Там он ловко обротал своего каурого конька, подтянул подпругу и также ловко вскочил в седло. Когда выправил на дорогу, Квашня подал ему щит и копье. Наказал:
– Поезжай с версту али с две да ушам-те прядай борзо!
– И бельма разуй! – добавил Тютчев.
Семен поскакал нешибко и к тому же толково: коня правил по луговой обочине, нешумно. Как только он отъехал и скрылся в перелеске, тревога отпустила всех, будто Семен, коему выпала в тот вечер суровая служба, всю опасность взял на себя, будто его щит выдвинулся далеко вперед и прикрыл все девять голов, оставшихся в кустарнике у реки.
– Пошли-ко, Арефий, еще одного к полку, – озабоченно сказал Тютчев, но сказал так, как приказывают.
– Начто?
– Дурак ты, Квашня, хоть и начальником тебя поставил Монастырев! Коль в десятники сел, так смысли: полк-от может с галдежом подойти, а там вдруг... за лесом-то...
– Ага!
– То-то – ага!
Тютчев как в воду глядел: через какую-то четверть часа прискакал Семен и закрутился на разгоряченном коне:
– Палят!
– Да извести ты толком! – Тютчев ухватил коня за узду, накрыл ноздри ладонью, погладил. – Чего палят-то?
– Огневища палят, о какие!
– Велики ли числом?
– Не счел, а превелико.
– Пень осиновый! Един-два, али десятки?
– У трех десятков – не мене...
– Вот те и вести... – и Тютчев присвистнул в задумчивости. – А ведь это, братове, полк сторожевой! Литва!
– Они и есть, – подтвердил Семен. – Все, как голуби, ровнехонько у огневищ сидят. Ужинают, поди...
– А у тебя – и слюни на гриву? – принахмурился Тютчев. Отпустил узду, отошел, задумчиво потрагивая пальцем усишки. – Ну, десятник! Чего велишь?
– А чего? К полку послано... Ждать надобе!
– Ждать надобе! Полк-от не ведает, что литовска сторожа во всей силе тут! Посылай еще одного!
* * *
Монастырев, подобно опытному охотнику, не желал спугнуть дичь. Он и до реки полк не довел и велел тихо отдыхать, а варево готовить в овражине на малом огне. Сам прискакал с Семеном и вторым посыльным, расспросил, разругал, не слезая с коня, и велел Семену и Квашне ехать с ним смотреть литву.
– На берегу уластились? – строго спросил Квашня.
– Это он вот...
– Над самой водой, – подтвердил Семен.
– А сторона? По сю аль по ту?
– По сю.
Монастырев пробыл за лесом около часу. Остановив коней в перелеске, он сам подкрался – где на корточках, где на брюхе, – под самый бок сторожевому литовскому полку. Еще на подходе отметил свежую ископыть – был послан тоже десяток вперед, но эта малая сторожа проехала часом раньше, чем появился у реки Квашня. Это и успокоило врагов. Теперь лежат – седла под головы наелись и дремлют... "Ну, ужо вам, нехристи!" – жестко подумал Монастырев.
Полк отужинал на славу: пшенная каша с конопляным маслом, по куску соленой осетрины, а главное – хлеб! Испеченный в московских княжеских печах, он еще не стал сухарем и, не будучи мягким, не лип к кишкам, а ложился плотно и радостно в наголодавшиеся молодые животы. Раздобрился Монастырев...
Ночью его мучили сомнения. Великий князь наказывал: упрешься в ворога – не торопись: высмотри, выследи и доведи до сил главных, до ставки. Все вроде сделано – выслежено и сила высчитана, теперь стоит сторожевой полк супротив сторожевого. Как тут быть? Великий князь про такой сбитень ничего не наказывал... Ежели напасть на литовский полк пораньше, то можно победить. Понятно, полягут и свои, но тех – больше. Дальше можно будет гнать их до главных сил, которые все равно надо находить. А эти побегут точно к своим. Ежели удастся вырубить хоть половину, хоть треть – силы у Ольгерда убудет...
– Убудет? Нет? – спросил он сторожевого воина, что держался за копье, как пьяный за тын.
Кметь улыбнулся и ответил:
– Убудет!
Монастыреву стало весело: не понял, про что помыслы, а твердит, как начальник: убудет!
– Подымай полк!
Было еще сумеречно и туманно. На востоке – ни намека на рассвет. Птицы – и те еще не верещали. Все, казалось, было продумано, только бы не спугнуть... Роса – не лучший союзник в таком деле: далеко по сакме разносится топот, шорохи, голоса...
Выехали натощак. Кони шли по трое в ряд. У реки, в том месте, где накануне стоял со своим десятком Квашня, растянулись вдоль берега и слегка попоили коней. Сами тоже похватали горстями: хороша была вечор осетрина! У перелеска Монастырев остановил полк. Развернулся, привстал в стременах и вынул меч.
– Назар!
Кусаков подъехал к своему другу.
– Изреки полку красно слово!
Кусаков не ожидал. Он вытаращил на Монастырева глазищи, потом глянул на плотную застывшую лаву полка и растерялся. Впереди, ближе всех к нему был Федор Кошка.
– Федор! Ты – тож боярин.
– Ну?
– Скажи красно слово полку!
Кусаков тотчас отъехал к Монастыреву и тем самым опростал место Кошке. Тот мигом вспотел и решил, что, ежели останется жив, никогда не простит Кусакову,
– Дружино Монастырева! – обратился он к полку и скинул первый груз. Кто ныне пред нами?
– Литва! – откликнулся Тютчев, прищурясь в усмешке.
– Она, литва-та, железного немца бивала. Она, лит-ва-та, рот отворя не держит, понеже хитра и ловка, яко лис. В сей час она вдругорядь главу приклонила к Михаилу Тверскому, а тот – к ней. Чего делать станем?
– Обе главы рубить! – выкликнул Семен.
– Истинно речешь! Токмо гнило похвальное слово, коли его делом не подпереть! Внимаете ли?
– Внимаем! – так же негромко ответило несколько голосов.
– А посему раззнаменим их сторожевой полк! Качнулись копья – темная рябь в глазах. И снова Тютчев:
– А ежели там не един полк, но весь Ольгерд со своими полками?
– Вот и хрен-то! А посему надобно единым духом вдарить! Трогай!
Он повернул коня и увидал, что Митька Монастырев придрагивает щекой белой на своем девичьи мягком лице – проняла воеводу речь Кошки.
– Ладно сказано!
– Красноба-ай!
– Невелик бояришко, Кусакову подобен, а речь гладка и словесна.
– Божий дар!
И покатился пересуд по полку – от головы к хвосту, – пока не приостановились в последний раз перед атакой.
* * *
Удар Монастырева был неожидан и страшен. Литовский полк успел проснуться, схватить оружие, но не побежал, ибо всякий знал: в бегстве от конного найдешь верную смерть – тому татары учили Европу полтора столетия. Падкие до новизны немцы восприняли это в своих орденских конных набегах... Половина литовцев сплотилась в пешем строю, другая кинулась к пасущимся коням. Первые дрались в надежде на помощь другой половины. Конные спешили помочь, вместе исправить поруху и тем уйти от не менее верной смерти – от меча разгневанного Ольгерда. Но удар московского сторожевого полка был так силен, что пешие ряды были смяты за четверть часа. Какое-то время от бегства удерживала литовцев река, на берегу которой раскинулся лагерь, но длинные копья москвичей, разящие сверху, с седла, страшные удары мечей, и все это с налета, со скачущих, встающих на дыбы коней, заставляли отходить в воду, и наконец оборона рухнула. В воду летели и падали замертво раненые кони, давя еще живых, копья, мечи, сулицы, булавы и топоры – все весело и страшно мелькало в руках москвичей, а конница литовцев – та, вторая, отбежавшая к коням половина воинства – так и не поднялась навстречу. Кусаков и Кошка с полуслова поняли Монастырева и устремились туда с двумя сотнями конников. Пасшиеся лошади, встревоженные скачкой, ржанием, криками, стонами, лязгом железа, грохотом щитов и копий, снялись с пастбища и пошли налегке рысью вдоль реки, к лесу.
Семен впервые взят был в поход. Ему сидеть бы еще в гридниках, спать бы в княжих переходах под дверью крестовой палаты, но два товарища – Тютчев и Квашня – руку давали за него перед Григорием Капустиным и до того надоели первому сотнику княжего стремянного полка, что тот отозвался на просьбу взял Семена в поход.
В начале боя он был рядом с Тютчевым. Сначала смотрел на него, колол, как тот, копьем и щит притягивал к левому боку, только подымал его слишком высоко.
– Не засти свет! – крикнул ему на это Тютчев, а сам кинулся вперед, в проем меж двух заматерелых воинов, куда-то колющих, что-то кричащих.
Семен видел, как падают свои и чужие, и все не мог осознать, что никто из них уже не подымется никогда, и потому, должно быть, все тут происходящее показалось ему очень легким и простым делом, настолько простым, что он едва не заплакал от бездеятельности, когда его оттеснили свои же, и лихорадочно искал, куда бы ткнуть копьем, дабы отомстить за погибшего вместе с Мининым отца, за страх свой, что испытал он ввечеру, когда Квашня послал его в дозор одного, и за все те смерти, о которых вчера же говорили на привале.
– Квашня! Чешись! – слышался надломленный, юношеский голос Тютчева.
"Вон уж где он!" – с досадой подумал Семен и ударил коня подтоком копья в пах. Вмиг почувствовал, что он уже в реке, где барахтались, кричали и отбивались литовцы. Он увидал одного, высокого, стоявшего по колено в воде с мечом, в светлом высоком шлеме московских статей и в ослепительных латах.
"Это мой!" – подумал он радостно, но этого было ему мало, он хотел, чтобы видели его если и не все з полку, то хотя бы Тютчев и Квашня.
– Чешись, Квашня! – не прокричал, а петушком пропел Семен, а для верности приподнял щит в левой руке.
И тут он вскрикнул коротко и тихо – так тихо, что почему-то никто даже не оглянулся, и, если бы не Квашня и Тютчев, оглянувшиеся на его первый крик, никто не видел бы происшедшего. Но и их Семен увидел лишь на мгновенье: резкая, колющая боль прошла куда-то глубоко в левый бок и раздалась там по всему животу и груди. Щит его в тот же миг ударил кромкой по чему-то жесткому, отчего боль стала еще сильней, и он почувствовал, что всему виной его конь, который тянет вперед и надевает его на что-то острое, жесткое, неумолимое...
Лошадь вынесла его тело на другой берег. Тютчев и Квашня пробились к Семену, когда полк дорубал бегу" щих к лесу.
Семен выпал из седла на кромку берега, но, видимо, в ту минуту был еще жив и мучился. Теперь же он лежал на боку, поджав колено к пробитому боку, a ру-ки – руки обхватили ладонями голову, как вчера, на привале, будто он хотел уйти от всего, что тут видел, понял и чего впервые и уже навсегда устрашился.
Монастырев нашел их на берегу. Они все еще стояли и шмыгали носами. Разгоряченный, окровавленный я страшный, он глянул на них и хотел крикнуть, обругать за малодушие, но только прокашлялся строго и отвернулся.
– Копьем его ткнуло... – как бы извиняясь, что они раньше времени вышли из боя, промолвил Тютчев.
Монастырев зажал ладонью окровавленное бедро и молча отхромал прочь. Он потерял коня.
4
Большой шатер великого князя Московского был поставлен посреди обширной поляны, сплошь забитой московским воинством. Позади, со стороны Москвы, втекала на поляну дорога, а впереди, за большим лесистым оврагом, засел Ольгерд.
Минувшим днем Дмитрий прошел место боя, где Мо-настырев вчистую разгромил полк врага, а к вечеру настиг соединенные полки Твери и Литвы, но те не приняли боя и укрылись за оврагом. Гибель лучшего полка Ольгерд переживал тяжело, но вместо обычной злости он испытывал страх, который и загнал его за глубокий овраг. Ольгерд и не думал наступать на московские полки, Дмитрий же понимал, что добраться до врага можно только через овраг и пешей ратью, а это значило – погубить немало людей, а может быть, и оказаться разбитым. Уходить назад, в Москву, лишь слегка потрепав Ольгерда и не наказав главного виновника – Михаила Тверского, было жалко. Ведь это опять Михаил навлек Литву на Москву!
Дмитрий не откидывал полога шатра, дабы не напустить комаров, и ходил по всему простору. Солнце еще не кануло за лес, и по всему шатру разливался веселый свет от голубого шелка китайской выделки. Это Бренок высмотрел восточную материю на базаре в Сарае, и вот сшит добрый шатер. Сколько и где предстоит еще ставить его Дмитрию? Долог ли будет его жизненный путь, наполненный походами?