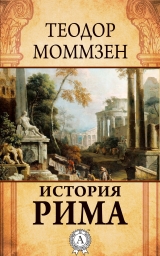
Текст книги "История Рима. Книга первая"
Автор книги: Теодор Моммзен
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 68 страниц)
Но как рядом с гражданством появилась в то время чернь, так и рядом с достойной уважения и полезной оппозицией появилась льстящая народной толпе демагогия. Уже Катону было знакомо ремесло людей, в которых болезненная наклонность к краснобайству так же сильна, как у иных бывает сильна болезненная наклонность к пьянству и спячке; когда эти люди не находят добровольных слушателей, они запасаются наемными; им внимают, как рыночным шарлатанам, не вслушиваясь в их слова, но на них, конечно, не полагается тот, кому нужна помощь. Своим обычным резким тоном престарелый Катон описывает этих вышколенных по образцу греческих рыночных краснобаев, отпускающих шуточки и остроты, поющих и пляшущих и всегда на все готовых молодчиков; по его мнению, такие люди всего более годны для того, чтобы разыгрывать на публичных процессиях роль паяцев и болтать с публикой; за кусок хлеба они готовы делать все, что им прикажут, – и говорить и молчать. Действительно, демагоги этого рода были худшими из врагов реформы. В то время как приверженцы последней стремились главным образом повсюду к улучшению нравов, демагогия стояла лишь за ограничение правительственной власти и расширение прав гражданства. В первом отношении самым важным нововведением была фактическая отмена диктатуры. Кризис, вызванный в 537 г. [217 г.] Квинтом Фабием и его популярным противником, нанес смертельный удар этому искони непопулярному учреждению. Хотя правительство еще раз после того (538) [216 г.], а именно под непосредственным впечатлением битвы при Каннах, назначило диктатора для командования армией, однако в мирное время оно уже не осмеливалось прибегать к такой мере, и, после того как диктаторы еще назначались несколько раз (в последний раз в 552 г. [202 г.]) по предварительному указанию самих граждан для заведования городскими делами, эта должность без формального упразднения фактически вышла из употребления. Соединенная в одно целое искусственным путем, система римского государственного управления утратила вследствие этого очень полезное средство восполнять недостатки ее своеобразной коллегиальной магистратуры, а правительство, от которого зависело назначение диктатора, т. е. временное отрешение консулов от должности и вместе с тем указание лица, которое должно быть выбрано в диктаторы, лишилось одного из своих главных орудий управления. Эта утрата была крайне неудовлетворительно восполнена тем, что в чрезвычайных случаях, главным образом если внезапно вспыхивали восстание или война, сенат стал облекать назначенных на срок должностных лиц чем-то вроде диктаторской власти, поручая им принимать по их усмотрению меры для общего блага, в результате чего создавалось нечто похожее на то, что мы называем теперь военным положением. Вместе с тем угрожающим образом усилилось влияние народа как на избрание должностных лиц, так и на государственные дела и на вопросы управления и финансов. Жреческие коллегии и особенно самые важные в политическом отношении коллегии сведущих людей пополнялись по старому обычаю сами собой и сами назначали старшин, если они полагались; действительно, в этих корпорациях, предназначавшихся для передачи из рода в род знания божественных вещей, самой подходящей формой избрания была кооптация. Но в то время (ранее 542 г.) [212 г.] перешло от коллегий к общине хотя еще не право выбирать членов этих коллегий, но право выбирать из среды этих корпораций старшин курионов и понтификов; это нововведение не имело большой политической важности, но свидетельствовало о начинавшейся дезорганизации республиканских порядков. Однако из свойственного римлянам внешнего уважения к богам и из опасения сделать какой-нибудь промах избрание предоставлялось в этих случаях небольшому числу избирательных округов и, стало быть, не всему «народу». Более важны были последствия усиливавшегося вмешательства гражданства в личные и деловые вопросы, касавшиеся военного управления и внешней политики. Сюда относятся факты, уже упомянутые ранее: переход назначения ординарных штаб-офицеров из рук главнокомандующего в руки гражданства; избрание вождей оппозиции в главнокомандующие для войны с Ганнибалом; состоявшееся в 537 г. [217 г.] противозаконное и безрассудное постановление граждан, в силу которого высшее командование армией было разделено между непопулярным генералиссимусом и его популярным подчиненным, действовавшим во всем ему наперекор и в военном лагере и в столице; обвинения, которые были возведены трибунами на такого способного офицера, как Марцелл, за неразумное и недобросовестное ведение войны (545) [209 г.] и которые заставили, однако, Марцелла приехать из лагеря в столицу, чтобы удостоверить перед столичной публикой свои военные дарования; еще более скандальная попытка путем народного приговора отнять у победителя при Пидне право на триумф; облечение частного человека экстраординарной консульской властью, впрочем состоявшееся по инициативе сената (544) [210 г.]; опасная угроза Сципиона, что в случае отказа сената он добьется назначения его главнокомандующим в Африку путем обращения к гражданству (549) [205 г.]; попытка почти одуревшего от честолюбия человека склонить народ наперекор правительству к объявлению родосцам войны, которую нельзя было оправдать ни в каком отношении (587) [167 г.]; новая аксиома государственного права, что всякий государственный договор вступает в силу только после того, как он утвержден общиной. Такое участие гражданства в делах управления и в назначении главнокомандующих было чрезвычайно опасно; но еще более опасно было его вмешательство в управление финансами не только потому, что нарушать древнейшее и важнейшее из прав правительства – право исключительно заведовать имуществом общины – значило подкапываться под самый корень сенатской власти, но и потому, что присвоенное первичными собраниями право разрешать самый важный из входивших в эту сферу вопросов – вопрос о раздаче казенных земель – готовило республике неизбежную гибель. Дозволить участникам первичных собраний издавать декреты о переходе общественного достояния в их собственный карман было не только безрассудством, но и началом конца; этим способом деморализуется самое благонамеренное гражданство, а тем, кто предлагает такие декреты, предоставляется власть, несовместимая ни с какой свободной общиной. Как ни была благотворна раздача казенных земель и как ни достоин был сенат упрека вдвойне за то, что путем добровольной раздачи отданных под оккупацию земель не положил конец самому опасному средству агитации, все же однако Гай Фламиний, обратившийся в 522 г. [232 г.] к гражданству с предложением раздать государственные земли в Пиценском округе, не доставил республике своими благими намерениями столько же пользы, сколько причинил ей вреда тем способом, к которому прибегнул. Правда, за двести пятьдесят лет до этого Спурий Кассий сделал такое же предложение; но как ни похожи эти две меры по своему буквальному смыслу, между ними все же лежит глубокое различие в том отношении, что Кассий обращался по общинному делу к полной жизни и еще самоуправлявшейся общине, а Фламиний – по государственному делу к первичному собранию обширного государства. Не только правительственная партия, но и партия реформы с полным правом считала военное, административное и финансовое управление законной сферой деятельности сената и старалась избегать пользоваться формальной властью первичных собраний (уже вступивших в период непредотвратимого упадка), а тем более ее усиливать. Даже в самых ограниченных монархиях ни одному монарху еще никогда не приходилось играть такой ничтожной роли, какая выпала на долю самодержавного римского народа; это было достойно сожаления во многих отношениях; но при тогдашнем положении комиций это было неизбежно даже по мнению приверженцев реформы. Оттого-то Катон и его единомышленники никогда не обращались к гражданству с такими предложениями, которые были бы вторжением в собственную сферу правительства; оттого-то они никогда не прибегали ни прямым, ни окольным путем к приговорам гражданства, для того чтобы вынудить от сената согласие на желаемые ими политические и финансовые меры, как, например, на объявление войны Карфагену или на раздачу земельных участков. Сенатское правление пожалуй и было плохо, но первичные собрания вовсе не были в состоянии управлять. Нельзя сказать, чтобы в них преобладало неблагонамеренное большинство; напротив того, слова уважаемого человека, громкие требования чести и еще более громкие требования необходимости еще находили отклик в комициях и предохраняли их от пагубных и постыдных решений: гражданство, перед которым оправдывался Марцелл, покрыло позором обвинителя, а обвиняемого выбрало на следующий год в консулы; оно вняло убеждениям, что война с Филиппом необходима; оно покончило войну с Персеем, выбрав Павла в главнокомандующие, и оно же почтило Павла вполне заслуженным триумфом. Но для таких избраний и для таких решений уже требовался какой-то особый подъем, между тем как в большинстве случаев масса слепо подчинялась первому импульсу и все решала безрассудно и случайно. В государстве, как и во всяком организме, переставший действовать орган становится вредным, поэтому ничтожество верховного народного собрания таило в себе немалые опасности. Всякое сенаторское меньшинство имело законное право апеллировать к комициям на решения большинства. Для всякого, кто обладал нетрудным искусством ораторствовать перед непросвещенными людьми и даже только был в состоянии сорить деньгами, открывался путь к достижению должностей или к испрашиванию в свою пользу народных постановлений, которым были обязаны подчиняться и должностные лица и правительство. Этим объясняются и назначения тех штатских главнокомандующих, которые имели обыкновение чертить свои планы сражений на столе в питейном доме и с высоты своего врожденного стратегического гения с пренебрежением взирали на военную шагистику, и назначения тех штабных офицеров, которые добивались своих мест путем заискиваний у столичного населения и которых приходилось массами увольнять, как только дело доходило до войны, и поражения при Тразименском озере и при Каннах, так же как и позорное ведение войны против Персея. Такие непредвиденные постановления гражданства создавали для правительства на каждом шагу помехи и сбивали его с толку, чаще всего именно тогда, когда правительство действовало правильно. Но бессилие правительства и самой общины было еще самым незначительным из тех зол, которые порождала демагогия. Под эгидой конституционных прав сила отдельных честолюбцев стала находить себе более прямой выход наружу. То, что с формальной стороны выдавалось за решение высшей правительственной власти, в сущности нередко бывало выражением личной воли того, кто вносил проект решения; но во что же должна была превратиться республика, в которой война и мир, назначение и увольнение главнокомандующих и офицеров, общественная казна и общественное достояние зависели от прихотей народной толпы и ее случайных вожаков? Гроза еще не разразилась; но тучи все более и более надвигались, и в душной атмосфере уже по временам раздавались раскаты грома. Положение становилось вдвойне опасным, потому что тенденции, с виду противоположные, сходились в своих крайностях как относительно целей, так и относительно средств. Семейная политика и демагогия одинаковым образом и с одинаковой опасностью для общества соперничали между собой в покровительстве черни и в преклонении перед ней. По мнению государственных людей следующего поколения, Гай Фламиний первым вступил на тот путь, который привел к реформам Гракхов и – можем мы добавить – в более отдаленном будущем к демократически-монархической революции. Даже Публий Сципион, задававший тон своим высокомерием, своей погоней за титулами и своим уменьем набирать клиентов среди нобилей, в своей личной и почти династической политике искал опоры против сената в народной толпе, которую не только очаровывал блеском своей личности, но и подкупал также доставками хлеба, в легионах, расположения которых старался снискать всякими честными и нечестными способами, и главным образом в лично преданных ему клиентах высшего и низшего разряда. Только способность увлекаться неясными мечтами, составлявшая как привлекательную, так и слабую сторону этого замечательного человека, мешала ему освободиться от веры в то, что он просто первый гражданин Рима и ничем иным и быть не желает. Утверждать, что реформа была возможна, было бы так же опрометчиво, как утверждать противное; но не подлежит сомнению, что государство сверху донизу настоятельно нуждалось в радикальных улучшениях и что ни с чьей стороны не было сделано серьезной попытки в этом направлении. Впрочем, по некоторым отдельным пунктам кое-что было сделано и сенатом и оппозицией гражданства. И в сенате и в оппозиции большинство еще состояло из благонамеренных людей, которые еще нередко протягивали друг другу руки над разделявшей партии пропастью, для того чтобы общими силами устранить худшее из зол. Но так как источник зол оставался незакрытым, то немного было пользы от того, что лучшие люди заботливо прислушивались к глухому бушеванию вздувавшегося потока и трудились над устройством плотин и насыпей. Ограничиваясь одними паллиативными мерами и к тому же к самым важным из них, как например к улучшению юстиции и к раздаче казенных земель, прибегая несвоевременно и в недостаточно широких размерах, они тоже подготовляли для потомства горькую будущность. Оттого, что они пропустили время перепахать поле, они тем самым дали вырасти сорной траве, хотя ее и не сеяли. Переживавшим революционные бури позднейшим поколениям казалась золотым веком Рима эпоха после ганнибаловской войны, а Катон – образцом римского государственного мужа. Но скорее это было затишьем перед грозой и эпохой политических посредственностей, чем-то вроде эпохи вальполевского управления в Англии; однако в Риме не нашлось Чатама, который снова привел бы в движение застоявшуюся в жилах нации кровь. Куда ни посмотришь, всюду видишь в старом здании трещины и щели и в то же время работников, которые то заделывают их, то расширяют; но нигде не заметно и признаков подготовки к серьезной перестройке заново, и возникает вопрос уже не о том, должно ли рухнуть это здание, а о том, когда оно рухнет. Ни в какую другую эпоху римское государственное устройство не было формально столь устойчивым, как в промежуток времени от сицилийской войны до третьей македонской и даже при следующем поколении; но устойчивость государственного устройства была там, как и повсюду, не признаком здорового состояния государства, а признаком начинавшегося заболевания и предвестницей революции.
ГЛАВА XII
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ФИНАНСЫ.
Как прагматически последовательная история Рима становится до некоторой степени возможной лишь в VI в. от основания города [ок. 250—150 гг.], так и его экономическое положение становится более определенным и ясным с того же времени. Только с тех пор принимает определенную форму его крупное хозяйство – сельское и денежное, – хотя и не представляется возможности ясно различить, что в этом хозяйстве сохранилось от старых обычаев, что было заимствовано из сельского и денежного хозяйства ранее цивилизовавшихся наций и особенно финикийцев, что было последствием увеличившейся массы капитала и роста культуры в самой нации. Для правильного понимания внутренней истории Рима будет нелишним описать эти хозяйственные отношения в их общей связи.
Римское сельское хозяйство 228228
Впрочем, чтобы составить себе верное понятие о древней Италии, необходимо припомнить, какие большие перемены внесла новейшая культура в эту область. Из разных видов зернового хлеба в древности не возделывали ржи, а во времена империи римляне с удивлением смотрели на германцев, приготовлявших кашу из овса, который они считали сорной травой. Рис начали возделывать в Италии только с конца XV века, а кукурузу – только с начала XVII века. Картофель и помидоры ведут свое начало из Америки; артишоки, по-видимому, были не что иное, как выработанная культурой разновидность знакомых римлянам Кардонов, и по своим специальным свойствам также принадлежали к числу новых продуктов. Напротив того, миндаль, или «греческий орех», персик, или «персидский», а также «мягкий орех» (nux mollusca), хотя и не были первоначально италийским продуктом, однако встречаются там по крайней мере за 150 лет до н. э. Финиковая пальма, завезенная в Италию из Греции, точно так же как она была завезена в Грецию с Востока, и служившая живым свидетельством очень древних торгово-религиозных сношений Запада с жителями Востока, разводилась в Италии еще за 300 лет до н. э. ( Liv., 10, 47; Pallad., 5, 2, 11, 12, 1) не ради плодов ( Plinius, Hist. Nat., 13, 4, 26), а так же как и в наше время, как декоративное растение и ради листьев, которые употреблялись на публичных празднествах. К более позднему времени относится начало разведения вишневых деревьев, которые росли на берегах Черного моря и были впервые посажены в Италии во времена Цицерона, хотя дикий вишняк был в Италии туземным деревом. Быть может, еще позднее стали разводить абрикосы, или «армянские сливы». Лимонное дерево стали культивировать в Италии лишь в позднейший период империи; апельсинное дерево было туда завезено маврами не ранее XII или XIII вв. и не ранее XVI в. появилось там из Америки алоэ (agave americana). Хлопок стали впервые разводить в Европе арабы. С буйволами и шелковичными червями знакома также только новейшая Италия, а не древняя. Отсюда мы видим, что в древней Италии вовсе не было именно тех продуктов, которые теперь нам кажутся настоящими «итальянскими»; если теперешнюю Германию можно назвать южной страной по сравнению с той, в которую проникал Цезарь, то и Италия в не меньшей степени сделалась с тех пор «более южной страной».
[Закрыть]было или крупнопоместное, или пастбищное, или мелкопоместное; о первом из них можно составить себе ясное понятие по описанию Катона.
Римские поместья – если на них смотреть как на крупную земельную собственность – были вообще небольших размеров. Описанное Катоном поместье занимало площадь в 240 моргенов; обычным размером этих поместий была так называемая центурия в 200 моргенов. Там, где с трудом разводился виноград, требовавший большой затраты труда, размер хозяйства был еще менее велик; Катон полагает, что в этом случае нужна была площадь в 100 моргенов. Кто хотел вложить новый капитал в сельское хозяйство, тот не расширял своего поместья, а приобретал несколько новых; наибольший размер оккупационного владения в 500 моргенов считался совокупностью двух или трех поместий. Отдача поместий в наследственную аренду не практиковалась ни в частном, ни в общинном хозяйстве; она встречается только у зависимых общин. Бывали случаи отдачи в аренду на более короткие сроки или за условленную денежную плату, или на том условии, что арендатор нес все хозяйственные расходы и в вознаграждение за это получал известную долю – обыкновенно половину продуктов 229229
По словам Катона (De re rust., 137, стр. 16), при долевой аренде из валового дохода вычитались расходы на прокормление плуговых волов, а остаток делился между сдавшим имение в аренду и арендатором (colonus partiarius) в условленном заранее размере. О том, что доли обыкновенно были равны, можно заключить по аналогии с французским bail à cheptel и с такой же итальянской системой аренды на половинных условиях и по отсутствию всяких следов какого-либо другого раздела на части; иные впадают в заблуждение, указывая на так называемого politor, который получал пятое зерно, а если дележ происходил до молотьбы, то шестой или девятый сноп (Cato, 136, стр. 5); этот politor был не арендатором на долевых условиях, а нанятым во время жатвы работником, который получал свою поденную плату в виде условленной доли продуктов.
[Закрыть]; но это были исключения, к которым прибегали только по необходимости; оттого-то в Италии и не образовалось настоящего сословия арендаторов 230230
Отдача поместьев в аренду получила свое настоящее значение лишь с тех пор, как римские капиталисты стали приобретать за морем земельные владения в больших размерах; только тогда стали понимать, что всего выгоднее назначать сроки аренды на несколько поколений (Colum., 1, 7, 3).
[Закрыть]. Стало быть, владелец обыкновенно сам управлял своим имением; впрочем, он в сущности сам не вел хозяйства, а лишь по временам приезжал в имение, чтобы установить план ведения хозяйства, понаблюдать за его исполнением и затребовать от своих слуг отчета; это доставляло ему возможность вести хозяйство одновременно в нескольких поместьях и при случае заниматься государственными делами. Из зерновых культур возделывались полба и пшеница, а также ячмень и просо; кроме того разводили репу, редьку, чеснок, мак и специально для корма скота лупин, бобы, горох, вику и некоторые другие кормовые травы. Сеяли, как правило, осенью и только в исключительных случаях весной. И орошением и осушкой полей занимались очень активно; так например, очень рано вошел в употребление дренаж посредством укрепленных рвов. Не было недостатка и в лугах для сенокосов; еще во времена Катона они нередко орошались искусственным образом. Не меньшее, если не большее, чем зерновые культуры и кормовые травы, значение имели для хозяйства оливковое дерево и виноградная лоза; первое разводилось между посевами на полях, а вторая в виноградниках 231231
Что между виноградными кустами не сеяли никаких зерновых культур, а в лучшем случае только кормовые травы, легко произрастающие в тени, видно из слов Катона (33, ср. 137); поэтому и Колумелла (3, 3) считает, что от виноградников нет никаких других побочных доходов кроме дохода от продажи отпрысков. Напротив того, древесные насаждения (arbustum) засевались, как и всякое хлебное поле (Colum., 2, 9, 6). Только в тех случаях, когда лоза привязывалась к другим деревьям, между этими последними разводились и хлебные культуры.
[Закрыть]. Также разводились смоковницы, яблони, груши и другие плодовые деревья, а вязы, тополи и другие лиственные деревья и кустарники разводились частью для рубки, частью ради листьев, которые употреблялись на подстилку и на корм для скота. Напротив того, скотоводство играло у италиков гораздо менее важную роль, чем в теперешнем хозяйстве, оттого что они употребляли преимущественно растительную пищу, а мясные кушанья появлялись у них на столе лишь в виде исключения и приготовлялись почти только из свинины и баранины. Хотя от внимания древних и не ускользали экономическая связь земледелия со скотоводством и в особенности важное значение навоза, тем не менее им было незнакомо теперешнее обыкновение соединять земледелие с разведением рогатого скота. Крупный скот держали только в том количестве, какое было необходимо для обработки полей, а прокармливали его не на особых пастбищах, а в стойлах – летом постоянно, зимой же большею частью. Напротив того, овец пасли на пожнивных выгонах, по словам Катона, в числе 100 штук на каждые 240 моргенов; однако нередко случалось, что владелец предпочитал отдавать зимние пастбища в аренду крупным стадовладельцам или же отдавать свои стада овец арендатору, выговаривая в свою пользу определенное число ягнят и определенное количество сыра и молока. Свиней (по словам Катона, до десяти хлевов на одно крупное поместье), кур и голубей держали на дворе и откармливали по мере надобности; при случае отводили там же места для разведения зайцев и устройства рыбных садков – это были скромные зачатки получившего впоследствии столь громадные размеры разведения дичи и рыбы. Полевые работы производились при помощи волов, которых впрягали в плуг, и ослов, которые употреблялись преимущественно на то, чтобы возить навоз и приводить в движение мельничное колесо; содержали и одну лошадь, которая, по-видимому, предназначалась для владельца. Этих животных не разводили дома, а покупали; волов и лошадей всегда холостили. На имение в 100 моргенов Катон полагает одну пару волов, на имение в 200 моргенов три пары, а позднейший сельский хозяин Сазерна полагал две пары волов на имение в 200 моргенов; ослов требовалось, по мнению Катона, на мелкие имения по три, а на более крупные по четыре.
Ручная работа обыкновенно производилась рабами. Во главе состоявших при имении рабов (familia rustica) находился эконом (vilicus от villa), который принимал и выдавал, покупал и продавал, получал от владельца инструкции и в его отсутствие распоряжался и наказывал. Под его начальством состояли: экономка (vilica), заведовавшая домом, кухней и кладовой, курятником и голубятней, несколько пахарей (bubulci) и чернорабочих, один погонщик ослов, один свинопас и, если было стадо овец, один овчар. Число работников, естественно, соответствовало способу ведения хозяйства. На пахотное имение в 200 моргенов без древесных насаждений полагались два пахаря и шесть чернорабочих, на имение такого же размера с древесными насаждениями – два пахаря и девять чернорабочих; на имение в 240 моргенов с оливковыми плантациями и со стадом овец – три пахаря, пять чернорабочих и три пастуха. Для виноградников, естественно, требовались более значительные рабочие силы; на имение в 100 моргенов с виноградниками полагались один пахарь, одиннадцать чернорабочих и два пастуха. Эконом, конечно, пользовался большей свободой, чем другие работники; в своем трактате о хозяйстве Магон советовал разрешать ему вступать в брак, производить на свет детей и иметь свои собственные наличные деньги: а по совету Катона следовало выдавать за него замуж экономку; он один мог надеяться, что за свое хорошее поведение получит от владельца свободу. Что касается остальных работников, то все они составляли одну дворню. Рабы, точно так же как и крупный скот, не разводились в самом имении, а покупались на невольничьем рынке, когда достигали такого возраста, что были способны работать; если же они утрачивали работоспособность вследствие старости или болезни, их снова отправляли на рынок вместе с разным ненужным хламом 232232
Магон, или переводчик его сочинений (у Varro, De re rust., 1, 17, 3), советует не разводить рабов, а покупать их в возрасте не моложе двадцати двух лет; Катон, вероятно, разделял это мнение, как это ясно указывает личный состав его образцового хозяйства, хотя и не говорит об этом прямо. Катон (2) категорически стоит за продажу престарелых и больных рабов. Хотя Колумелла (1, 8) и говорит о разведении рабов, причем рабыня, родившая трех сыновей, должна быть освобождаема от работы, а мать четырех сыновей даже отпускаема на свободу, но это было лишь теоретическим воззрением, а не практическим правилом при ведении хозяйства, точно так же как и обыкновение Катона покупать рабов для того, чтобы их обучать и потом перепродавать ( Plut. Cat. mai., 21). Упоминаемое там же характерное обложение налогом относится к настоящей домашней прислуге (familia urbana).
[Закрыть]. Хозяйственное здание (villa rustica) служило в одно время и стойлом для скота, и кладовой для продуктов, и жилищем для эконома и рабочих; для владельца же нередко строился особый дом (villa urbana). И каждый из рабочих и сам эконом получали все необходимое от владельца в определенные сроки и в определенном размере и этим должны были довольствоваться; они получали купленные на рынке одежду и обувь, которые должны были держать в исправности; им ежемесячно выдавали в определенном количестве пшеницу, которую они должны были сами молоть, соль, приправы вроде оливок или соленой рыбы, вино и оливковое масло. Количество припасов соразмерялось с работой; поэтому, например, эконом, на котором лежал менее тяжелый труд, чем на чернорабочих, получал и менее припасов. Все, что касалось кухни, лежало на обязанности экономки, и все вместе ели одну и ту же пищу. Обычно рабов не заковывали в цепи, но если кто-нибудь из них заслуживал наказания или заставлял опасаться попытки к побегу, то его отправляли на работу в оковах, а на ночь запирали в невольничий карцер 233233
В этих пределах заковывание рабов и даже собственных сыновей ( Dionis., 2, 26) практиковалось в самой глубокой древности; и Катон упоминает как об исключении о закованных полевых рабочих, которым приходится выдавать хлеб вместо зерен, потому что они сами не могут молоть (56). Даже во времена империи заковывание рабов было большей частью наказанием, которое налагалось предварительно экономом, а окончательно владельцем ( Colum., 1, 8; Caius., 1, 13; Ulp., 1, 11). Впоследствии обработка полей закованными в цепи невольниками встречается в качестве особой хозяйственной системы, а смирительный дом для рабов (ergastulum), состоявший из подвала с несколькими небольшими оконными отверстиями, до которых нельзя было достать с пола рукой ( Colum., 1, 6), является необходимой принадлежностью хозяйственной постройки; но это объясняется тем, что пахотные рабы находились в более тяжелом положении, чем остальные чернорабочие, и потому выбирались преимущественно из тех, которые или действительно провинились или считались провинившимися. Впрочем, этим нисколько не опровергается тот факт, что жестокие владельцы приказывали заковывать рабов и без всякого к тому повода; на это служит ясным указанием и то, что налагаемые на рабов-преступников лишения относятся судебниками не ко всем закованным в цепи рабам, а только к тем, которые закованы в виде наказания. То же можно сказать и о клеймении, в сущности оно должно было служить наказанием, однако случалось, что клейма налагались на целую партию рабов ( Diod., 35, 5; Bernay, Phokylides, стр. XXXI).
[Закрыть]. Этих дворовых рабов обычно было достаточно для работ, а в случае необходимости соседи, само собой понятно, помогали друг другу уступкой своих рабов за поденную плату. Кроме этих случаев обыкновенно не прибегали к найму посторонних работников; исключения встречались в особо нездоровых местностях, где находили более выгодным сокращать число рабов и заменять их наемными людьми; это делалось также при уборке жатвы, для которой наличной рабочей силы всегда было мало. Для жатвы и для сенокоса брали наемных жнецов, которые нередко получали вместо денежной платы шестой или десятый сноп, а если они сверх того и молотили, то пятое зерно; так, например, умбрийские рабочие ежегодно отправлялись в большом числе в долину Риети, для того чтобы помогать там при уборке жатвы. Сбор винограда и маслин обыкновенно поручали по договору подрядчику, который приводил своих людей или вольных людей, работавших по найму, или чужих или своих собственных рабов; уборка и выжимка продуктов производились под надзором нескольких лиц, назначенных владельцем, и вся продукция поступала в распоряжение этого владельца 234234
Относительно сбора винограда Катон этого не утверждает, но зато это утверждает Варрон (1, 17), и так оно и должно быть по существу. В экономическом отношении было бы ошибочно устанавливать число содержащихся при поместье рабов по размеру работ во время жатвы, а если бы это и делалось, то во всяком случае не стали бы продавать виноград на корню, что случалось нередко ( Катон, 147).
[Закрыть]. Очень часто случалось, что владелец продавал жатву на корню и предоставлял покупателю распоряжаться уборкой. Вся система хозяйства носит на себе отпечаток той ничем не стесняющейся беспощадности, которая свойственна могуществу капитала. Раб и рогатый скот стоят на одном уровне. «Хорошая цепная собака, – говорил один римский сельский хозяин, – не должна быть слишком ласкова к своим сотоварищам по рабству». Пока раб и вол способны работать, их кормят досыта, потому что было бы неэкономично оставлять их голодными, а когда они утратят работоспособность, их продают, так же как истертый сошник, потому что было бы неэкономично далее их содержать. В более древнюю эпоху религиозные мотивы вносили в эту сферу некоторые смягчения, и как раб, так и пахотный вол освобождались от работы в установленные праздники и дни отдыха 235235
Колумелла (2, 12, 9) определяет число дождливых и праздничных дней в году средним числом 45; с этим согласуется и тот факт, что, по замечанию Тертуллиана (De idol., 14), число языческих праздничных дней еще не достигло пятидесяти дней христианской праздничной поры от пасхи до троицы. К этому следует присовокупить то время отдыха среди зимы после окончания осенних посевов, которое Колумелла определяет в тридцать дней. В число этих последних, без сомнения, входил и переходный «праздник посева» (feriae sementivae; ср. Овидиевы Fasti, 1, 661). Этот месяц отдыха не следует смешивать с судебными вакациями во время жатвы и во время уборки винограда ( Plin., Ep., 8, 21, 2 и др.).
[Закрыть]. Катона и его единомышленников всего лучше характеризует тот факт, что они только на словах требовали более строгого соблюдения святости праздничных дней, а на деле сами обходили это требование; так, например, они советовали оставлять в эти дни плуг в покое, но рабов заставлять неутомимо заниматься другими, прямо не запрещенными работами. В принципе рабам не дозволялось ничего делать по собственному почину; раб должен или работать, или спать – гласит одно из катоновских изречений, а о попытках привязать раба к имению или владельцу человеколюбивым обхождением не могло быть и речи. Буква закона господствовала во всей своей ничем не прикрытой отвратительной наготе, и никто не обманывал себя никакими иллюзиями насчет последствий такого образа действий. «Сколько рабов, столько врагов» – гласит одна римская поговорка. В хозяйстве считалось за правило скорее раздувать чем прекращать раздоры между невольниками; в том же духе Платон, Аристотель и оракул сельских хозяев карфагенянин Магон предостерегали от приобретения рабов одинаковой национальности из опасения дружбы между земляками, а быть может и заговоров. Владелец, как уже было ранее замечено, управлял своими рабами точно так же, как римская община управляла своими подданными в «поместьях римского народа» – провинциях, и весь мир ощутил на себе последствия того факта, что господствовавшее государство организовало свою новую систему управления по образцу системы рабовладельцев. Но, хотя римские сельские хозяева и достигли настолько незавидной высоты мышления, что в хозяйстве не дорожили ничем кроме вложенного в него капитала, их все-таки нельзя не похвалить за их последовательность, предприимчивость, аккуратность, бережливость и устойчивость. Солидный и опытный сельский хозяин обрисован в катоновском описании эконома таким, каким он должен быть: эконом прежде всех выходит на свой двор и после всех ложится спать; он строг к самому себе так же, как и к своим подчиненным, и главным образом умеет держать в повиновении экономку; но он вместе с тем заботится и о работниках, и о скоте, и в особенности о плуговых волах; он часто сам принимает участие во всякой работе, но никогда не работает, как чернорабочий, до устали; он всегда дома, никогда ничего не занимает и ничего не закладывает, не задает никаких пирушек, не заботится ни о каком другом богопочитании кроме поклонения своим собственным домашним и полевым богам и, как прилично хорошему рабу, предоставляет своему господину общаться с богом и с людьми; наконец, и это главное, он относится к своему господину со смирением и получаемые от него инструкции исполняет в точности и без затей, не мудрствуя ни слишком мало, ни слишком много. Тот плохой сельский хозяин, говорится в другом месте, который покупает то, что мог бы производить в своем имении; тот плохой хозяин дома, кто делает при дневном свете то, что можно делать при огне, если его не принуждает к тому дурная погода; еще более плох тот, который делает в рабочий день то, что можно делать в праздничный день; но самый плохой тот, который в хорошую погоду заставляет работать дома, а не в открытом поле. Нет недостатка и в характерном увлечении удобрением; встречаются и золотые правила: что земля достается сельскому хозяину не для того, чтобы он ее обчищал и обметал, а для того, чтобы он ее засевал и возделывал, и что надо прежде развести виноградники и оливковые деревья и только потом, когда хозяин уже не первой молодости, можно заводиться господским домом. В этой системе хозяйства конечно есть что-то мужиковатое; вместо рационального исследования причин и последствий мы находим в ней только такие правила, которые извлечены крестьянами из собственного опыта и всем им хорошо известны; но тем не менее вполне очевидно также и стремление к использованию чужого опыта и к введению у себя чужестранных продуктов, как подтверждает это катоновский список различных плодовых деревьев, в котором встречаются и греческие, и африканские, и испанские сорта.
Крестьянское хозяйство отличалось от помещичьего преимущественно меньшим масштабом. И сам владелец и его дети работали вместе с рабами и даже вместо рабов. Рогатый скот держали в небольшом числе, а если доходы не покрывали расходов на содержание упряжи для плуга, то плуг заменяли мотыгой. Разведение маслин и виноградников или отодвигалось на задний план или вовсе не имело места. Вблизи от Рима и других больших центров сбыта продуктов тщательно возделывались цветники и огороды – как это и теперь делается в окрестностях Неаполя, – приносившие очень хороший доход.
Пастбищное хозяйство велось в гораздо более широких размерах, чем полевое. Для пастбищного имения (saltus) во всяком случае требовалась б ольшая площадь, чем для полевого; его размер определяли по меньшей мере в 800 моргенов, и его можно было почти беспредельно расширять с пользой для дела. В силу климатических условий Италии там летние пастбища в горах и зимние пастбища на равнинах взаимно дополняют друг друга; уже в то время, точно так же как и теперь и конечно большей частью теперешними же путями, стада перегонялись весной из Апулии в Самниум, а осенью обратно из Самниума в Апулию. Впрочем, как уже было ранее замечено, стада паслись зимою не всегда на особых выгонах, а частью также на жниве. Лошадей, волов, ослов, мулов разводили главным образом для того, чтобы снабдить землевладельцев, извозчиков, солдат и т. д. необходимыми для них животными; не было недостатка и в стадах свиней и коз. Но гораздо самостоятельнее и гораздо шире было развито овцеводство вследствие почти всеобщего обыкновения носить шерстяные одежды. Это хозяйство велось при помощи рабов и в общих чертах имело сходство с полевым, так что скотник (magister pecoris) занимал там место эконома. В продолжение всего лета рабы-пастухи жили большею частью не под кровлей, а под навесами в загонах, на расстоянии нескольких миль от ближайшего человеческого жилья; поэтому в силу самих условий нужно было выбирать самых здоровых и сильных людей и давать им более свободы, чем сельским рабочим.








