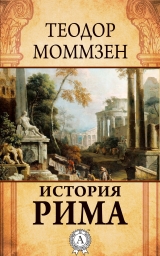
Текст книги "История Рима. Книга первая"
Автор книги: Теодор Моммзен
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 68 страниц)
Со времени падения Тарента ничем ненарушимый мир царил на материке собственно Италии к югу от Апеннин; шестидневная война с Фалериями (513) [241 г.] была не более как курьезом. Но на севере между территорией союза и цепью Альп, этой естественной границей Италии, оставалась еще широкая полоса, не подвластная римлянам. У берегов Адриатического моря границей Италии считалась река Эзис, непосредственно вверх по течению от города Анконы. Находившаяся по ту сторону границы собственно галльская страна, включительно вплоть до Равенны, входила в состав римского государственного союза точно таким же образом, как и собственно Италия; когда-то жившие там сеноны были совершенно истреблены во время войны 471/472 г. [283/282 г.], а остальные поселения были присоединены к Риму или в качестве гражданских колоний, как Sena gallica, или в качестве союзных городов с италийским правом, как Равенна. По ту сторону Равенны, на обширном пространстве вплоть до альпийской границы, жили неиталийские племена. К югу от По еще держалось могущественное кельтское племя бойев (от Пармы до Болоньи): рядом с ним на равнине жили к востоку лингоны, а к западу (в округе Пармы) анары; это были два мелких кельтских округа, вероятно находившихся под покровительством бойев. От того места, где кончается равнина, начинались владения лигуров, которые жили на Апеннинах выше Ареццо и Пизы вперемешку с отдельными кельтскими племенами и занимали земли у истоков По. К северу от По восточная часть равнины, приблизительно от Вероны до берега моря, находилась во власти венетов, которые принадлежали к иному племени, чем кельты и, вероятно, были иллирийского происхождения; между ними и западными горами жили кеноманы (около Брешии и Кремоны), редко вступавшие в союз с кельтами и, вероятно, сильно перемешавшиеся с венетами, и инсубры (около Милана); эти последние составляли самый значительный из кельтских округов в Италии и находились в постоянной связи не только с рассеянными в альпийских долинах более мелкими общинами частью кельтского, частью иного происхождения, но и с кельтскими округами, находившимися по ту сторону Альп. Альпийские ворота – огромная судоходная на протяжении пятидесяти миль река и самая большая и самая плодородная равнина тогдашней цивилизованной Европы – находились по-прежнему в руках наследственных врагов италийского имени, которые хотя и были усмирены и ослаблены, но все еще были зависимы только номинально и по-прежнему оставались беспокойными соседями. Они коснели в своем варварстве и, рассеявшись по просторным равнинам, продолжали заниматься скотоводством и хищническими набегами. Следовало ожидать, что римляне поспешат завладеть этими областями, тем более что кельты начали забывать о своих поражениях во время экспедиций 471 и 472 гг. [283, 282 гг.] и снова зашевелились; еще большие опасения вызывало то, что трансальпийские кельты снова начали показываться по сю сторону Альп. Действительно, уже в 516 г. [238 г.] бойи возобновили войну, а их начальники Атис и Галатас пригласили, конечно не будучи на то уполномочены общинным собранием, трансальпийские племена действовать с ними заодно. На этот призыв явились массы людей, и в 518 г. [236 г.] стала под Аримином такая кельтская армия, какой давно не видала Италия. Римляне были в то время слишком слабы, чтобы вступить с неприятелем в бой; поэтому они заключили с ним перемирие и, чтобы выиграть время, дали возможность отправиться в Рим кельтским послам, которые осмелились потребовать у сената уступки Аримина – точно снова настали времена Бренна. Однако одно непредвиденное событие положило конец войне, еще прежде чем она приняла серьезный характер. Бойи, недовольные непрошеными союзниками и опасаясь за целость своих собственных владений, затеяли ссору с трансальпийцами; дело дошло до битвы между двумя кельтскими армиями, и, после того как начальники бойев были убиты своими собственными подчиненными, трансальпийцы возвратились домой. Это событие отдавало бойев во власть римлян, которые могли или совершенно прогнать их, как прогнали сенонов, или же по крайней мере теснить их к берегам По. Однако с бойями был заключен мир с условием уступки некоторой части территории (518) [236 г.]. Возможно, это произошло потому, что именно в то время ожидалось возобновление войны с Карфагеном; но, после того как Карфаген уклонился от войны, уступив Сардинию, политика римского правительства потребовала скорого и окончательного завоевания всей страны вплоть до Альп. Этим совершенно оправдывались опасения кельтов, что в их владения вторгнутся римляне; однако римляне не торопились. Тогда кельты сами начали войну оттого ли, что они были встревожены произведенной римлянами на восточном берегу (522) [232 г.] раздачей земельных участков, хотя эта задача и не была первоначально направлена против них, оттого ли, что они были убеждены в неизбежности войны с Римом из-за обладания Ломбардией, или же оттого – и это, по-видимому, всего правдоподобнее, – что этому нетерпеливому народу надоело бездействие и ему захотелось предпринять новый военный поход. За исключением кеноманов, действовавших заодно с венетами и принявших сторону Рима, все италийские кельты приняли участие в походе; к ним примкнули под предводительством Конколитана и Анерэста многочисленные толпища кельтов из долины верхней Роны, или, вернее, те, из числа которых вербовались наемники в чужеземные войска 192192
Те кельты, о которых Полибий говорит: кельты, живущие в Альпах и по берегам Роны и прозванные за то, что шли в наемники, «гезатами», что в капитолийских фастах называются germani. Легко может статься, что современная историография вела в этом случае речь только о кельтах и что исторические умозрения времен Цезаря и Августа впервые побудили редакторов тех фастов превратить этих кельтов в «германцев». Если же сделанное в фастах упоминание о германцах и было основано на современных сведениях (в каковом случае оно было бы древнейшим упоминанием этого названия), то все-таки здесь следует разуметь не позднейшие немецкие племена, а какое-нибудь скопище кельтов.
[Закрыть]. Предводители кельтов двинулись к Апеннинам с 50 тысячами пехоты и 20 тысячами конницы или солдат, сражавшихся на колесницах (529) [225 г.]. В Риме не предвидели нападения с этой стороны: там никак не ожидали, чтобы кельты пренебрегали стоявшими на восточном берегу римскими крепостями и защитой своих соплеменников и осмелились идти прямо на столицу. Незадолго перед тем такие же толпища кельтов и точно таким же образом наводнили Грецию; опасность была велика, но казалась еще более серьезной, чем была в действительности. Уверенность, что на этот раз гибель Рима неизбежна и что римской земле судьбой предназначено сделаться галльским владением, была так широко распространена в самом Риме среди народа, что даже правительство не сочло для себя унизительным рассеять грубое суеверие черни посредством другого еще более грубого суеверия: в исполнение приговора судьбы оно приказало зарыть на римской площади живыми одного галльского мужчину и одну галльскую женщину. Вместе с тем было приступлено к более серьезным мерам обороны. Из двух консульских армий, состоявших каждая приблизительно из 25 тысяч человек пехоты и 1100 человек конницы, одна находилась в Сардинии под начальством Гая Атилия Регула, а вторая – у Аримина под начальством Луция Эмилия Папа. Обеим было приказано как можно скорее идти в Этрурию, положение которой было наиболее угрожаемым. Кельтам и без того уже пришлось оставить дома войска для защиты отечества от находившихся в союзе с Римом кеноманов и венетов; а теперь и земскому ополчению умбров было приказано спуститься с высот на равнину бойев и наносить неприятелю всевозможный вред на его собственных пашнях. Ополчения этрусков и сабинов должны были занять проходы Апеннин и защищать их по мере сил вплоть до прибытия регулярных войск. В Риме был организован резерв из 50 тысяч человек; по всей Италии, смотревшей в этом случае на Рим как на своего передового бойца, была произведена перепись всех годных для военной службы людей и собирались запасы продовольствия и военные снаряды. Однако для всего этого требовалось время; римляне были застигнуты врасплох, и по меньшей мере Этрурию уже нельзя было спасти. Кельты нашли апеннинские проходы слабо защищенными и стали беспрепятственно опустошать богатые равнины Тускской области, уже давно не видавшие никакого неприятеля. Они уже стояли подле Клузия, в трех днях пути от Рима, когда армия, шедшая из-под Аримина под начальством консула Папа, появилась у них во фланге, в то время как вслед за галлами шло этрусское ополчение, собравшееся у них в тылу после их перехода через Апеннины. Однажды вечером, после того как обе армии уже расположились лагерем и зажгли бивуачные огни, кельтская пехота внезапно покинула свою позицию и пошла назад по дороге в Фезулы (Fiesole); конница занимала в течение всей ночи форпосты, а утром следующего дня ушла вслед за главными силами. Когда стоявшее лагерем вблизи от неприятеля тускское ополчение заметило, что он отступает, оно вообразило, что толпища начинают разбегаться, и поспешно пустилось за ним в погоню. Именно на это и рассчитывали галлы. Их отдохнувшая и в порядке построившаяся пехота столкнулась на хорошо выбранном поле сражения с измученной и расстроенной от форсированного марша римской милицией. После жаркого боя эта милиция лишилась 6 тысяч человек, а остальная ее часть, вынужденная укрыться на возвышении, также была бы истреблена, если бы не подоспела вовремя консульская армия. Это заставило галлов повернуть назад, на родину. Их хорошо задуманный план – не допустить до соединения обе римские армии и уничтожить более слабую из них – удался только наполовину; теперь они сочли за самое благоразумное прежде всего укрыть в безопасном месте свою значительную добычу. Отыскивая самый удобный путь, они перешли из области Кьюзи, где до того времени стояли, на ровное побережье и стали подвигаться вперед вдоль морского берега, когда неожиданно встретили на дороге преграду. То были сардинские легионы, высадившиеся подле Пизы; так как они пришли слишком поздно, для того чтобы загородить проходы Апеннин, они медленно двинулись вдоль морского берега по той же дороге, по которой шли галлы, только в противоположном направлении. Они встретились с неприятелем под Теламоном (близ устьев Омброны). В то время как римская пехота шла сомкнутым строем по большой дороге, римская конница под предводительством самого консула Гая Атилия Регула направилась в сторону, для того чтобы напасть на галлов с фланга и как можно скорее известить о своем прибытии другую римскую армию, находившуюся под командой Папа. Завязалась горячая кавалерийская схватка, в которой сам Регул пал вместе со многими храбрыми римлянами. Но он недаром пожертвовал своею жизнью: его цель была достигнута. Пап узнал о происходившей битве и сообразил, в чем дело; он немедленно построил свои войска в боевом порядке, и римские легионы напали с двух сторон на кельтскую армию. Она мужественно вступила в эту двойную битву: трансальпийцы и инсубры сражались с войсками Папа, а альпийские тауриски и бойи – с сардинской пехотой; кавалерийское сражение развернулось само по себе на фланге. Силы противников были почти равны, а отчаянное положение галлов принуждало их к самому упорному сопротивлению. Но трансальпийцы, привыкшие лишь к рукопашным схваткам, стали отступать перед римскими стрельцами, а лучшая закалка оружия у римлян давала им преимущество над галлами; наконец фланговая атака победоносной римской конницы решила исход сражения. Кельтские всадники ускакали, но кельтская пехота не могла спастись бегством, так как была притиснута к морю тремя римскими армиями. 10 тысяч кельтов сдались в плен вместе с царем Конколитаном; 40 тысяч легли на поле сражения; Анерэст и его свита сами себя лишили жизни по обычаю кельтов. Победа была полная, и римляне твердо решили сделать впредь невозможными такие нашествия, окончательно покорив тех кельтов, которые жили по сю сторону Альп. В следующем году (530) [224 г.] без сопротивления покорились бойи вместе с лингонами, а еще через год (531) [223 г.] – анары, в результате чего во власть римлян перешла вся низменность вплоть до берегов По. Завоевание северных берегов этой реки потребовало более серьезной борьбы. Гай Фламиний переправил через По (531) [223 г.] на вновь приобретенной территории анаров (неподалеку от Пиаченцы); но при переправе через реку, и в особенности во время попытки утвердиться на другом берегу, он понес такие тяжелые потери и, имея у себя в тылу реку, очутился в таком опасном положении, что просил у неприятеля разрешения на свободное отступление, на что инсубры безрассудно согласились. Но едва успел он спастись, как он соединился на севере с кеноманами и из их области вторично вторгся в землю инсубров. Инсубры слишком поздно поняли суть дела; они вынесли из храма своей богини золотые знамена, называвшиеся у них «неподвижными», и со всеми своими военными силами числом в 50 тысяч человек предложили римлянам битву. Эти последние находились в опасном положении: они стояли спиной к реке (быть может, Oglio), от отечества их отделяли неприятельские владения, и им приходилось полагаться на ненадежную дружбу кеноманов во всем, что касалось содействия в борьбе и обеспечения отступления. Однако не представлялось никакого иного выбора. Сражавшиеся в римских рядах галлы были переведены на левый берег реки; на правом берегу напротив инсубров были поставлены легионы, а мосты было приказано уничтожить, для того чтобы на римлян не могли напасть по крайней мере с тыла их ненадежные союзники. Река, конечно, отрезывала отступление, и обратный путь на родину лежал сквозь ряды неприятельской армии. Но превосходство римского оружия и римской дисциплины одержало победу, и римская армия пробилась сквозь неприятельские ряды; и на этот раз римская тактика исправила ошибку римской стратегии. Победа была одержана солдатами и офицерами, а не главнокомандующими, которые удостоились почестей триумфа только по милости народа и наперекор справедливому решению сената. Инсубры были готовы заключить мир; но Рим потребовал безусловной покорности, хотя его успехи еще не давали на это полного права. Инсубры попытались сопротивляться при содействии своих северных соплеменников; с набранными среди этих соплеменников 30 тысяч наемников и со своим собственным ополчением они выступили в следующем (532) [222 г.] году навстречу обеим консульским армиям, снова вторгшимся в их владения из области кеноманов. Произошло несколько горячих схваток; во время диверсии, предпринятой инсубрами против римской крепости Кластидии (Casteggio, ниже Павии) на правом берегу По, галльский царь Вирдумар пал от руки консула Марка Марцелла. А после одного сражения, которое уже было наполовину выиграно кельтами, но кончилось в пользу римлян, консул Гней Сципион взял приступом главный город инсубров Медиолан; эта потеря вместе с потерей города Кома положила конец сопротивлению инсубров. Этим была одержана окончательная победа над италийскими кельтами. Как до этого в войне с пиратами римляне доказали эллинам всю разницу между римским морским владычеством и эллинским, так и теперь они блестящим образом показали, что Рим умеет защищать ворота Италии от грабежей на суше иначе, чем Македония защищала ворота Греции, и что, несмотря на внутренние раздоры, Италия осталась в борьбе с национальным врагом столь же единой, сколь разрозненной была Греция. Римляне уже достигли альпийской границы, поскольку вся равнина вдоль течения По находилась в их владении или принадлежала зависимым от них союзникам, т. е. кеноманам и венетам; однако нужно было время, чтобы извлечь из этой победы все последствия и чтобы романизировать этот край. При этом пришлось действовать не повсюду на один и тот же манер. В гористой северо-западной части Италии и в отдельных районах между Альпами и По было оставлено прежнее население; многочисленные так называемые войны, которые велись преимущественно с лигурами (первый раз в 516 г.) [238 г.], походили, кажется, более на охоту на невольников, и хотя некоторые округа и долины покорились римлянам, все же римское владычество оставалось чисто номинальным. Также и экспедиция в Истрию (533) [221 г.], кажется, была предпринята лишь с целью уничтожить последнее прибежище пиратов Адриатического моря и проложить вдоль берегов сухопутные пути сообщения между странами, приобретенными в Италии, и теми, которые были приобретены на противоположных берегах. Напротив того, кельты, жившие к югу от По, были осуждены на неминуемую гибель, потому что при слабой внутренней связи, соединявшей кельтскую нацию, ни один из северных кельтских округов не защищал своих италийских соплеменников, иначе как за деньги, а римляне считали этих последних не только своими национальными врагами, но и похитителями своего наследственного достояния. В результате предпринятого в широком масштабе разделения пахотной земли в 522 г. [232 г.] вся страна между Анконой и Аримином покрылась римскими колонистами, которые селились там в местечках и в деревнях без всякой общинной организации. Римляне пошли еще далее этим же путем, и для них не составило никакого труда совершенно вытеснить и истребить кельтов, которые были полуварварским народом, занимались хлебопашеством лишь в качестве побочного промысла и не обносили своих городов стенами. Большое северное шоссе, проложенное через Отриколи в Нарни, вероятно, еще лет за восемьдесят перед тем и потом продолженное (514) [240 г.] до вновь построенной крепости Сполетия, было в 534 г. [220 г.] еще продолжено под именем Фламиниевой дороги через вновь основанное местечко Forum Flaminii (подле Foligno), через фурлонское горное ущелье до морского берега и затем вдоль берега от Фанума (Fano) до Аримина; это была первая искусственная дорога, шедшая через Апеннины и соединявшая берега двух италийских морей. Правительство усердно старалось покрывать вновь приобретенные плодородные страны римскими поселениями. Для прикрытия переправы через По уже была построена на правом берегу этой реки сильная крепость Плаценция (Piacenza); недалеко от этой последней была основана на левом берегу Кремона, а далее на отнятой у бойев территории уже значительно подвинулось вперед сооружение городских стен Мутины (Modena); уже снова готовилась раздача новых земельных участков и предполагалась дальнейшая прокладка шоссе, как вдруг одно неожиданное событие помешало римлянам воспользоваться плодами своих побед.
ГЛАВА IV
ГАМИЛЬКАР И ГАННИБАЛ.
Договор, заключенный в 513 г. [241 г.] с Римом, доставил карфагенянам мир, но они купили его дорогой ценой. Что дань, собиравшаяся с большей части Сицилии, стала теперь поступать в неприятельскую казну, а не в карфагенскую, было самой ничтожной из потерь. Гораздо ощутительнее было то, что пришлось отказаться не только от надежды захватить в свои руки все торговые пути из восточной части Средиземного моря в западную, что было, по-видимому, так близко, но и от прежней торгово-политической системы. Юго-западный бассейн Средиземного моря, до той поры находившийся в исключительном обладании карфагенян, стал со времени утраты Сицилии открытым для всех наций морским путем; торговля Италии сделалось совершенно независимой от финикийской. Миролюбивый сидонский народ, пожалуй, мог бы примириться и с таким положением. Ему уже не в первый раз приходилось выносить такие тяжелые удары: он уже был вынужден поделиться с массалиотами, этрусками и сицилийскими греками тем, чем прежде владел один; да и того, что еще оставалось в его власти – Африки, Испании, ворот Атлантического моря, – было достаточно, чтобы обеспечить ему и могущество и благосостояние. Но кто же мог бы поручиться за то, что по крайней мере это у него останется? О том, что требовал Регул и как он был близок к своей цели, мог забыть только тот, кто не хотел этого помнить; и если бы Рим снова предпринял из Лилибея такую же экспедицию, какая с таким успехом была предпринята им из Италии, то Карфаген мог бы спастись только благодаря какой-нибудь счастливой случайности. Правда, Карфаген наслаждался в то время миром, но в ратификации мирного договора едва не было отказано, и всем было известно, как в Риме отнеслось к этому договору общественное мнение. Рим, быть может, еще не помышлял в то время о завоевании Африки и еще довольствовался Италией; но уже то было плохо, что существование карфагенского государства зависело от умеренности римских желаний, и разве кто-нибудь мог бы поручиться, что именно требования италийской политики не заставят римлян желать если не покорения, то во всяком случае истребления их африканских соседей? Короче говоря, Карфагену следовало бы рассматривать мирный договор 513 г. [241 г.] как перемирие и воспользоваться этим перемирием, для того, чтобы приготовиться к неизбежному возобновлению войны; ему следовало это сделать не для того, чтобы отомстить за понесенное поражение, и не для того, чтобы вернуть утраченное, а для того, чтобы сделать самое свое существование независимым от соизволения национального врага.
Однако в тех случаях, когда более слабому государству предстоит неизбежная, но неизвестно, в какое именно время грозящая вспыхнуть война за существование, люди благоразумные, энергичные и преданные своему отечеству могли бы без промедления приготовиться к этой войне и предпринять ее в самую удобную минуту, прикрыв таким образом политическую оборону стратегическим нападением. Но они обыкновенно встречают противодействие со стороны тех ленивых и трусливых рабов богатства, одряхлевших старцев и легкомысленных людей, которые желают только выиграть время, которые думают только о том, как прожить и умереть спокойно, и которые стараются во что бы то ни стало отсрочить минуту решительной борьбы. Точно так же и в Карфагене существовали партия мира и партия войны, которые естественным образом примкнули к политическим противоречиям, уже ранее существовавшим между консерваторами и реформистами. Первая из этих партий находила для себя опору в правительственных властях, в совете старшин и в корпорации ста, во главе которой стоял Ганнон, прозванный Великим; вторая партия опиралась на вожаков народной массы, главным образом на пользовавшегося большим уважением Гасдрубала и на офицеров сицилийской армии; хотя значительные успехи, достигнутые этой армией под предводительством Гамилькара, и остались бесплодными, они все-таки показали патриотам тот путь, которым можно было спастись от неминуемой опасности. Между этими двумя партиями велась горячая борьба, вероятно, еще задолго до того времени, когда вспыхнула война в Ливии. Как возникла эта война, уже было рассказано ранее. Правительственная партия вызвала мятеж своим неумением управлять, которое сделало бесполезными все меры предосторожности, принятые сицилийскими офицерами; этот мятеж она превратила в революцию своей бесчеловечной системой управления, и наконец своей военной бездарностью и в особенности бездарностью своего вождя, губителя армии, Ганнона она поставила государство на шаг от гибели; тогда крайняя опасность заставила правительственную партию обратиться к герою Эйркты Гамилькару Барке с просьбой спасти ее от последствий ее ошибок и пагубных заблуждений. Он принял главное начальство и был так благороден, что не отказался от него даже тогда, когда ему назначили в товарищи Ганнона; даже после того, как доведенная до ожесточения армия потребовала удаления Ганнона, Гамилькар в ответ на смиренные мольбы правительства вторично уступил Ганнону долю участия в главном командовании; затем благодаря своему влиянию на мятежников, благодаря своему уменью обращаться с нумидийскими шейхами и своим гениальным дарованиям организатора и полководца он, невзирая ни на врагов, ни на сотоварищей, совершенно подавил мятеж в неимоверно короткое время и привел взбунтовавшихся африканцев к повиновению (в конце 517 г.) [237 г.]. Партия патриотов молчала во время войны, но тем громче заговорила она после ее окончания. С одной стороны, эта катастрофа ясно обнаружила нравственную испорченность и пагубное влияние властвовавшей в Карфагене олигархии – обнаружила ее неспособность, ее политику клики и ее расположение к римлянам; с другой стороны, захват Сардинии римлянами и угрожающее положение, которое заняли тогда Рим по отношению к Карфагену, ясно доказывали всякому, даже простому смертному, что над Карфагеном постоянно висела, как дамоклов меч, опасность войны с римлянами и что, если бы эта война вспыхнула при тогдашнем положении дел, она неизбежно привела бы к уничтожению финикийского владычества в Ливии. В Карфагене, вероятно, было в то время немало людей, которые, разуверившись в будущности своего отечества, советовали переселиться на острова Атлантического океана, и кто же был вправе их за это порицать? Но более благородные сердца неспособны помышлять о своем собственном спасении помимо своего народа, а возвышенные натуры одарены привилегией черпать бодрость именно в том, что доводит до отчаяния простых смертных. Новые мирные условия были приняты в том виде, в каком они были продиктованы римлянами; не оставалось ничего другого, как им подчиниться и прибавить новую причину ненависти к старой, тщательно копить и сберегать этот последний капитал оскорбленной нации. Затем приступили к политической реформе. 193193
Об этих событиях до нас дошли не только неполные, но и односторонние сведения, так как карфагенская мирная партия естественно придавала им такую же окраску, какую им придавали и римские летописцы. Однако даже в дошедших до нас отрывочных и туманных повествованиях (самые важные из них: Фабий у Полибия, 3, 8; Аппиан, Hisp., 4 и Диодор, 25, стр. 567) с достаточной ясностью обрисованы взаимные отношения партий. А что касается тех площадных оскорблений, которыми старались запятнать «революционную лигу» ἑταιρεία τῶν πονηροτάτων α᾿νυρωπων ее противники, то у Нетопа (Ham., 37) мы имеем такие образцы их, подобные которым трудно найти, но все же не невозможно.
[Закрыть]В неисправимости правительственной партии уже достаточно убедились, а что правители не забыли старой вражды и не стали благоразумнее даже во время последней войны, подтверждается, например, граничившим с наивностью бесстыдством, с которым они возбудили процесс против Гамилькара как виновника мятежа наемников, потому что он обещал своим сицилийским солдатам уплатить деньги, не будучи на то уполномочен правительством. Если бы клуб офицеров и народных вождей захотел низвергнуть это гнилое правительство, он едва ли встретил бы серьезные к тому препятствия в самом Карфагене, но тем серьезные были бы препятствия со стороны Рима, с которым карфагенские правители находились в близких сношениях, почти доходивших до измены отечеству. Ко всем другим трудностям положения присоединилась еще та, что, создавая средства для спасения отечества, нужно было скрывать их и от глаз римлян и от глаз собственного, приверженного к Риму правительства. Поэтому государственное устройство было оставлено в прежнем виде, и правительственной партии не помешали по-прежнему пользоваться ее привилегиями и общественным достоянием. Было только предложено и утверждено, чтобы из двух главнокомандующих, стоявших во главе карфагенской армии перед окончанием ливийской войны, Ганнон был отозван, а Гамилькар назначен главнокомандующим всей Африки на неопределенное время и с таким условием, чтобы его официальное положение было независимо от правительственной коллегии и только народное собрание было вправе отозвать его или привлечь к ответственности 194194
Барки заключали самые важные государственные договоры, и ратификация этих договоров высшими властями была простой формальностью (Полибий, 3, 21); Рим обращался со своими протестами к ним и к сенату (Полибий, 3, 15). Положение, которое занимали Барки в Карфагене, имеет большое сходство с тем, которое занимали принцы Оранские по отношению к генеральным штатам.
[Закрыть]; противники Гамилькара называли такие полномочия антиконституционной монархической властью, а Катон – диктатурой. Даже выбор преемника Гамилькару был предоставлен не столичным высшим властям, а армии, т. е. тем карфагенянам, которые служили в армии в качестве герузиастов или офицеров и которые даже в договорах упоминались наряду с главнокомандующим; само собою разумеется, что право утверждать такой выбор было оставлено за народным собранием. Было ли это захватом власти или нет, во всяком случае это ясно доказывает, что партия войны считала армию своим удельным владением и распоряжалась ею сообразно с этим убеждением. Задача, за которую взялся Гамилькар, не казалась особенно трудной. Войны с пограничными нумидийскими племенами никогда не прекращались; лишь незадолго до того времени был занят карфагенянами внутри страны «стовратный город» Февест (Тебесса). Выпавшее на долю нового главнокомандующего продолжение этих пограничных войн не имело само по себе такого большого значения, чтобы карфагенское правительство стало возражать против решения, принятого на этот счет народным собранием, а римляне, быть может, еще не сознавали, к каким последствиям может привести это решение.
Таким образом, во главе армии стал человек, доказавший во время войны с Сицилией и в Ливии, что только он, а не кто-либо другой, предназначен судьбой быть спасителем своего отечества. Величественная борьба человека с судьбой едва ли когда-либо была более величественной. Армия должна была спасти государство, но какова же была эта армия? Карфагенское гражданское ополчение плохо дралось под предводительством Гамилькара во время войны в Ливии; но Гамилькару было хорошо известно, что одно дело вывести на бой купцов и фабрикантов города, доведенного до крайней опасности, и совсем иное – превратить их в солдат. Партия карфагенских патриотов поставляла ему превосходных офицеров, но эти офицеры, естественно, были почти исключительно представителями образованных классов; гражданской милиции у него вовсе не было, а было в лучшем случае несколько эскадронов ливийско-финикийской конницы. Нужно было создать армию из набиравшихся в принудительном порядке ливийских рекрутов и наемников; такому полководцу, как Гамилькар, эта задача была по силам, однако только при том условии, что он будет в состоянии аккуратно и щедро уплачивать жалованье. Но еще во время войны в Сицилии он узнал по собственному опыту, что карфагенские государственные доходы тратятся в самом Карфагене на гораздо более неотложные нужды, чем на содержание сражающейся армии. Поэтому война должны была питать сама себя, и нужно было сделать в больших размерах то же самое, что уже было испробовано в малом виде на Монте-Пеллегрино. Но и этого было еще мало. Гамилькар был не только полководцем, но и вождем политической партии; он был вынужден искать в гражданстве опоры против непримиримой правительственной партии, которая жадно и терпеливо выжидала удобного случая, чтобы его низвергнуть, и хотя вожди этого гражданства были нравственно чисты и благородны, зато народная масса была глубоко развращена и приучена пагубною системою подкупов ничего не делать даром. Конечно и она минутами подчинялась требованиям необходимости или увлекалась энтузиазмом, как это случается повсюду, даже в среде самых продажных корпораций. Но, чтобы найти в карфагенской общине надежную поддержку для своего плана, который мог быть приведен в исполнение в лучшем случае лишь по прошествии нескольких лет, Гамилькару приходилось постоянно присылать своим карфагенским друзьям деньги, чтобы доставить им возможность поддерживать среди черни хорошее расположение духа. Таким образом, Гамилькар был вынужден вымаливать или покупать у равнодушной и продажной толпы позволение спасти ее; он был вынужден смириться и молчать перед высокомерием тех людей, которые были ненавистны его народу и которых он всегда побеждал; он был вынужден скрывать и свои планы и свое презрение от тех изменников отечеству, которые назывались правителями его родного города; этот великий человек, находивший поддержку лишь в немногих сочувствовавших ему друзьях, был вынужден бороться и с внешними врагами и с внутренними, рассчитывая на нерешительность то тех, то других и действуя наперекор обоим. Все это он делал только для того, чтобы добыть средства, деньги и солдат для борьбы со страной, до которой было бы трудно добраться, даже если бы его армия была готова к бою, и которую, по-видимому, едва ли можно было осилить. Он был еще молод; ему было с небольшим тридцать лет; но когда он готовился к выступлению в поход, он как будто предчувствовал, что ему не суждено достигнуть цели его усилий и что он увидит обетованную землю только издали. Покидая Карфаген, он заставил своего девятилетнего сына Ганнибала поклясться перед алтарем всевышнего бога в вечной ненависти к римскому имени и воспитал как Ганнибала, так и своих младших сыновей Гасдрубала и Магона (которых называли «львиным отродьем») в походном лагере как наследников своих замыслов, своего гения и своей ненависти.








