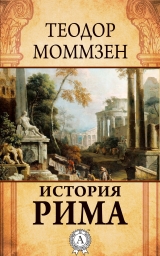
Текст книги "История Рима. Книга первая"
Автор книги: Теодор Моммзен
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 68 страниц)
Наконец наступила зима. Филипп снова воспользовался этим временем года, для того чтобы добиться не слишком обременительных мирных условий. На конференцию, происходившую в Никее у Малийского залива, царь явился лично и постарался прийти с Фламинином к соглашению: он гордо и искусно отклонил дерзкие требования мелких владетелей, стремясь добиться сносных условий от римлян, к которым относился с подчеркнутым уважением как к единственным противникам, равным ему по достоинству. Фламинин был достаточно образован, для того чтобы оценить все, что было для него лестного в вежливости побежденного противника к нему самому и в высокомерном обхождении Филиппа с римскими союзниками, которых римляне научились презирать не менее царя; но полномочия Фламинина не простирались настолько, чтобы он мог исполнить желание царя; он согласился на двухмесячное перемирие в вознаграждение за уступку Фокиды и Локриды, а относительно главных пунктов предоставил Филиппу обратиться к римскому правительству. Римские сенаторы уже давно сошлись в убеждении, что от Македонии следует требовать уступки всех ее внешних владений; поэтому, когда в Рим прибыли послы Филиппа, им был предложен только один вопрос: уполномочены ли они отказаться от всей Греции и в особенности от Коринфа, Халкиды и Деметриады; а когда они ответили на это отрицательно, то переговоры были немедленно прерваны и было решено продолжать войну с неослабевающей энергией. При содействии народных трибунов сенаторам удалось отклонить связанную со столь большими неудобствами перемену главнокомандующего и продолжить срок службы Фламинина; ему были посланы значительные подкрепления, а двум прежним главнокомандующим, Публию Гальбе и Публию Виллию, было приказано состоять в его распоряжении. Филипп также решил еще раз попытать счастья на поле сражения. Чтобы обеспечить себя со стороны Греции, где против него восстали все государства, кроме акарнанцев и беотийцев, он довел коринфский гарнизон до 6 тысяч человек, а сам, напрягая последние силы истощенной Македонии и набирая в фалангу мальчиков и стариков, составил таким образом армию, в которой было 26 тысяч человек, в том числе 16 тысяч македонских фалангитов. Так началась четвертая кампания 557 г. [197 г.]. Фламинин отправил часть своего флота против акарнанцев, которые были осаждены в Левкадии; в собственно Греции он хитростью завладел главным городом Беотии Фивами и этим принудил беотийцев, хотя бы номинально, примкнуть к союзу против Македонии. Довольствуясь тем, что ему удалось прервать сообщение между Коринфом и Халкидой, он двинулся на север, где только и можно было довести войну до конца. Чтобы устранить серьезные затруднения, с которыми было сопряжено снабжение армии продовольствием в неприятельской и большей частью пустынной стране и которые уже не раз препятствовали продолжению военных действий, римскому флоту было приказано сопровождать армию вдоль берегов и подвозить ей съестные припасы, доставлявшиеся из Африки, Сицилии и Сардинии. Впрочем, развязка наступила ранее, чем мог предполагать Фламинин. Нетерпеливый и самонадеянный Филипп не стал выжидать приближения неприятеля к македонской границе; он собрал свою армию подле Диона, двинул ее через темпейские теснины в Фессалию и встретился в окрестностях Скотуссы с шедшей навстречу неприятельской армией. Обе армии, македонская и римская, из которых последняя была усилена вспомогательными войсками аполлониатов и афаманов, присланными от Набиса критянами и особенно многочисленными отрядами этолийцев, были почти равны по своему численному составу; в каждой из них насчитывалось до 26 тысяч человек; но у римлян была более многочисленная конница, чем у македонян. Перед Скотуссой на нагорной равнине Карадага в один пасмурный дождливый день римский авангард неожиданно столкнулся с неприятельским авангардом, который занимал возвышавшийся между двумя лагерями высокий и крутой холм, называвшийся Киноскефалами. Римляне были сначала принуждены отступить на равнину; но, получив из лагеря в подкрепление легкие войска и превосходный отряд этолийской конницы, они в свою очередь оттеснили македонский авангард и заставили его отступить за гору. Но там македонян поддержали вся их конница и б ольшая часть легкой пехоты; неосторожно зашедших слишком далеко вперед римлян они преследовали почти до самого лагеря, так что те понесли большие потери и обратились бы в настоящее бегство, если бы этолийская конница не поддерживала на равнине бой до той минуты, когда Фламинин прибыл с наскоро построившимися легионами. Царь уступил желанию своих победоносных войск, неотступно требовавших продолжения битвы, и спешно двинул свои тяжеловооруженные войска в бой, которого не ожидали в этот день ни сами главнокомандующие, ни их солдаты. Ему важно было занять холм, на котором в то время вовсе не было войск. Правое крыло фаланги прибыло туда под предводительством самого царя достаточно рано, чтобы успеть беспрепятственно построиться на возвышении в боевом порядке; но левое крыло было еще позади, когда легкие македонские войска, обращенные в бегство легионами, устремились вверх на холм. Филипп быстро отодвинул бегущих мимо фаланги в центр своей армии и, не дожидаясь прибытия на левый фланг Никанора с другой медленно приближавшейся половиной фаланги, приказал стоявшей на правом фланге фаланге спуститься с холма с опущенными копьями на легионы и в то же время вновь построившейся легкой пехоте обойти легионы и напасть на них с фланга. Атака, произведенная фалангой с удобного места, опрокинула римскую пехоту, и левое крыло римлян было совершенно разбито. На другом фланге Никанор, увидев, что царь идет в атаку, приказал своей половине фаланги спешить вслед за ним; в результате она пришла в расстройство, и, в то время как ее передние ряды поспешно сбегали с горы вслед за победоносным правым крылом, еще более прежнего приходя в расстройство вследствие неровностей местности, ее задние ряды только взбирались на гору. При таких обстоятельствах правое крыло римлян легко справилось с левым неприятельским крылом; одних слонов, стоявших на этом правом крыле, было достаточно для того, чтобы произвести опустошение среди беспорядочных толп македонян. Пока там происходило страшное кровопролитие, один отважный римский офицер собрал двадцать рот и устремился с ними на победоносное македонское крыло, которое, преследуя римское левое крыло, зашло так далеко вперед, что римское правое оказалось у него в тылу. Фаланга не была в состоянии обороняться против нападения с тыла, которое и решило исход сражения. Так как обе фаланги были приведены в полное расстройство, то неудивительно, что македоняне потеряли 13 тысяч человек частью взятыми в плен, частью убитыми; впрочем, число убитых было более значительно потому, что римским солдатам не был знаком македонский знак сдачи в плен – поднятие вверх копья; потери победителей были незначительны. Филипп спасся бегством в Лариссу, сжег все свои бумаги, чтобы никого не компрометировать, очистил Фессалию и возвратился на родину. Одновременно с этим решительным поражением македоняне терпели неудачи всюду, где еще оставались их гарнизоны; родосские наемники разбили стоявший в Карии корпус и принудили его запереться в Стратоникее; стоявший в Коринфе гарнизон был разбит Никостратом и его ахейцами и понес большие потери; акарнанская Левкадия была взята приступом после геройского сопротивления. Филипп был окончательно побежден; его последние союзники, акарнанцы, покорились римлянам, когда узнали о битве при Киноскефалах.
Установление мирных условий вполне зависело от произвола римлян; они воспользовались своей властью, не злоупотребляя ею. Можно было совершенно уничтожить бывшее царство Александра; такое пожелание было настойчиво высказано этолийцами на конференции союзников. Но разве тогда не была бы разрушена преграда, защищавшая эллинскую цивилизацию от фракийцев и кельтов? Разве во время только что окончившейся войны не был совершенно разрушен фракийцами цветущий город фракийского Херсонеса Лисимахия? Это было серьезным предостережением для будущего. Фламинин, близко знакомый с отвратительными распрями греческих государств, не мог согласиться на то, чтобы римская великая держава взяла на себя роль палача для удовлетворения гнева этолийского союза, – даже если бы его эллинские симпатии не говорили в пользу тонкого и рыцарственного царя, а его национальная гордость не была оскорблена хвастовством этолийцев, называвших себя «победителями при Киноскефалах». Он отвечал этолийцам, что не в обычаях римлян уничтожать побежденных, но что этолийцы – полные хозяева своих действий и им никто не мешает покончить с Македонией, если у них на это хватит сил. С царем римляне обходились самым вежливым образом, а когда Филипп объявил готовность подчиниться ранее предъявленным ему требованиям, то Фламинин согласился заключить продолжительное перемирие, с тем чтобы ему была уплачена некоторая сумма денег и выданы заложники, в числе которых должен был находиться и сын Филиппа Димитрий; заключение этого перемирия было крайне необходимо для Филиппа, чтобы изгнать из Македонии дарданов.
Окончательное приведение в порядок запутанных греческих дел было возложено сенатом на комиссию из десяти лиц, головою и душою которой был все тот же Фламинин. Она продиктовала Филиппу такие же условия, какие были продиктованы раньше Карфагену. Царь лишился всех своих внешних владений в Малой Азии, Фракии, Греции и на островах Эгейского моря; но собственно Македония осталась нетронутой, за исключением небольших пограничных земельных участков и округа Орестов, который был объявлен вольным; такое исключение было крайне нежелательно для Филиппа, но римляне были принуждены это потребовать, потому что ввиду мстительности Филиппа нельзя было оставлять на его произвол отложившихся от него прежних подданных. Сверх того, Македония обязалась не заключать никаких внешних союзов без ведома Рима, не отправлять никаких гарнизонов за пределы своих владений, не предпринимать никаких войн вне Македонии с цивилизованными государствами и вообще с римскими союзниками, содержать не более пятитысячной армии, вовсе не содержать слонов и довольствоваться пятью палубными кораблями, а остальные отдать римлянам. Наконец Филипп вступил с римлянами в союз, который обязывал его доставлять по требованию римского правительства вспомогательные войска, – и действительно, вслед затем македонские войска стали сражаться вместе с легионами. Кроме того, Филипп уплатил контрибуцию в 1000 талантов (1700 тыс. талеров). После того как Македония было доведена до совершенного политического ничтожества и ей была уделена только такая доля ее прежнего могущества, какая была необходима, римляне занялись устройством тех владений, которые были им уступлены царем. Как раз в то время они только что узнали на опыте в Испании, что приобретение заморских провинций представляет весьма сомнительные выгоды, и так как они начали эту войну вовсе не с целью приобрести новые владения, то они ничего не взяли из военной добычи и этим заставили своих союзников быть умеренными в их требованиях. Они решили объявить свободными все греческие государства, до тех пор находившиеся под властью Филиппа, и Фламинину было поручено прочесть составленный в этом смысле декрет перед собравшимися на истмийских играх греками (558) [196 г.], Серьезные люди, конечно, могли бы спросить: разве свобода – такое благо, которое можно дарить, и разве она имеет какую-нибудь цену без единства и единения всей нации? Тем не менее радость была велика и искренна, как и намерение сената даровать свободу 204204
До нас дошли золотые статиры (монеты) с головой Фламинина и надписью: F. Quincti[us], чеканено в управление освободителями эллинов в Греции. Характерна вежливость, побудившая употребить в этом случае латинский язык.
[Закрыть]. Исключение составили только иллирийские земли к востоку от Эпидамна; они достались владетелю Скодры Плеврату, вследствие чего это маленькое государство, наказанное в предшествовавшем поколении римлянами за разбои на суше и на море, снова сделалось одним из самых могущественных в тех краях; кроме того, были исключены некоторые округа западной Фессалии, которые были заняты войсками Аминандра и оставлены в его власти, а также три острова – Парос, Скирос и Имброс, – отданные афинянам в награду за все вынесенные ими бесчисленные беды и за еще более многочисленные благодарственные послания и всякого рода проявления учтивости. Что родосцы сохранили свои владения в Карии и что Эгина была оставлена во власти пергамцев, понятно само собой. Другие союзники были награждены лишь косвенно вступлением вновь освободившихся городов в различные союзы. Всего лучше обошелся Рим с ахейцами, хотя они и позже всех присоединились к коалиции против Филиппа; причиной этого, по-видимому, было то вполне понятное соображение, что это союзное государство было наиболее организованным и наиболее достойным уважения из всех греческих государств. В ахейский союз были включены все прежние владения Филиппа в Пелопоннесе и на Коринфском перешейке и, стало быть, сам Коринф. С этолийцами же Рим не очень церемонился; они были принуждены принять в свою симмахию фокидские и локридские города, но их намерение включить туда же Акарнанию и Фессалию было частью решительно отклонено, частью отложено на неопределенное время, а из фессалийских городов были организованы четыре небольших самостоятельных союза. Родосскому союзу городов было на пользу освобождение островов Фасоса и Лемноса и фракийских и малоазиатских городов. Труднее было привести в порядок внутренние дела Греции, т. е. урегулировать взаимные отношения греческих государств и положение каждого из этих государств в отдельности. Прежде всего было необходимо положить конец войне между спартанцами и ахейцами, которая не прекращалась с 550 г. [204 г.] и в которой римляне естественно приняли на себя роль посредников. Но неоднократные попытки склонить Набиса к уступчивости и главным образом к возврату отданного ему Филиппом ахейского союзного города Аргоса остались безуспешными; этот своевольный маленький хищник, рассчитывавший на озлобление этолийцев против римлян и на вторжение Антиоха в Европу, упорно отказывался от уступки Аргоса; тогда Фламинину не осталось ничего другого, как объявить ему на собравшемся в Коринфе совете от имени всех эллинов войну и напасть на Пелопоннес (559) [195 г.] с флотом и с армией из римлян и союзников, в состав которой также входили присланные Филиппом вспомогательные войска и отряд лакедемонских эмигрантов, находившийся под начальством законного спартанского царя Агезиполя. С целью немедленно одолеть противника громадным численным перевесом военных сил римляне двинули против него не менее 50 тысяч человек и, минуя все другие города, приступили прямо к осаде столицы; тем не менее они не достигли желаемых результатов. Набис собрал значительную армию до 15 тысяч человек, включая 5 тысяч наемников, и упрочил свое владычество системой террора, предавая смертной казни всех подозрительных ему офицеров и местных жителей. Даже когда он сам после первых успешных действий римской армии и римского флота решился уступить и изъявил согласие принять поставленные Фламинином сравнительно выгодные условия, то предложенный римским главнокомандующим мир был отвергнут «народом», т. е. сбродом тех бандитов, которых Набис поселил в Спарте и которые не без основания опасались, что им придется отвечать перед римлянами за их прошлое, и сверх того, были введены в заблуждение ложными слухами о характере мирных условий и о приближении этолийцев и азиатов; тогда война возобновилась. Дело дошло до битвы под стенами столицы, во время которой римляне пошли на приступ; они уже взобрались на городские стены, когда их принудил отступить пожар, охвативший занятые ими улицы. Но в конце концов это безрассудное сопротивление прекратилось. Спарта сохранила свою независимость; ее не заставили ни принять назад эмигрантов, ни примкнуть к ахейскому союзу; даже существовавшая там монархическая система управления и сам Набис остались неприкосновенными. Зато Набис был принужден отказаться от всех своих внешних владений – от Аргоса, от Мессены, от критских городов и от всего побережья; он обязался не заключать союзов и не вести войн с другими государствами, не содержать никаких других кораблей кроме двух открытых лодок, возвратить всю награбленную добычу, выдать римлянам заложников и уплатить военную контрибуцию. Спартанским эмигрантам были отданы города на берегах Лаконии, и этой новой народной общине, назвавшейся общиной «вольных лаконцев» в противоположность монархически управлявшимся спартанцам, было приказано вступить в ахейский союз. Эмигранты не получили обратно своего имущества, так как вознаграждением за него считалась отведенная им территория; но было постановлено, чтобы жены и дети не удерживались насильно в Спарте. Хотя ахейцы приобрели в результате всего этого кроме Аргоса и «вольных лаконцев», они все-таки остались недовольны; они ожидали устранения страшного и ненавистного Набиса, возвращения эмигрантов и распространения ахейской симмахии на весь Пелопоннес. Однако всякий беспристрастный человек не может не согласиться, что Фламинин уладил эти трудные дела настолько разумно и справедливо, насколько это было возможно там, где сталкивались интересы двух политических партий, предъявлявших неразумные и несправедливые требования. При старой, глубоко укоренившейся вражде между спартанцами и ахейцами включить Спарту в ахейский союз значило бы подчинить Спарту ахейцам, а это было бы и несправедливо и неблагоразумно. Возвращение эмигрантов и полное восстановление режима, упраздненного еще за двадцать лет перед тем, лишь заменили бы одну систему террора другою; принятое Фламинином решение было справедливо именно потому, что оно не удовлетворяло ни одну из двух крайних партий. Наконец он как будто бы достаточно позаботился о том, чтобы спартанцы прекратили разбои на море и на суше и чтобы их система управления, какова бы они ни была, не могла причинять вреда никому кроме них самих. Фламинин, который хорошо знал Набиса и которому, конечно, было небезызвестно, как было бы полезно устранить этого человека, не сделал этого, возможно, потому, что хотел скорее довести дело до конца и не желал омрачать свой блестящий успех новыми осложнениями, конца которым нельзя было бы предвидеть; нет ничего невозможного и в том, что он кроме того надеялся найти в Спарте противовес могуществу ахейского союза в Пелопоннесе. Впрочем, первое предположение касается предмета второстепенной важности, а против второго можно возразить, что римляне едва ли могли дойти до того, чтобы страшиться могущества ахейцев. Таким образом, между мелкими греческими государствами был восстановлен мир хотя бы внешне. Но и внутреннее устройство отдельных общин причинило римскому посреднику немало хлопот. Беотийцы открыто высказывали свои симпатии к Македонии даже после того, как македоняне были совершенно вытеснены из Греции; когда Фламинин разрешил по их просьбе возвратиться их соотечественникам, которые состояли на службе у Филиппа, они выбрали главою беотийского союза самого энергичного из сторонников Македонии, Брахилла, и кроме того всякими способами раздражали Фламинина. Он все выносил с беспримерным терпением; однако преданные римлянам беотийцы хорошо знали, что их ожидает после удаления римлян, поэтому они решили лишить жизни Брахилла, и Фламинин, к которому они сочли своим долгом обратиться за разрешением, не ответил отказом. Поэтому Брахилл был умерщвлен; в отмщение за это беотийцы не удовольствовались преследованием убийц, а стали поодиночке убивать проходивших по их владениям римских солдат и таким образом перебили их до 500. Это наконец вывело Фламинина из терпения, он наложил на беотийцев пеню в один талант за каждого убитого солдата и, так как они не уплатили этих денег, собрал стоявшие поблизости войска и осадил Коронею (558) [196 г.]. Тогда беотийцы стали молить о пощаде, и Фламинин, внявший просьбам ахейцев и афинян, простил виновных, удовольствовавшись уплатой незначительной пени; и после того приверженцы македонян продолжали оставаться в этом маленьком государстве во главе управления, но к их ребяческой оппозиции римляне относились с долготерпением людей, сознающих свое могущество. И в остальной Греции Фламинин ограничился тем, что старался влиять на внутреннее устройство вновь освободившихся общин, насколько это было возможно, без насильственных мер: он предоставлял места в высшем совете и в суде богатым, ставил во главе управления людей, принадлежавших к антимакедонской партии, и вовлекал городские общины в интересы Рима тем, что обращал в общественную городскую собственность все, что по праву завоевания должно было перейти в собственность римлян. Весной 560 г. [194 г.] эта работа была окончена: Фламинин еще раз собрал в Коринфе представителей от всех греческих общин, убеждал их разумно и умеренно пользоваться дарованной им свободой и просил у них единственного вознаграждения для римлян – присылки в тридцатидневный срок тех италийских пленников, которые были проданы в Грецию в рабство во время войны с Ганнибалом. Вслед затем он очистил последние крепости, в которых еще стояли римские гарнизоны, – Деметриаду, Халкиду вместе с зависевшими от нее небольшими фортами на Эвбее и Акрокоринф, – и таким образом опроверг на деле ложное утверждение этолийцев, будто Рим унаследовал от Филиппа оковы Греции; он возвратился в свое отечество со всеми римскими войсками и освобожденными пленниками.
Только при достойной всяческого презрения недобросовестной и вялой сентиментальности можно отрицать то, что римляне вполне серьезно желали освобождения Греции и что грандиозно задуманный план привел к сооружению столь жалкого здания только потому, что эллинская нация дошла до полного нравственного и политического разложения. То, что могущественная нация внезапно даровала полную свободу стране, которую привыкла считать своей первоначальной родиной и святилищем своих духовных и высших стремлений, и, освободив каждую из ее общин от обязанности платить иноземцам дань и содержать иноземные армии, доставила им полную самостоятельность, было немаловажной заслугой; только слабоумие может усматривать в этом образе действий не что иное, как политический расчет. Расчет такого рода не препятствовал римлянам приступить к освобождению Греции, но совершилось оно благодаря тем эллинским симпатиям, которыми именно в то время чрезвычайно сильно увлекался Рим и в особенности сам Фламинин. Если римлян и можно в чем-либо упрекнуть, то именно в том, что всем им и в особенности Фламинину, сумевшему заглушить вполне основательные опасения сената, очарование эллинского имени мешало сознавать все жалкое ничтожество тогдашнего греческого государственного строя, вследствие чего они не изменили прежних порядков в греческих общинах, которые и в своих внутренних делах и в своих сношениях с соседями постоянно увлекались сильными антипатиями и потому не умели ни действовать, ни жить спокойно. При тогдашнем положении дел следовало раз навсегда положить конец этой столь же жалкой, сколь и вредной свободе; слабодушная политика чувств, несмотря на кажущуюся гуманность, причинила гораздо более вреда, чем можно было бы ожидать от самой строгой оккупации. Так, например, в Беотии римлянам пришлось если не поощрить, то допустить политическое убийство, потому что, решившись вывести свои войска из Греции, римляне уже не могли удерживать преданных Риму греков от того самоуправства, которое было в обычаях их родины. Но и сам Рим пострадал от последствий таких полумер. Ему не пришлось бы вести войну с Антиохом, если бы он не сделал политической ошибки, освободив Грецию, а эта война не была бы для него опасной, если бы он не сделал военной ошибки, выведя свои гарнизоны из главных крепостей на европейской границе. У истории есть своя Немезида для всякого заблуждения – и для бессильного стремления к свободе и для неблагоразумного великодушия.








