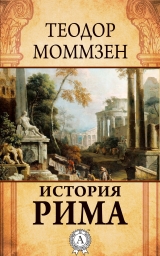
Текст книги "История Рима. Книга первая"
Автор книги: Теодор Моммзен
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 68 страниц)
В собственно Греции – после того как Беотийские города уже поплатились более, чем это требовалось, – оставалось наказать только союзников Персея молоссов. По тайному приказанию сената Павел предал разграблению в один и тот же день семьдесят городских округов в Эпире, а местных жителей в числе 150 тысяч человек продал в рабство. За свое двусмысленное поведение этолийцы лишились Амфиполиса, акарнанцы – Левкадии; напротив того, афиняне, которые не переставали разыгрывать роль описанного Аристофаном нищенствующего поэта, не только получили в подарок Делос и Летнос, но даже не постыдились просить опустошенную местность Галиарта, которая и была им отдана. Таким образом, было кое-что сделано для муз, но еще более оставалось сделать для правосудия. В каждом городе существовала македонская партия, и потому во всей Греции начались процессы по обвинениям в государственной измене. Всякого, кто служил в армии Персея, немедленно казнили; в Рим отправляли всех, кто был скомпрометирован или найденными в бумагах Персея указаниями, или доносами стекавшихся со всех сторон политических противников; по этой части особенно отличились ахеец Калликрат и этолиец Ликиск. Самые именитые патриоты между фессалийцами, этолийцами, акарнанцами, лесбийцами и т. д. были этим способом удалены из своего отечества, такая же участь постигла более тысячи ахейцев, причем главная цель заключалась не в том, чтобы преследовать удаленных людей судом, а в том, чтобы зажать рот ребяческой оппозиции эллинов. Сенат, измученный непрерывными просьбами ахейцев, которые по своему обыкновению были недовольны, что им не дают ответа по вопросу о следствии, наконец объявил, что привезенные в Италию люди будут оставаться там до дальнейших распоряжений. Эти переселенцы были интернированы по провинциальным городам, с ними обходились сносно, но за попытки к бегству наказывали смертью; точно в таком же положении находились привезенные из Македонии прежние должностные лица. Как ни были насильственны эти меры, они все-таки были довольно сносны при тогдашнем положении дел, и рассвирепевшие греки из римской партии были очень недовольны тем, что головы отрубались недостаточно часто. Поэтому Ликиск счел более целесообразным перерезать на собрании совета 500 самых знатных приверженцев этолийской партии патриотов; нуждавшаяся же в этом человеке римская комиссия допустила это и только выразила свое неудовольствие по поводу того, что исполнение этого эллинского местного обычая было возложено на римских солдат. Впрочем, следует полагать, что римляне стали придерживаться системы ссылок в Италию именно для того, чтобы предотвратить подобные ужасы. Так как в собственно Греции не было ни одного государства, которое могло бы равняться по могуществу даже с Родосом или Пергамом, то там и не представлялось надобности кого-либо унижать, а все, что там делалось, имело целью правосудие, конечно понимаемое по-римски, и предотвращение самых жестоких и самых явных проявлений партийной вражды.
Таким образом, все эллинские государства вошли в состав римской клиентелы и все царство Александра Великого досталось римской гражданской общине совершенно так, как если бы Рим унаследовал его от наследников Александра. Цари и послы стали со всех сторон стекаться в Рим с поздравлениями, и на деле оказалось, что нигде нельзя услышать такой низкой лести, как в прихожей, где дожидаются приема цари. Царь Массинисса, не приехавший в Рим только потому, что это было ему решительно запрещено, заявил устами своего сына, что он считает себя только временным владетелем своего царства, которое составляет собственность римлян, и что он всегда будет доволен тем, что они оставят на его долю. В этих словах была по крайней мере правда. А царь Вифинии Прузий, которому предстояло загладить вину своего нейтралитета, получил в этом состязании пальму первенства: когда его привели в сенат, он пал ниц и выразил свое благоговение перед «богами-избавителями». Так как он дошел до такого унижения, говорит Полибий, то ему отвечали вежливо и подарили флот Персея. По крайней мере была удачно выбрана минута для проявления такой лести. Полибий полагает, что с битвы при Пидне начинается всемирное владычество римлян. Действительно, это была последняя битва, в которой Рим имел дело с цивилизованным государством, стоявшим на равной с ним ноге; все позднейшие войны велись или с бунтовщиками или с такими народами, которые не входили в сферу римско-греческой цивилизации, с так называемыми варварами. С тех пор весь цивилизованный мир признавал римский сенат за высшее судилище, которое через посредство своих комиссий разрешало в последней инстанции все споры между царями и народами, а чтобы изучить язык и обычаи этого судилища, в Риме стали подолгу проживать иноземные принцы и молодые люди знатного происхождения. Только великим Митридатом Понтийским была сделана открытая и серьезная попытка освободиться от такого владычества, но она была единственной в своем роде. Вместе с тем битва при Пидне обозначает последний момент, когда сенат еще не отступал от политического принципа, – по мере возможности не приобретать никаких владений и не содержать постоянных армий по ту сторону италийских морей, а держать бесчисленные зависимые государства в покорности, опираясь только на свое политическое преобладание. Поэтому все эти государства не должны были впадать в совершенное бессилие и анархию, как это, однако, случилось в Греции, и не должны были выходить из своего полусвободного положения до состояния полной независимости, как это не без успеха попыталась сделать Македония. Ни одно государство не должно было погибнуть, но и ни одно не должно было усиливаться до того, чтобы держаться без посторонней помощи, поэтому римские дипломаты выказывали не менее, а нередко даже более сочувствия к побежденному врагу, чем к верному союзнику; тому, кто был побежден, они помогали снова стать на ноги, а того, кто сам поднимался на ноги, они старались унизить; это испытали на самих себе этолийцы, Македония после азиатской войны, Родос и Пергам. Впрочем, не только эта роль покровителей скоро сделалась невыносимой и для повелителей и для подчиненных, но и римский протекторат доказал свою полную несостоятельность в этой неблагодарной, непрерывно возобновлявшейся с самого начала сизифовой работе. Зачатки перемены в системе управления и постоянно усиливавшееся нежелание Рима допускать рядом с собой существование хотя бы только небольших самостоятельных государств ясно обнаружились уже после битвы при Пидне в уничтожении македонской монархии. Вмешательство Рима во внутренние дела мелких греческих государств, впадавших вследствие дурного управления в политическую и социальную анархию, становилось все более и более частым и неизбежным; Македония была обезоружена, несмотря на то что для охраны ее северных границ требовались более значительные военные силы, чем те, которые занимали там военные посты; наконец в Рим стали поступать поземельные подати из Македонии и Иллирии – все это было не чем иным, как началом превращения покровительствуемых государств в настоящих подданных Рима.
Если мы в заключение оглянемся на путь, пройденный Римом со времени объединения Италии до раздробления Македонии, то заметим, что римское всемирное владычество вовсе не было результатом гигантского замысла, задуманного и исполненного ненасытною жаждою территориальных приобретений, а было достигнуто римским правительством без предвзятого намерения и даже против его воли. Конечно, первая точка зрения кажется не лишенной некоторого правдоподобия, и Саллюстий не без основания приписывал Митридату мнение, что все войны Рима с различными племенами, гражданствами и царями были вызваны одним и тем же с древних пор укоренившимся влечением – неутолимою жаждою владычества и обогащения; но этот внушенный ненавистью и оправдываемый последующими событиями приговор был без всякого на то основания пущен в ход в качестве исторического факта. Для всякого неповерхностного наблюдателя очевидно, что в течение всего описанного периода времени римское правительство ничего не желало и ничего не добивалось кроме владычества над Италией, что оно только не желало иметь слишком сильных соседей, что оно очень серьезно сопротивлялось вовлечению в сферу римского протектората сначала Африки, потом Греции и наконец Азии, что оно поступало так не из сострадания к побежденным, а из вполне понятного опасения, что самое зерно римского государства будет раздавлено под его внешней оболочкой, и наконец что обстоятельства принуждали его расширять эту сферу или по меньшей мере толкали его на этот путь с непреодолимой силой. Римляне всегда утверждали, что они не придерживались завоевательной политики и всегда вели оборонительные войны – и это не было пустой фразой. Действительно, за исключением только войны из-за обладания Сицилией они вели все большие войны – как с Ганнибалом и Антиохом, так и с Филиппом и Персеем – потому, что были к тому вынуждены или прямым нападением, или каким-нибудь неслыханным нарушением существовавших в то время политических порядков; потому-то эти войны и заставали их обыкновенно врасплох. Если же после побед они не были воздержаны в той мере, в какой этого требовали собственные интересы Италии, удержав, например, в своей власти Испанию, приняв под свою опеку Африку и, что всего важнее, взявшись за полуфантастический план наделить всех греков свободой, то это было серьезным нарушением их италийской политики, и это достаточно очевидно. Но причиной этого были отчасти слепая боязнь Карфагена, отчасти еще гораздо более слепая мечта о свободе эллинов; римляне обнаруживали в эту эпоху мало склонности к завоеваниям, и мы, напротив того, усматриваем в них очень благоразумную боязнь завоеваний. По всему видно, что римская политика не была предначертана одним могучим умом и не передавалась преданиями от одного поколения к другому, а была политикой очень толкового, но несколько ограниченного совещательного собрания, у которого не было достаточной широты замыслов, для того чтобы составлять проекты в духе Цезаря или Наполеона, но у которого было даже слишком много верного инстинкта, для того чтобы оберегать свое собственное государство. Наконец, главной опорой для римского всемирного владычества послужила эволюция государственных систем древности. Древний мир не знал международного равновесия; поэтому каждая достигшая внутреннего объединения нация старалась или покорить своих соседей, как это делали эллинские государства, или обезвредить их, как это делал Рим; но все это, конечно, вело в конце концов к завоеваниям. Египет, едва ли не единственная из древних великих держав, серьезно придерживался системы равновесия; в противоположных стремлениях сходятся между собою Селевк и Антигон, Ганнибал и Сципион. Конечно, прискорбно видеть, как все щедро одаренные природой и высокоразвитые древние нации должны были исчезнуть, для того чтобы обогатить одну из всех, и что они как будто только для того существовали, чтобы содействовать возвеличению Италии и – что то же самое – ее упадку; тем не менее историческая справедливость должна признать, что все это не было результатом военных преимуществ легиона над фалангой, а было неизбежным последствием тех международных отношений, какие существовали в древности; поэтому конечный исход не был плодом прискорбной случайности, а был исполнением приговора судьбы, которого не было возможности предотвратить и с которым, следовательно, необходимо примириться.
ГЛАВА XI
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОДДАННЫЕ.
От того, что у юнкерства была отнята власть, римская община нисколько не утратила своего аристократического характера. Уже ранее было замечено, что на характере плебейской партии с самого начала лежал не менее, а в некоторых отношениях даже более, резкий аристократический отпечаток, чем на характере патрициата; если в среде старинного гражданства и существовало безусловное равенство в правах, то новый строй в самой основе своей исходил из противопоставления привилегированных как в отношении гражданских прав, так и в отношении пользования общественными угодьями сенаторских семей и массы остальных граждан. Поэтому немедленно вслед за устранением юнкерства от власти и вслед за формальным утверждением гражданского равенства образовались новая аристократия и соответствующая ей оппозиция; а ранее мы уже рассказали, как первая как бы слилась с низвергнутым юнкерством, вследствие чего первоначальная деятельность новой партии прогресса сплелась с последними выступлениями старинной сословной оппозиции. Поэтому начало образования этих партий следует отнести к V в. [ок. 350—250 гг.], а свой определенный отпечаток они получили лишь в следующем веке. Однако это внутреннее явление не только было, так сказать, заглушено бряцанием оружия великих войн и побед, но и в процессе своего развития оно ускользает от нашего наблюдения гораздо более, чем все другие явления римской истории. Как ледяной покров незаметно образуется поверх реки и незаметно все более суживает ее, так возникает и новая римская аристократия; и также незаметно выступает против этой аристократии новая партия прогресса подобно скрытому в глубине и медленно снова расширяющемуся течению. Трудно дать одну общую историческую оценку всем отрывочным и самим по себе незначительным следам этих двух противоположных движений, общий исторический итог которых пока еще не представлялся нашим взорам в виде какой-нибудь определенной трагической катастрофы. Но к этой эпохе принадлежат и уничтожение прежней общинной свободы и заложение основ для будущих революций; а описание как того времени, так и вообще развития Рима было бы неполным, если бы нам не удалось наглядно изобразить силу этого ледяного покрова и не дать почувствовать по его страшному треску и грохоту размеров грядущего взрыва.
Римский нобилитет был связан со старинными учреждениями времен патрициата только формально. Само собой понятно, что лица, сложившие с себя какую-либо из высших общественных должностей, издавна пользовались не только большим почетом, но и некоторыми почетными привилегиями. Самая старинная из этих привилегий заключалась в том, что потомкам этих должностных лиц дозволялось выставлять восковые изображения их умерших предков в фамильном зале у той стены, где была написана родословная, и в случае смерти кого-либо из семьи носить эти изображения напоказ в похоронных процессиях; при этом не следует забывать, что поклонение изображениям по италийско-эллинскому воззрению считалось антиреспубликанским, вследствие чего римская государственная полиция нигде не разрешала выставлять изображения живых людей, а за выставкой изображений умерших строго наблюдала. К этому следует прибавить различные внешние отличия, которые были предоставлены законами или обычаями таким должностным лицам и их потомкам – золотой перстень у мужчин, отделанная серебром конская сбруя у юношей, пурпуровая обшивка на верхнем платье и золотая ладанка у мальчиков 217217
Все отличия, по всей вероятности, были первоначально принадлежностью собственно нобилитета, т. е. тех, кто происходил от курульных должностных лиц по мужской линии; но с течением времени такие отличия обыкновенно распространялись на более широкий круг. Это может быть определенно доказано в отношении золотого перстня, который носили в V в. [ок. 350—250 гг.] только лица, принадлежавшие к нобилитету ( Plinius, Hist. Nat., 33, 1, 18), в VI в. [ок. 250—150 гг.] – все сенаторы и сыновья сенаторов ( Liv., 26, 36), в VII в. [ок. 150—50 гг.] – все лица, внесенные в ценз всадников, во время империи – все свободнорожденные; то же может быть доказано и в отношении серебряной конской сбруи, которую еще во времена ганнибаловских войн имела право употреблять только знать (Liv., 26, 37), и в отношении пурпуровой обшивки на тоге у мальчиков; эту обшивку дозволялось носить сначала только сыновьям курульных должностных лиц, потом сыновьям всадников, в более позднюю пору сыновьям всех свободнорожденных, наконец – однако уже к эпохе ганнибаловских войн – даже сыновьям вольноотпущенников ( Macrob., Sat., 1, 6). Золотая ладанка (bulla) служила отличием во времена ганнибаловской войны лишь для сенаторских детей (Macrob. в указанном месте; Livius, 26, 36), а во времена Цицерона – для детей тех, кто был внесен в ценз всадников (Cic., Verr., 1, 58, 152); напротив того, дети незнатных людей носили кожаные ладанки (lorum). Пурпуровая кайма на тунике (clavus) служила знаком отличия для сенаторов и всадников, и во всяком случае в позднейшую эпоху у первых она была широкой, а у вторых узкой. К нобилитету clavus не имел никакого отношения.
[Закрыть]. Все это мелочи, но мелочи имели важное значение в такой общине, где гражданское равенство строго соблюдалось даже во внешней обстановке и где еще во время войны с Ганнибалом один гражданин был арестован и содержался в течение многих лет в тюремном заключении за то, что недозволенным образом появился в публичном месте с венком из роз на голове 218218
Plinius, Hist. Nat., 21, 3, 6. Право носить в публичном месте венок приобреталось военными заслугами ( Polib., 6, 39, 9; Liv., 10, 41); поэтому носить венок, не получив на то законного права, было таким же преступлением, как в наше время носить военный орден при таких же условиях.
[Закрыть]. Отличия этого рода, быть может, существовали еще во времена господства патрициев и пока в среде самого патрициата еще существовало различие между семьями знатными и незнатными. Этим внешним способом, вероятно, отличались первые от последних; но политическую важность эти отличия приобрели лишь с преобразованием государственного устройства в 387 г. [367 г.]; тогда наравне с семьями патрициев, которые в то время уже конечно все без исключения имели право выставлять изображения предков, стали пользоваться тем же правом и семьи плебеев, достигших консульского звания. Тогда же установилось правило, что в число общинных должностей, с которыми связано пользование этими наследственными почетными привилегиями, не входят ни низшие должности, ни экстраординарные, ни представительство плебеев, а входят только консульство, поставленная наравне с консульством претура и участвующее в отправлении общинного правосудия, а стало быть и в пользовании общинной верховной властью, курульное эдильство 219219
Стало быть, были исключены: военный трибунат с консульской властью, проконсульство, квестура, народный трибунат и еще некоторые другие должности. Что касается цензуры, то она, по-видимому, не считалась курульной должностью, несмотря на то, что цензоры заседали на курульных креслах (Liv., 40, 45; ср. 27, 8); впрочем, это обстоятельство не имеет никакого практического значения для позднейшей эпохи, когда цензором мог быть только тот, кто уже был консулом. Плебейское эдильство первоначально без сомнения не причислялось к курульным должностям ( Liv., 23, 23), но нет ничего невозможного в том, что впоследствии и оно вошло в их число.
[Закрыть]. Хотя этот плебейский нобилитет в строгом смысле слова мог образоваться только с тех пор, как плебеям был открыт доступ к курульным должностям, тем не менее он очень скоро, чтобы не сказать с первого момента своего возникновения, становится до известной степени замкнутым сословием без сомнения потому, что зародыши этой знати уже задолго до того времени существовали в семьях старинных плебейских сенаторов. Поэтому результаты Лициниевых законов в сущности сводятся приблизительно к тому же, что в наше время назвали бы выдвижением в пэры. Когда же облагороженные своими курульными предками плебейские семьи соединились в одну корпорацию с патрицианскими семьями и, заняв в республике особое положение, приобрели в ней преобладающее влияние, римляне опять вернулись к своему исходному пункту; тогда у них снова появились не только правящая аристократия и наследственная знать, которые в сущности никогда и не исчезали, но также и правящая наследственная знать, отчего неизбежно должна была возобновиться борьба между родами, в руках которых находилась правительственная власть, и членами общины, не желавшими подчиняться этим родам. Действительно, очень скоро так и случилось. Нобилитет не довольствовался своими ни к чему не ведущими почетными правами; он стал стремиться к нераздельному и неограниченному политическому владычеству и постарался превратить самые важные государственные учреждения – сенат и всадничество – из орудий республики в орудия старой и новой аристократии.
Правовая зависимость римского сената времен республики и особенно позднейшего сената, состоявшего и из патрициев и из плебеев, от магистратуры быстро ослабела и даже превратилась в нечто совершенно противоположное. Установленное революцией 244 г. [510 г.] подчинение общинных должностных лиц общинному совету, перенесение с консулов на цензоров права призывать в этот совет и, наконец, главным образом признанное законом право бывших курульных должностных лиц заседать и подавать голос в сенате – все это привело к тому, что сенат, который прежде созывался должностными лицами и был во многих отношениях зависимым от них совещательным собранием, превратился в почти совершенно независимую правительственную коллегию, которая в некотором смысле пополнялась сама собой; дело в том, что оба пути, которыми достигалось сенаторское звание – избрание на одну из курульных должностей и приглашение от цензора, – в сущности находились в руках у самой же правительственной власти. Правда, в то время гражданство еще было достаточно самостоятельно, чтобы не допустить полного исключения незнатных людей из сената, и сама знать еще была достаточно благоразумна, чтобы к этому не стремиться; но в самом сенате существовало строго аристократическое разделение его членов по степеням; бывшие курульные должностные лица делились на три разряда – на бывших консулов, бывших преторов и бывших эдилов, а те лица, которые попадали в сенат не потому, что занимали одну из курульных должностей, были лишены права участвовать в прениях; поэтому, хотя число незнатных сенаторов и было довольно значительно, но они были низведены до положения членов, лишенных почти всякого влияния, и сенат в сущности сделался представителем нобилитета. Другим, хотя и менее важным, но все-таки не лишенным значения, органом нобилитета был институт всадничества. Так как новая наследственная знать не была достаточно могущественна, для того чтобы подчинить комиции своей нераздельной власти, то ей было очень желательно по крайней мере приобрести самостоятельное положение в среде общинного представительства. В собраниях по кварталам она не находила никакого к тому повода; напротив того, введенные Сервиевой конституцией всаднические центурии были как будто специально приспособлены к такой цели. Те тысяча восемьсот коней, которые поставлялись общиной 220220
Ходячее мнение, будто только в шести центуриях знати насчитывалось 1 200 лошадей и, стало быть, во всей коннице их было 3 600, ни на чем не основано. Определять число всадников по числу указываемых летописцами удвоений есть ошибка в самом методе; каждый из этих рассказов и возник и должен быть объясняем сам по себе. Нет никаких доказательств ни в пользу первой из этих цифр, встречающейся только в том месте у Цицерона (De Rep., 2, 20), которое признают за описку даже противники этого мнения, ни в пользу второй, которая не встречается ни у одного из древних писателей. Напротив того, в пользу приведенной нами в тексте цифры говорят главным образом сами учреждения, а не свидетельство писателей, так как не подлежит сомнению, что центурия состояла из 100 человек и что всаднических центурий сначала было три, потом шесть и наконец со времени Сервиевой реформы восемнадцать. Расхождение между свидетельством древних писателей и этими данными только кажущееся. Старое, ни в чем самому себе не противоречащее предание, которое объяснил Беккер (2, 1, 243), исчисляет не восемнадцать патрицианско-плебейских центурий, а шесть патрицианских центурий в 1 800 человек, а этого предания, очевидно, придерживались и Ливий, 1, 36 (по единственному достоверному рукописному тексту, в котором не сделано поправок на основании встречающихся у Ливия отдельных указаний), и Цицерон в вышеуказанном месте (по единственному грамматически правильному способу его истолкования MDCCC, см. Becker, 2, 1, 244). Однако тот же Цицерон очень ясно указывает, что это число обозначало весь тогдашний состав римского всадничества. Стало быть, цифра всего состава была перенесена на наиболее выдающуюся его часть путем антиципации, к которой нередко прибегают старинные летописцы, не очень строго взвешивающие свои выражения; точно таким же образом и первоначальной общине приписывали вместо 100 всадников 300 ( Becker, 2, 1, 238), заранее включая в это число контингенты тициев и люцеров. Наконец предложение Катона (с. 66, изд. Иордана) увеличить число всаднических лошадей до 2 200 служит как положительным подтверждением вышеизложенного мнения, так и положительным опровержением противоположного мнения. Число всадников оставалось ограниченным, по-видимому, вплоть до Суллы, когда с фактическим упразднением цензуры утратили свое значение и самые основы его ограничения и когда по всей вероятности распределение цензором всаднических коней заменилось приобретением их по праву наследования; с тех пор сын сенатора – урожденный всадник. Но наряду с этим замкнутым всадническим сословием, equites equo publico, еще с самых ранних времен республики стоят граждане, обязанные нести службу в коннице на своих собственных лошадях и являющиеся не чем иным, как высшим цензовым классом. Они не голосуют во всаднических центуриях, но во всех прочих отношениях считают себя равными всадникам и высказывают притязания на почетные привилегии всадничества. По государственному устройству Августа всадничество остается наследственным правом сенаторских семей, наряду с этим цензорское право распределения всаднических коней возрождается как право императора и без ограничения определенным числом, вместе с чем первый цензовый класс утрачивает как таковой свое название всадников.
[Закрыть], также распределялись по закону цензорами. Последние, правда, при выборе всадников должны были руководствоваться военными соображениями и на смотрах отбирать казенных коней у тех, кто по старости, неспособности или вообще по негодности не мог нести службу всадников; но самый характер учреждения вел к зачислению в конницу преимущественно людей состоятельных; да и вообще нелегко было запретить цензорам предпочитать личным способностям знатность происхождения и оставлять коней долее назначенного времени у принятых во всадническое сословие влиятельных людей и в особенности у сенаторов. Возможно даже, что право сенатора оставлять коня за собой, пока ему это было желательно, устанавливалось законным путем. Так, например, по крайней мере на практике сделалось правилом, что сенаторы подавали голоса в восемнадцати всаднических центуриях, а остальные места в этих центуриях доставались преимущественно молодым людям из нобилитета. Понятно, что от этого страдало военное дело, не столько вследствие непригодности немаловажной части легионной конницы, сколько вследствие проистекавшего отсюда уничтожения военного равенства, так как знатная молодежь все более и более избегала службы в пехоте. Замкнутый аристократический корпус собственно всадничества как бы задавал тон всей легионной коннице, составлявшейся из наиболее знатных и состоятельных граждан. Отсюда понятно, почему еще во время сицилийской войны всадники отказались исполнять приказание консула Гая Аврелия Котты, когда он потребовал, чтобы они возводили окопы вместе с легионными солдатами (502) [252 г.], и почему Катон в бытность главнокомандующим испанской армии нашел нужным обратиться к своей коннице со строгими порицаниями. Но это превращение гражданской конницы в аристократическую конную гвардию послужило не столько во вред республике, сколько в пользу нобилитета, который приобрел в восемнадцати всаднических центуриях не только право голосования, но и преобладающее влияние. В связи с этим состоялось формальное отделение сенаторских мест от тех, на которых вся остальная толпа присутствовала при народных празднествах. Оно было введено великим Сципионом в то время, когда он вторично занимал должность консула (560) [194 г.]. Народные празднества были такими же народными собраниями, как и собиравшиеся для подачи голосов центурии, и тот факт, что первое из этих сборищ не имело целью выносить какие-либо решения, еще более подчеркивал официальное отделение властвующего сословия от разряда людей подвластных. Это нововведение неоднократно вызывало порицания со стороны правительства, так как оно внушало лишь ненависть, не принося никакой пользы, и явно противоречило стараниям более благоразумной части аристократии прикрывать ее исключительное владычество внешними формами гражданского равенства. Отсюда понятно, почему цензура сделалась главным оплотом позднейшего республиканского строя, почему эта должность, первоначально вовсе не принадлежавшая к числу высших, была мало-помалу окружена неподобающим ей внешним почетом и крайне своеобразным аристократически-республиканским блеском и стала считаться высшей целью и завершением успешно пройденного общественного поприща; почему правительство считало покушением на свое существование всякую попытку оппозиции провести на эту должность своих кандидатов или только привлечь цензора к ответственности перед народом во время занятия им этой должности или после того и почему все члены этого правительства в полном единодушии восставали против всякой подобной попытки; в этом отношении достаточно будет напомнить о буре, которая была вызвана кандидатурой Катона на должность цензора, и о тех крайне бесцеремонных и нарушавших установленные формы мерах, которые были приняты сенатом с целью не допустить судебного преследования двух непопулярных консулов 550 г. [204 г.]. С этим стремлением как можно более возвысить цензорское звание соединялось характерное недоверие правительства к этому самому важному и именно потому самому опасному из его органов. Оно сознавало необходимость предоставить цензорам безусловный контроль над личным составом сената и всадничества, так как нельзя было отделить право исключения членов от права их призвания, а без первого из этих прав нельзя было обойтись не столько для того, чтобы не допускать в сенат даровитых представителей оппозиции (чего предусмотрительно избегала тогдашняя действовавшая исподтишка система управления), сколько для того, чтобы не лишить аристократию того нравственного ореола, без которого она скоро сделалась бы добычей оппозиции. Право исключать членов было сохранено; а так как всего более был нужен блеск холодного оружия, то внушавшее страх острие его постарались притупить. Права цензора сами по себе были ограничены уже тем, что он мог пересматривать списки членов аристократических корпораций только через каждые пять лет, а также предоставленным его коллеге правом интерцессии и принадлежавшим его преемнику правом кассации; к этим ограничениям прибавили новое и очень стеснительное: обычаем, имевшим законную силу, цензор обязывался не исключать из списков ни одного сенатора и ни одного всадника без письменного изложения мотивов такого решения и вообще без такой предварительной процедуры, которая имела некоторое сходство с судебным разбирательством.
Заняв такое политическое положение, главной опорой которому служили сенат, всадничество и цензура, нобилитет не только захватил в свои руки бразды правления, но и придал всему государственному строю соответствовавшую его духу внешнюю форму. Сюда относится уже тот факт, что из желания поднять значение общинных должностей нобилитет увеличивал их число крайне скупо и далеко не в таком размере, какого требовали расширение государственных границ и увеличение числа дел. Удовлетворяя только самые настоятельные нужды под давлением необходимости, он разделил до тех пор лежавшие на одном преторе судебные обязанности между двумя судьями, из которых один стал разбирать дела между римскими гражданами, а другой между негражданами или между гражданами и негражданами (511) [243 г.]; сверх того, были назначены четыре добавочных консула на четыре заморские должности – в Сицилию (527) [227 г.], в Сардинию и Корсику (527) [227 г.], в Ближнюю Испанию и в Дальнюю (557) [197 г.]. До крайности сокращенный порядок римского судопроизводства и возраставшее влияние канцелярского персонала конечно были в основном последствием численной недостаточности римских должностных лиц. Среди нововведений, инициатива которых принадлежала правительству и которые не перестают быть таковыми от того, что почти исключительно изменяли не букву, а практику существующего строя, особенно выделяются меры, ставившие назначение на офицерские и гражданские должности в зависимость не столько от заслуг и дельности, как это допускала буква закона и требовал его смысл, сколько от знатности происхождения. При назначении штаб-офицеров это не делалось формальным образом, но тем в большей степени так выходило по существу. Еще в течение предшествующего периода эти назначения в основной части перешли от главнокомандующих к гражданству; а теперь дело дошло до того, что в собраниях по кварталам стали выбирать всех штаб-офицеров регулярного годового призыва, т. е. всех двадцати четырех военных трибунов для четырех кадровых легионов. Таким образом, становилась все более непреодолимой та преграда, которая отделяла субалтерн-офицеров, достигавших своего звания храбростью и исправной службой, от штабных, добившихся привилегированного положения благодаря тому, что вели интриги среди гражданства. Только во избежание самых возмутительных злоупотреблений и для того чтобы устранить от занятия этих важных должностей совершенно неопытных юношей, пришлось стеснить раздачу штаб-офицерских мест тем, что стали требовать доказательства некоторого служебного стажа. Тем не менее, с тех пор как военный трибунат – этот краеугольный камень римской военной организации – сделался для знатных юношей первою ступенью на их политическом поприще, очень часто стали обходить требование стажа, и выбор офицеров стал зависеть от демократического обыкновения выпрашивать места и от аристократического стремления юнкерства устранять всех других от занятия этих мест. То, что во время серьезных войн (например, в 583 г.) [171 г.] признавалось необходимым прекращать такие демократические выборы офицеров и снова предоставлять назначение штаба на усмотрение главнокомандующего, явилось резкой критикой новых порядков. Что касается гражданских должностей, то прежде всего и главным образом было ограничено вторичное избрание на высшие общинные должности. Это было необходимо постольку, поскольку было нежелательно, чтобы годовая царственная власть обратилась в пустое слово, и еще в предшествовавшем периоде вторичное избрание в консулы допускалось лишь по прошествии десяти лет, а вторичное избрание в цензоры было совершенно воспрещено. Законодательным путем в ту эпоху в этом направлении не было сделано никаких дальнейших шагов. Однако строгость усиливалась, как это видно из того факта, что хотя закон о десятилетнем промежутке между двумя избраниями и был отменен в 537 г. [217 г.] на все время войны в Италии, но после того от него уже не делалось отступлений, и повторные избрания были вообще редки в конце этого периода. Кроме того, в конце этого периода (574) [180 г.] состоялось общинное постановление, обязывавшее кандидатов на общинные должности занимать их в установленной постепенности с соблюдением известных промежутков времени и известных пределов в отношении возраста. Конечно, все это уже давно было установлено обычаем; тем не менее, это было ощутительным стеснением свободы выборов, так как обычные условия правоспособности были превращены в легальные и избиратели лишились права не соблюдать этих требований в исключительных случаях. Доступ в сенат был открыт для всех членов правящих семейств без всякого различия в отношении их способностей, между тем как не только бедным и низшим слоям населения был совершенно закрыт доступ в высшие правительственные сферы, но и все не принадлежавшие к наследственной аристократии римские граждане были не то чтобы совершенно устранены от курий, но фактически лишены возможности достичь обеих высших общинных должностей – консульской и цензорской. После Мания Курия и Гая Фабриция, сколько нам известно, не было ни одного консула, который не принадлежал бы к социальной аристократии, да по всей вероятности и не было ни одного случая подобного назначения. Но даже число знатных родов, впервые появившихся в списках консуляров и цензоров в течение полустолетия от начала войны с Ганнибалом до окончания войны с Персеем, было крайне незначительно, и большинство из них, например роды Фламиниев, Теренциев, Порциев, Ацилиев, Лелиев, были обязаны своим возвышением или тому, что на них пал выбор оппозиции, или тому, что они пользовались аристократическими связями; так, например, Гай Лелий, очевидно, был обязан Сципионам своим избранием в 564 г. [190 г.]. Устранение бедных людей от управления диктовалось, конечно, условиями того времени. С тех пор как Рим перестал быть чисто италийским государством и усвоил эллинскую образованность, уже нельзя было ставить во главе общины мелкого земледельца, только что отложившего в сторону свой плуг. Однако не было ни крайней необходимости, ни пользы в том, что выборы производились почти исключительно в узком кругу курульных семейств и что «новый человек» мог проникнуть в этот круг не иначе, как прибегнув к чему-то вроде незаконного захвата 221221
Об устойчивости римской знати и особенно патрицианских родов можно составить себе ясное представление по спискам консулов и эдилов. В период времени между 388 и 581 гг. [366—173 гг.] (за исключением 399 [355], 400 [354], 401 [353], 403 [351], 405 [349], 409 [345], 411 [343] гг., в которых оба консула были из патрициев), как известно, в звании консулов состояли один патриций и один плебей. Кроме того коллегии курульного эдильства в нечетных годах варроновского летосчисления избирались исключительно из патрициев по меньшей мере до конца VI в. [ок. 150 г.], и их состав известен нам за следующие 16 лет: 541 [213], 545 [209], 547 [207], 549 [205], 551 [203], 553 [201], 555 [199], 557 [197], 561 [193], 565 [189], 567 [187], 575 [179], 585 [169], 589 [165], 591 [163], 593 [161] гг. Эти патрицианские консулы и эдилы распределяются по родам следующим образом:
Корнелии151514Валерии1084Клавдии482Эмилии962Фабии661Манлии461Постумии262Сервилии342Квинкции231Фурии23–Сульпиции622Ветурии–2–Папирии31–Навтии2––Юлии1–1Фослии1––707032 Итак, пятнадцать или шестнадцать высокоаристократических родов, властвовавших в общине в эпоху издания Лициниевых законов, удержались без существенных изменений в своем составе (конечно частью пополняясь усыновлениями) в течение двух следующих столетий и даже до конца республики. В сферу плебейской знати поступают от времени до времени новые роды, но и старинные плебейские роды, как например Лицинии, Фульвии, Атилии, Домиции, Марции, Юнии, преобладают в списках в течение трех столетий самым определенным образом.
[Закрыть]. Впрочем, некоторая доля наследственности лежала не только в основе сенаторского института, так как он возник из представительства родов, но и в самой природе аристократии, так как государственная мудрость и государственный опыт переходят по наследству от способного отца к способному сыну, и веяние духа славных предков быстрее и сильнее превращает в яркое пламя малейшие искры доблести. В этом значении римская аристократия была во все времена наследственной и даже с большой наивностью выставляла эту наследственность напоказ в старинном обычае сенаторов приводить с собой на заседание сената сыновей и в обычае общинных должностных лиц украшать своих сыновей внешними отличиями высшего почета – пурпуровой каймой консулов и золотой ладанкой триумфаторов. Но если в старые времена наследственность внешних почетных отличий до некоторой степени обусловливалась наследованием внутренних достоинств и сенатская аристократия правила государством не столько в силу своих наследственных прав, сколько в силу самого высшего из всех прав на народное представительство – права лучших людей стоять выше людей заурядных, то в описываемую нами эпоху и особенно после окончания ганнибаловской войны она быстро снизошла со своего прежнего высокого положения и из рассадника самых опытных в совете и в деле людей превратилась в сословие знати, пополнявшееся путем наследования и коллегиально употреблявшее во зло свою власть. Дело дошло в то время даже до того, что из зол, порождаемых олигархией, развилось еще более пагубное зло – захват власти отдельными семействами. Мы уже говорили об отвратительной семейной политике победителя при Заме и о его, к сожалению, успешном стремлении прикрывать своими собственными лаврами бездарность и ничтожество брата; а непотизм Фламинина носил еще более наглый и возмутительный характер, чем непотизм Сципионов. На деле оказалось, что неограниченная свобода выборов была гораздо более полезна для таких клик, чем для избирателей. Что Марк Валерий Корв двадцати трех лет достиг консульства, без сомнения, послужило к пользе общины; но когда Сципион попал двадцати трех лет в эдилы и тридцати лет в консулы, а Фламинин, еще не достигший тридцати лет, возвысился от квесторского звания до консульского, то в этом заключалась серьезная опасность для республики. Римляне уже дошли до того, что были принуждены считать строго олигархическую систему правления за единственный оплот против господства отдельных семейств и против его последствий; вот почему даже та партия, которая обыкновенно стояла в оппозиции к олигархии, содействовала ограничению свободы выборов.








