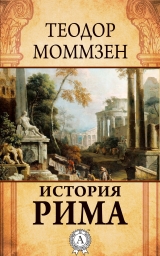
Текст книги "История Рима. Книга первая"
Автор книги: Теодор Моммзен
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 68 страниц)
В этом признании меди за общее для всего полуострова мерило ценностей, равно как и в самых простых численных знаках италийского изобретения (о которых будет сказано более подробно ниже) и в италийской двенадцатиричной системе счисления сохранялись следы самых древних международных сношений италиков, еще предоставленных самим себе.
Уже ранее было указано в общих чертах, какого рода влияние имела заморская торговля на оставшихся независимыми италиков. Это влияние почти вовсе не коснулось сабельских племен, у которых береговая линия была и не длинна и без удобных пристаней и у которых все, что было заимствовано от чужеземцев, как например алфавит, было приобретено через посредство тусков или латинов, чем и объясняется отсутствие у них городского развития. Даже торговля Тарента с апулийцами и с мессапами, по-видимому, была в ту пору незначительна. Иначе было на западных берегах: греки мирно жили в Кампании рядом с италиками, а в Лациуме и в особенности в Этрурии велась обширная и постоянная меновая торговля. О том, что именно было предметом ввоза, дают нам понятие частью находки, сделанные в очень древних, преимущественно церитских, могилах, частью указания, сохранившиеся в языке и в учреждениях римлян, частью и даже преимущественно успехи, достигнутые италийским ремеслом под иноземным влиянием, так как италики, конечно, долго покупали чужеземные продукты, прежде чем сами стали им подражать. Впрочем, мы не в состоянии решить, какой степени развития достигли ремесла до разделения племен и в том периоде, когда Италия еще была предоставлена сама себе; поэтому мы оставим в стороне вопрос, в какой мере италийские валяльщики, красильщики, кожевники и горшечники были обязаны влиянию греков и финикийцев и в какой мере они достигли самостоятельных успехов. Но ремесло золотых дел мастеров, существовавшее в Риме с незапамятных времен, могло возникнуть только после того, как началась заморская торговля, и после того, как успело распространиться между жителями полуострова обыкновение носить золотые украшения. Так, например, мы находим в древнейших могильных склепах в Цере и в Вульчи в Этрурии и в Пренесте в Лациуме золотые пластинки с вычеканенными на них крылатыми львами и другими украшениями вавилонской работы. Об отдельных находках, конечно, нельзя положительно сказать, были ли они привезены из чужих краев или же были местным подражанием, но в общем итоге не подлежит сомнению, что в древнейшие времена весь западный берег Италии получал металлические изделия с Востока. Впоследствии, когда будет идти речь о произведениях искусства, станет еще более ясно, что архитектура и скульптура из глины и металла рано там развились под могущественным влиянием греков – другими словами, что древнейшие орудия таких производств и древнейшие образцы получались из Греции. В только что упомянутых могильных склепах были найдены кроме золотых украшений: сосуды из голубой эмали или из зеленоватой глины, которые судя по их материалу и стилю и по оттиснутым на них иероглифам, были египетского происхождения 7676
Недавно был найден в Пренесте серебряный кувшин с финикийской надписью и с надписью из иероглифов (Mon. dell ’Inst. X, табл. 32); он ясно доказывает, что все египетские произведения доставлялись в Италию через посредство финикийцев.
[Закрыть]; сделанные из восточного алебастра сосуды для масла, между которыми многие имели форму статуи Изиды; страусовые яйца с нарисованными или вырезанными на них сфинксами и грифонами; стеклянные и янтарные бусы. Эти последние могли быть привезены с Севера сухим путем, но все остальные предметы доказывают, что с Востока привозились благовонные мази и разного рода украшения. Оттуда же привозились полотна и пурпур, слоновая кость и ладан: это доказывает, с одной стороны, раннее употребление полотняных повязок, царского пурпурового одеяния, царского из слоновой кости скипетра и ладана при жертвоприношениях, а с другой стороны, очень древнее употребление заимствованных от иноземцев названий этих предметов (λῖνον – linum: πορφύρα – purpura; σκῆπρον σκίπων – scipio, пожалуй также ἐλέφας – ebur, υίλος – thus). Сюда же следует отнести заимствованные названия некоторых предметов, относящихся к пище и к питью, а именно названия оливкового масла, кувшина (ἀμφορεύς – amp(h)ora ampulla; κρατήρ – cratera), пира (κομάεω – comissari), лакомого блюда (ὸψώνιον – opsonium), теста (μᾶεα – massa), также названия различных пирогов (γλυκυς – lucrius; πλακῦς – placenta; τυροῦς – turunda); напротив того, латинские названия блюда (patina – πατάνη) и свиного сала (arvina – ὰρβίνη) вошли в сицилийско-греческое наречие. Позднейшее обыкновение класть вместе с умершими в могилу изящные сосуды, приготовлявшиеся в Аттике, Керкире и Кампании, свидетельствует не менее вышеприведенных лингвистических указаний о том, что греческая глиняная посуда издавна ввозилась в Италию. Что греческие кожаные изделия ввозились в Лациум во всяком случае вместе с воинскими доспехами, видно из того, что греческое название кожи (σκῦτος) обратилось у латинов в название щита (scutum, точно так же как lorica от lorum). Сюда же принадлежит множество заимствованных из греческого языка слов, относящихся к мореплаванию (хотя, как это не удивительно, слова, относящиеся к парусным судам – парус, мачта, рея, – чисто латинского происхождения 7777
Velum (парус) бесспорно латинского происхождения; такого же происхождения и слово malus (мачта) тем более, потому что оно означает не только мачту, но и вообще дерево; и слово antenna (рея), может быть, происходит от ἀνά (anhelare, antestari) и tendere – supertensa. Напротив того, от греческого происходят слова: gubernare (править) κυβερνᾶν, апсога (якорь) ἄγκυρα, prora (передняя часть корабля) πμῶρα, aplustre (задняя часть корабля) ἄφλαστον, anquina (веревка, удерживающая реи) ἄγκοινα, nausea (морская болезнь) ναυσία. Древние четыре ветра: aquilo – орлиный ветер, северо-восточная трамонтана; volturnus (неясного происхождения, быть может, ветер коршунов) – юго-восточный; auster – иссушающий юго-западный ветер, сирокко; favonius – благоприятный северо-западный ветер, дующий с Тирренского моря, носят туземные названия, не имеющие отношения к мореплаванию; но все другие латинские названия ветров – греческого происхождения (как, например, eurus, notus) или переводы с греческого языка (например, solanus = ὰπηλιώτης, Africus = λίψ).
[Закрыть]; далее, греческие названия письма (έπιστολη, epistula), марок или дощечек (tessera от τέσσαρσ), весов 7878
Марки или дощечки стали употребляться прежде всего во время лагерной службы, ζυλήφιὰ κατὰ φυλακὴν βραχέα τελέως ἔχοντα χαρακτὴρα ( Полибий, 6, 35, 7); от четырех vigiliae (в лагере ночь разделялась на четыре стражи) главным образом ведут свое название марки. Разделение ночи на четыре стражи столько же греческое, сколько и римское обыкновение; очень может быть, что военное искусство греков имело через посредство Пирра ( Ливий, 35, 14) влияние на организацию сторожевой службы в римском лагере. То, что употреблена не дорийская форма слова, доказывает сравнительно позднее заимствование этого слова.
[Закрыть], (στατήρ, statera) и задатка (ἀρραβών, arrabo, arra) перешли в латинский язык; напротив того, италийские юридические выражения перешли в сицилийско-греческий язык; предметом таких же обоюдных заимствований были монеты, вес, мера и соответствующие этим предметам названия, о которых будет идти речь далее. Варварский отпечаток, который лежит на всех этих заимствованиях, а главным образом характерное образование именительного падежа из винительного (placenta = πλακοῦντα; ampora = ἀμφορέα; statera = στατῆρα) служат самым ясным доказательством их глубокой древности. И поклонение богу торговли (Mercurius) возникло под влиянием греческих понятий; даже ежегодный праздник этого бога был назначен в майские иды, потому что эллинские поэты чествовали Меркурия как сына прекрасной Майи. Таким образом, оказывается, что древняя Италия, точно так же как и императорский Рим, получала предметы роскоши с Востока, прежде чем попыталась сама их выделывать по полученным оттуда образцам; но в обмен за эти товары она могла предложить только свои сырые продукты, стало быть сначала медь, серебро и железо, а потом рабов, корабельный лес, янтарь с Балтийского моря и, в случае неурожая за границей, свой зерновой хлеб.
Уже ранее было замечено, что италийская торговля получила совершенно различный характер в Лациуме и в Этрурии именно вследствие такого соотношения между спросом на товары и тем, что предлагалось за них в качестве эквивалента. Так как у латинов не было ни одного из главных предметов вывозной торговли, то им приходилось довольствоваться только пассивной торговлей и с древнейших времен выменивать у этрусков необходимую для них медь на скот и на рабов, о древнем сбыте которых на правый берег Тибра уже было ранее упомянуто; напротив того, торговый баланс тусков как в Цере, так и в Популонии, как в Капуе, так и в Спине несомненно был благоприятен для местной торговли. Этим объясняются быстрое развитие благосостояния в этих странах и их мощное положение в торговле, между тем как Лациум оставался преимущественно земледельческой страной. То же замечается и во всех других отношениях: в Цере встречаются очень древние гробницы, построенные в греческом вкусе, хотя и не со свойственной грекам роскошью, между тем как в латинских странах встречаются лишь незначительные надгробные украшения иностранного происхождения и не найдено ни одной древней и действительно роскошной гробницы, за исключением находящейся в городе Пренесте, который, как кажется, был в исключительном положении и в особенно близких сношениях с Фалериями и с южной Этрурией; напротив того, латины, точно так же как и Сабеллы, вообще довольствовались тем, что покрывали могилы простым дерном. Самые древние монеты – почти столь же древние, как и великоградские, – находятся в Этрурии и преимущественно в Популонии, а Лациум в течение всего царского периода только употреблял медь на вес и даже не ввозил к себе чужих монет, так как подобные монеты находились там чрезвычайно редко – например, в Посидонии была найдена только одна. Архитектура, пластика и скульптура находились и в Этрурии и в Лациуме под одинаковым внешним влиянием, но в Этрурии к ним являлся на помощь капитал, который усиливает производство и вводит усовершенствованную технику. Хотя в Лациуме и Этрурии выделывались, покупались и продавались одни и те же товары, но по обширности торговли южные страны стояли далеко позади северных соседей. Оттого-то изготовлявшиеся в Этрурии по греческим образцам предметы роскоши находили для себя сбыт не только в Лациуме (в особенности в Пренесте), но и в самой Греции, между тем как из Лациума едва ли когда-либо вывозились такие товары.
Не менее замечательное различие между торговлей латинов и торговлей этрусков заключается в том, какими путями велись та и другая. О древнейшей торговле этрусков в Адриатическом море мы можем высказать только догадку, что она, вероятно, велась из Спины и Атрии преимущественно с Керкирой. О том, как смело пускались этруски, жившие на западе, в восточные моря и торговали не только с Сицилией, но и с собственно Грецией, уже сказано раньше. О древних сношениях с Аттикой свидетельствуют аттические глиняные сосуды, которые очень часто находятся в позднейших этрусских гробницах и уже в ту эпоху, как было нами замечено, ввозились и для иных целей кроме украшения гробниц; с другой стороны, и в Аттике были предметом спроса тирренские бронзовые светильники и золотые чаши, а в особенности монеты. Серебряные монеты Популонии чеканились по очень древнему образцу, экземпляры которого найдены в Афинах и в окрестностях Познани на том старинном пути, по которому привозили с севера янтарь; это – кусочки серебра с вычеканенною на одной стороне головою Горгоны, а с другой стороны только с квадратными углублением; это была, по-видимому, точно такая же монета, какая чеканилась в Афинах по распоряжению Солона. О том, что этруски вели торговлю с карфагенянами, в особенности с тех пор как эти два народа вступили между собою в морской союз, также было упомянуто ранее; достойно внимания, что в Цере в самых древних гробницах находятся кроме туземной бронзовой и серебряной утвари преимущественно восточные произведения, которые, конечно, могли быть привозимы греческими торговцами, но вероятнее всего доставлялись финикийскими купцами. Впрочем, этой торговле с финикийцами не следует придавать слишком большого значения и в особенности не следует забывать, что как алфавит, так и другие улучшения в местной культуре были занесены в Этрурию греками, а не финикийцами. Совершенно другое направление приняла латинская торговля. Хотя нам редко представляется случай сравнивать, как усваивались эллинские элементы римлянами и как они усваивались этрусками, однако всякий раз как такое сравнение возможно, оно доказывает, что эти два народа были совершенно независимы один от другого. Всего яснее это видно на алфавите: греческий алфавит, который этруски получили от халкидско-дорийских колоний, основанных в Сицилии или в Кампании, имеет некоторые существенные отличия от того, который оттуда же получили латины; стало быть, хотя эти два народа и черпали из одного и того же источника, но в разное время и из разных мест. То же заметно и на отдельных словах: и в римском Pollux и в тускском Pultuke мы находим самостоятельное извращение греческого Polydukes; тускский Utuze, или Uthuze, произошел от Odysseus; римский Ulixes в точности воспроизводит употребительную в Сицилии форму этого имени; точно так и тускский Aivas соответствует древнегреческой форме этого имени, а римский Aiax – производной и конечно так же сицилийской форме; римский Aperta, или Apello, и самнитский Appellun произошли от дорийского Apellon, а тускский Apulu от Apollon. Таким образом, и язык и письменность Лациума свидетельствуют исключительно о том, что латинская торговля велась с куманцами и с сицилийцами; к тому же заключению приводят нас и все другие следы, уцелевшие от той отдаленной эпохи: найденная в Лациуме монета из Посидонии, то, что римляне в случае неурожая закупали хлеб у вольсков, у куманцев, у сицилийцев и конечно, само собой разумеется, также у этрусков, а главным образом связь латинской денежной системы с сицилийской. Как местное дорийско-халкидское название серебряной монеты νόμος и сицилийская мера ἡμίνα перешла в Лациум с тем же значением в виде nummus и hemina, так, наоборот, и италийские названия веса libra, triens, quadrans, sextans, uncia, образовавшиеся в Лациуме для измерения количества меди, заменявшей деньги, вошли уже в III веке от основания Рима в Сицилии в общее употребление как искаженные и гибридные формы λίτρα, τριᾶς, τετρᾶς, ἑξᾶς, οὐγκία. Даже можно сказать, что из всех греческих систем монеты и веса только одна сицилийская была приведена в определенное соотношение с италийской медной системой, так как не только была установлена условная, а может быть и законная ценность серебра, превышающая в двести пятьдесят раз ценность меди, но даже с давних пор в этой пропорции чеканилась в Сиракузах серебряная монета (λίτρα ἀργυρΐου, т. е. «фунт меди на серебро»), соответствовавшая сицилийскому фунту меди (1∕120 аттического таланта, 2∕3 римского фунта). Поэтому не подлежит сомнению, что италийские слитки меди принимались и в Сицилии вместо денег, а этот факт вполне согласуется с тем, что торговля латинов с Сицилией была пассивна, вследствие чего латинские деньги уходили в Сицилию. О некоторых других доказательствах древних торговых сношений между Сицилией и Италией, а именно о перешедших в сицилийский диалект италийских названиях торговой ссуды, тюрьмы и миски и, наоборот, о сицилийских выражениях, перешедших в Италию, уже говорилось раньше. О древних торговых сношениях латинов с халкидскими городами нижней Италии – Кумами и Неаполем – и с фокейцами в Элее и в Массалии также встречаются некоторые отрывочные и менее точные указания. Но что эти сношения были гораздо менее оживленны, чем сношения с сицилийцами, видно из того хорошо известного факта, что все с древних пор проникшие в Лациум греческие слова (достаточно указать на слова Aesculapius, Latona, Aperta, machina) имели дорийскую форму. Если бы торговля с такими искони ионийскими городами, какими были Кумы и фокейские колонии, стояла хотя приблизительно на одном уровне с торговлей, которая велась с сицилийскими дорянами, то ионийские формы заимствованных слов появились бы по меньшей мере рядом с дорийскими; впрочем, доризм рано проник и в эти ионийские колонии, так что их диалект во многом изменился. Итак, все свидетельствует об оживленных торговых сношениях латинов вообще с посещавшими западное море греками и в особенности с теми, которые поселились в Сицилии. Между тем едва ли можно утверждать, что существовали непосредственные торговые сношения с азиатскими финикийцами; что касается сношений финикийцев с поселившимися в Африке, на которые ясно указывают письменные и другие памятники, то их влияние на культуру Лациума имело лишь второстепенное значение; это видно всего лучше из того, что за исключением нескольких местных названий мы не находим в языке латинов никаких указаний на их старинные сношения с народами, говорившими на арамейских наречиях 7979
За исключением слов Sarranus, Afer и других местных названий, в латинском языке, как кажется, нет ни одного слова, которое было заимствовано в древние времена непосредственно из финикийского языка. Встречающиеся в нем в очень небольшом числе слова, которые происходят от финикийских корней, как например arrabo или arra и, пожалуй, также murra, nardus и некоторые другие, очевидно, заимствованы из греческого языка, который представляет в этих заимствованных с Востока словах многочисленные доказательства очень древних торговых сношений греков с арамейцами. Нет возможности допустить, чтобы слова ἐλέφας, и ebur образовались самостоятельно одно от другого по одному и тому же финикийскому образцу с присоединением члена или без него, потому что в языке финикийцев членом был ha и этот член не имел такого употребления; кроме того, до сих пор еще не отыскано коренное восточное слово. То же самое можно сказать о загадочном слове thesaurus; все равно, было ли оно первоначально греческим или было заимствовано греками из финикийского или персидского языка, латинский язык во всяком случае заимствовал его от греков, что доказывается уже удержанием в нем придыхания.
[Закрыть]Если же мы спросим, как преимущественно велась эта торговля – италийскими ли купцами в чужих краях или иноземными купцами в Италии, то первое предположение будет самым правдоподобным; по крайней мере что касается Лациума, то едва ли можно допустить, чтобы латинские названия заменявшего деньги металла и торговой ссуды могли войти у жителей сицилийского острова в общее употребление только вследствие того, что сицилийские торговцы посещали Остию и обменивали свои украшения на медь. Наконец, что касается лиц и сословий, занимавшихся в Италии этой торговлей, то в Риме не образовалось никакого высшего купеческого сословия, которое стояло бы особняком от землевладельцев. Причиной этого бросающегося в глаза явления было то, что оптовая торговля Лациума с самого начала находилась в руках крупных землевладельцев, – а этот факт вовсе не так удивителен, как кажется с первого взгляда. Что крупный землевладелец, получавший от своих арендаторов плату сельскими продуктами и живший в стране, по которой протекало несколько судоходных рек, рано обзавелся барками, совершенно естественно и несомненно доказано; поэтому заморская торговля должна была попасть в руки землевладельца уже потому, что он один имел земледельческие продукты, товары для вывоза, и один имел суда для перевозки этих продуктов. Действительно, древним римлянам вовсе не было знакомо различие между земельной аристократией и денежной, так как крупные землевладельцы всегда были вместе с тем спекулянтами и капиталистами. Такое соединение двух различных видов деятельности конечно не могло бы долго существовать при более обширной торговле; но, как уже видно из всего ранее сказанного, торговое значение Рима определялось тем, что в нем сосредоточивалась торговля всей латинской земли, однако он не был настоящим торговым городом, как Цере или как Тарент, а был и оставался центром земледельческой общины.
ГЛАВА XIV
МЕРА И ПИСЬМО.
Уменье измерять подчиняет человеку мир; благодаря его уменью писать его познания не так бренны, как он сам; а эти два искусства доставляют ему то, в чем ему отказала природа – всемогущество и вечность. История и вправе и обязана следить за народами и на этих путях.
Чтобы можно было мерить, должны предварительно развиться понятие о единицах времени, пространства и веса и о состоящем из равных частей целом, т. е. о числах и числовой системе. Для этого природа представляет следующие точки опоры: для времени – периодическое появление солнца и луны, т. е. сутки и месяц; для пространства – длину человеческой ступни, которую легче измерить, чем руку; для тяжести – тот груз, который человек может взвешивать (librare) вытянутой вперед рукой, или вес (libra). Точкой опоры для понятия о состоящем из равных частиц целом может служить прежде всего рука с своими пятью пальцами или обе руки с своими десятью пальцами, и на этом основана десятичная система. Ранее уже было замечено, что эти элементы всякого счета и измерения восходят не только ко временам, предшествовавшим разделению греческого и латинского племен, но и к самой глубокой древности. Каким древним является особенно измерение времени по луне, доказывает язык; даже обыкновение считать дни не от последней фазы луны вперед, а от ожидаемой фазы назад по меньшей мере древнее той эпохи, когда греки отделились от латинов.
Самым несомненным доказательством того, что десятичная система издавна была у индо-германцев в исключительном употреблении, служит хорошо известное повторение во всех индо-германских языках одних и тех же числительных имен до ста включительно. Что касается Италии, то во всех ее древнейших взаимоотношениях налицо употребление десятичной системы; достаточно будет напомнить о столь часто встречающихся в числе десяти свидетелях, поручителях, послах, должностных лицах, о юридическом установлении равноценности быка с десятью баранами, о разделении округа на десять курий и вообще о применении десятичной системы повсюду, о межевании, о десятой доле жертв и пахотных полей, о наказании десятого из виновных и о прозвище Decimus. Самыми замечательными практическими применениями этой древнейшей десятичной системы к изменению и письменности служат италийские цифры. Во время отделения греков от италиков, очевидно, еще не существовало традиционных численных знаков. Зато мы находим для изображения трех самых древних и самых необходимых цифр – для единицы, для пяти и для десяти – три знака I, V, или Λ, и X, которые, очевидно, изображали вытянутый палец, раскрытую руку и двойную руку и которые не были заимствованы ни от эллинов, ни от финикийцев, но были одинаковыми и у римлян, и у сабеллов, и у этрусков. Это были первые шаги к образованию национальной италийской письменности и вместе с тем доказательство тех оживленных внутренних сношений между италиками, которые предшествовали заморским сношениям; но мы конечно не в состоянии решить, которое из италийских племен изобрело эти численные знаки и кто у кого их заимствовал. Другие следы десятичной системы встречаются в этой области редко; сюда принадлежат: Vorsus, мера площади у сабеллов, имевшая 100 квадратных футов, и римский десятимесячный год.
Но в тех италийских мерах, которые не имеют связи с греческими и появились у италиков, вероятно, до их соприкосновения с греками, преобладает разделение целого (as) на двенадцать единиц (unciae). По этой двенадцатиричной системе были организованы древнейшие латинские священные братства, как например коллегии салиев и арвалов, равно как этрусские городские союзы. Число двенадцать господствует в римской системе весов и в линейных мерах: в первой фунт (libra), а во второй фут (pes) обыкновенно делятся на двенадцать частей; единицей римских мер поверхности был actus, который имел 120 футов в квадрате 8080
Первоначально как actus (движение), так и еще чаще встречающаяся его двойная мера – iugerum (ярмо) были, подобно немецкому моргену, не мерами поверхности, а мерами работы и означали: последняя из них дневную работу, а первая – полудневную вследствие обычного в Италии полуденного отдыха пахарей.
[Закрыть]и совмещал в себе обе системы – десятиричную и двенадцатиричную. Быть может, по такой же системе определялись меры емкости, но от них не осталось никакого следа. Если мы пожелаем доискаться, на чем основана двенадцатиричная система, т. е. почему из ряда чисел так рано выдвинулось рядом с числом десять число двенадцать, то причину этого мы можем найти только в сравнении солнечного оборота с лунным. Солнечный оборот из приблизительно двенадцати лунных оборотов должен был еще скорее, чем две руки с десятью пальцами, дать человеку глубокомысленное представление о целом, состоящем из равных единиц, и вместе с тем понятие о числовой системе, этом первом зачатке математического мышления. Последовательное развитие двенадцатиричной системы, как кажется, было делом италийской нации и предшествовало первому соприкосновению италиков с эллинами.
Но когда эллинские торговцы нашли дорогу к западным берегам Италии, новые международные сношения повлияли не на меры поверхности, а на линейные меры, на меры веса и главным образом на меры объема, т. е. на те, без которых невозможны ни торговля, ни мена. Размеры древнейшего римского фута нам неизвестны; тот, который нам известен и который был в употреблении у римлян в самую раннюю эпоху, заимствован из Греции. И наряду со своим новым делением на двенадцать частей он стал делиться (сверх своего римского деления на двенадцать двенадцатых) по греческому образцу на четыре ладони (palmus) и шестнадцать пальцев (digitus). Сверх того римский вес был приведен в неизменное соотношение с аттическим, преобладавшим во всей Сицилии, но не в Кумах, – а это служит новым красноречивым доказательством того, что латинская торговля велась преимущественно с Сицилией; четыре римских фунта были признаны равными трем аттическим «минам», или, вернее, римский фунт был признан равным полутора сицилийским «литрам», или «полуминам». Но самый странный и самый пестрый вид получили римские меры объема как по своим названиям, так и по своему сравнительному значению; их названия были заимствованы из греческого языка и были частью извращением греческих названий (amphora, modius от μέδιμνος; congius от χοεύς, hemina, cyathus), частью переводами (acetabulum от ὀἐύβαφον), между тем как, наоборот, ἐέστης было извращением слова sextarius. Не все меры были тождественны, а только самые обыкновенные: для жидкостей конгиус или хус, секстариус, циатус; эти две последние употреблялись и для сухих товаров; римская amphora была приравнена по весу воды к аттическому таланту и относилась к греческому «метрету», как 3 : 2, а к греческому «медимну», как 2 : 1. Для того, кто умеет разбирать такого рода письмо, в этих названиях и цифрах изображены сицилийско-латинские торговые сношения во всей их оживленной деятельности и во всем их значении. Греческих численных знаков римляне не усвоили, но воспользовавшись из греческого алфавита ненужными для них изображениями трех гортанных букв, для того чтобы образовать из них цифры 50 и 1000, а может быть, также и 100. В Этрурии, как кажется, именно таким путем приобрели знак во всяком случае для цифры 100. Впоследствии цифровая система двух соседних народов по обыкновению стала общей, и римская система была в своих главных чертах усвоена в Этрурии.
Точно таким же образом римский и, по-видимому, вообще италийский календарь начал развиваться самостоятельно, а потом подчинился греческому влиянию. В том, что касается разделения времени, человеческое внимание останавливается прежде всего на регулярно следующих одни за другими восходах и заходах солнца, новолунии и полнолунии; поэтому время долго измерялось только сутками и месяцами не по циклическому вычислению, а по непосредственному наблюдению. О восходе и закате солнца до очень поздней поры возвещали на римском рынке публичные глашатаи; и как будто так же некогда возвещали жрецы при наступлении каждого из четырех лунных периодов о том, сколько пройдет дней до наступления следующего периода. Стало быть, в Лациуме, и вероятно, не только у сабеллов, но и у этрусков, счет вели по суткам и, как уже было ранее замечено, не вперед от последнего истекшего лунного периода, а назад от первого ожидаемого периода; этот счет вели по лунным неделям, которые при средней продолжительности в 7⅜ суток имели то семь, то восемь дней, и по лунным месяцам, которые при средней продолжительности синодического месяца в 29 суток 12 часов 44 минуты имели то двадцать девять дней, то тридцать. В течение некоторого времени сутки были для италиков самой мелкой единицей времени, а месяц самой крупной. Только в более позднюю пору они стали делить день и ночь на четыре части, а еще много позднее стали употреблять разделение времени по часам; этим объясняется, почему даже самые близкие между собою по происхождению племена расходились при определении начала суток: римляне считали это начало с полуночи, а сабеллы и этруски с полудня. И год еще не был распределен по календарю во всяком случае в ту пору, когда греки отделились от италиков, так как названия года и времен года образовались у греков и у италиков вполне самостоятельно. Однако италики, как кажется, еще в доэллинскую эпоху успели достигнуть если не неизменно установленного календарного порядка, то по меньшей мере установления двух самых крупных единиц времени. Обычный у римлян упрощенный счет по лунным месяцам с применением десятичной системы и наименование десятимесячного периода времени кольцом (annus), или годовым оборотом, носят на себе все признаки глубочайшей древности. Впоследствии, но все-таки в очень раннюю пору и без сомнения также до эпохи греческого влияния, в Италии образовалась, как уже было ранее замечено, двенадцатиричная система; а так как эта система возникла из наблюдения, что солнечный оборот равняется двенадцати лунным, то она, конечно, и была прежде всего применена к счислению времени; с этим находится в связи и тот факт, что названия месяцев (возникшие, конечно, лишь после того, как месяцы стали считаться частями солнечного года), в особенности названия марта и мая, одинаковы не у италиков и греков, а у всех италиков. Поэтому весьма вероятно, что задача ввести практический календарь, соответствующий и лунным и солнечным периодам, – задача, которая в некотором отношении похожа на квадратуру круга и которая была признана неразрешимой и отложена в сторону только после того, как над ней трудились в течение многих столетий, – занимала в Италии умы еще до начала той эпохи, когда возникли сношения с греками; впрочем, от этих чисто национальных попыток разрешить ее не осталось никаких следов.
Все, что нам известно о самом древнем римском календаре и о календарях некоторых латинских городов (о том, как измеряли время сабеллы и этруски, до нас не дошло никаких указаний), положительно основано на древнейшем греческом распределении года; это распределение старалось придерживаться в одно и то же время и лунных фаз и времен солнечного года и было построено на предположении, что лунный оборот имеет 29½ дней, солнечный оборот – 12½ лунных месяцев или 368¾ дня и что происходит постоянное чередование полных, или тридцатидневных, месяцев с неполными, или двадцатидевятидневными, месяцами и двенадцатимесячных годов с тринадцатимесячными, а чтобы согласовать эту систему с действительным ходом небесных явлений, были сделаны произвольные добавки и исключения. Весьма возможно, что это греческое распределение года сначала вошло у латинов в употребление без всяких изменений; но самая древняя форма римского года, какая нам исторически известна, уклоняется от своего образца не в циклических выводах и не в чередовании двенадцатимесячных годов с тринадцатимесячными, а в названиях и в продолжительности отдельных месяцев. Римский год начинается с началом весны; его первый месяц и вместе с тем единственный, который носит божеское имя, назван по имени Марса (Martius); три следующих получили свои названия от появления молодых ростков (aprilis), от вырастания (maius) и от процветания (iunius); месяцы с пятого до десятого названы по своему числовому порядку (quinctilis, sextilis, september, october, november, december); одиннадцатый получил свое название от слова «начинание» (ianuarius), причем, вероятно, делался намек на возобновление полевых работ после отдыха, кончавшегося в половине зимы; название двенадцатого и последнего месяца происходит от слова очищать (februarius). К этой регулярной смене одних месяцев другими прибавлялся в високосных годах еще безымянный «рабочий месяц» (mercedonius), который был последним и, стало быть, следовал за февралем. В определении длины месяцев римский календарь так же самостоятелен, как и в усвоенных им, вероятно, древненациональных названиях месяцев: вместо четырех лет греческого цикла (354 + 384 + 354 + 383 = 1475 дней), из которых каждый состоял из шести тридцатидневных месяцев и из шести двадцатидевятидневных, и вместо прибавки раз в два года високосного тринадцатого месяца, состоявшего то из тридцати, то из двадцати девяти дней, в римском календаре были установлены четыре года, каждый из четырех тридцатиоднодневных месяцев (первого, третьего, пятого и восьмого), из семи двадцатидевятидневных месяцев, из месяца февраля, который имел три года сряду по двадцать восемь дней, а в каждый четвертый год имел двадцать девять дней, и наконец из прибавлявшегося через каждый год двадцатисемидневного високосного месяца (355 + 383 + 355 + 382 = 1475 дней). Этот календарь также уклонялся от первоначального разделения месяца на четыре то семидневные, то восьмидневные недели; он, не обращая внимания на прочие календарные отношения, предоставил восьмидневной неделе постоянное значение, как нашим воскресеньям, и на ее начальные дни (noundinae) назначил еженедельные рынки. Наряду с этим он установил раз навсегда первую четверть в тридцатиоднодневных месяцах на седьмой день, в двадцатидевятидневных месяцах на пятый день, полнолуние в первых – на пятнадцатый день, а во вторых – на тринадцатый. При таком твердо установленном течении месяцев приходилось отныне возвещать только о числе дней, лежащих между новолунием и первою четвертью новолуния; отсюда первый день новолуния и получил название «возвещенного дня» (kalendae). Первый день второй недели, всегда состоявшей из восьми дней, был назван девятым (nonae) вследствие римского обыкновения включать в счет срока и срочный день. День полнолуния сохранил свое прежнее название idus (быть может, раздельный день). Главным мотивом такого странного преобразования календаря, как кажется, была вера в благотворное влияние нечетных чисел 8181
По той же причине все праздничные дни – нечетные, как те, которые повторяются в каждом месяце (kalendae – 1-го числа, nonae – 5-го или 7-го, idus – 13-го или 15-го), так и ранее перечисленные 45 табельных дней, – только за двумя исключениями. Это доходит до того, что при многодневных праздниках исключаются все четные дни, которые находятся в промежутках между нечетными; так, например, праздник Карменты справлялся 11 и 15 января, праздник дубрав – 19 и 21 июля, праздник привидений – 9, 11 и 13 мая.
[Закрыть], и хотя он вообще придерживается древнейшей формы греческого года, но в его уклонениях от нее ясно обнаруживается влияние пифагорейского учения, которое преобладало в ту пору в нижней Италии и вращалось в сфере числовой мистики. Но последствием этого было то, что этот римский календарь, несмотря на свое очевидное старание сообразоваться с течением луны и солнца, на самом деле не соответствует лунным периодам по крайней мере с такой же точностью, как им соответствует в общих чертах его греческий образец; а с солнечными периодами римский календарь, подобно древнейшему греческому, сообразовался только при помощи частных и произвольных исключений и, по всей вероятности, сообразовался далеко не вполне, так как при практическом применении календаря едва ли проявлялось более здравого смысла, чем при его составлении. И в удержании старого счисления по месяцам или, что одно и то же, по десятимесячным годам кроется безмолвное, но недвусмысленное сознание неправильности и ненадежности древнейшего римского солнечного года. В своих главных чертах этот римский календарь может считаться по меньшей мере за общелатинский. При повсеместной неустойчивости начала года и названий месяцев более мелкие уклонения в нумерации и в названиях не противоречат тому, что у всех латинов была одна основа для измерения времени; точно так и при своей календарной системе, в сущности вовсе не сообразовавшейся с месячными периодами, латины легко могли дойти до того, что стали определять длину месяцев совершенно произвольно, нередко заканчивая их годовыми праздниками; так, например, в Альбе продолжительность месяцев колебалась между 16 и 36 днями. Поэтому правдоподобно, что греческая триэтера была рано занесена из нижней Италии во всяком случае в Лациум, а быть может, и к другим италийским племенам и затем подверглась дальнейшим менее важным изменениям в различных городских календарях. Для измерения многолетних периодов времени можно было пользоваться годами правления царей; но сомнительно, чтобы в Греции и в Италии прибегали в древнейшие времена к этому столь употребительному на Востоке способу измерять время. Напротив того, четырехлетний високосный период и связанные с ним ценз и жертвенное очищение общины, как кажется, привели к счислению времени по люстрам, которое по своей основной идее имеет сходство с греческим счислением времени по олимпиадам; но оно скоро утратило свое хронологическое значение вследствие неправильностей, вкравшихся в него от задержек при переписи.








