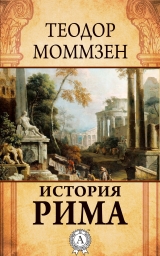
Текст книги "История Рима. Книга первая"
Автор книги: Теодор Моммзен
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 68 страниц)
После такого необычайного успеха карфагеняне были в состоянии возобновить давно приостановленные наступательные военные действия. Сын Ганнона Гасдрубал высадился в Лилибее с сильной армией, которая была способна бороться с римлянами главным образом благодаря тому, что имела при себе огромное число слонов (140), так как последняя битва с римлянами доказала карфагенянам, что недостаток хорошей пехоты может быть до некоторой степени восполнен слонами и конницей. Римляне также снова предприняли войну в Сицилии: добровольное очищение Клупеи доказывает, что уничтожение десантной армии снова дало в сенате перевес той партии, которая не желала переносить войну в Африку и довольствовалась постепенным завоеванием островов. Но и для этого был сооружен флот; а так как этот флот, который одержал победы при Милах, при Экноме и у Гермейского мыса, был уничтожен, то стали строить новый. Были заложены кили разом для 220 военных кораблей; никогда еще не было предпринято одновременной постройки такого числа кораблей, и были они готовы к отплытию в неимоверно короткое время – в три месяца. Весной 500 г. [254 г.] римский флот, состоявший из 300 большей частью вновь построенных кораблей, появился у северных берегов Сицилии. Благодаря удачному нападению со стороны моря римляне завладели самым значительным из городов карфагенской Сицилии Панормом и некоторыми другими небольшими городами, каковы Сол, Кефаледий, Тиндарис, так что на всем северном побережье острова остались во власти карфагенян только Термы. С тех пор Панорм был одной из главных римских баз в Сицилии. Между тем военные действия на суше нисколько не подвигались вперед; обе армии стояли под Лилибеем одна против другой, но римские военачальники, не знавшие, как подступиться к такой массе слонов, не пытались принудить неприятеля к решительному сражению. В следующем (501) [253 г.] году консулы не захотели воспользоваться своим преимущественным положением в Сицилии, а предпочли экспедицию в Африку не с целью высадки, а с целью ограбления приморских городов. В этом предприятии они не встретили препятствий; но после того как в незнакомых римским лоцманам опасных водах Малого Сирта они наткнулись на мели, с которых с трудом выбрались, флот был настигнут между берегами Сицилии и Италии бурей, которая стоила ему 150 кораблей; и на этот раз лоцманы убеждали и умоляли консулов идти вдоль берегов, но получили приказание направиться открытым морем прямо из Панорма в Остию. Тогда сенаторами овладело малодушие: они решили уменьшить военный флот до 60 парусных судов и ограничить морскую войну защитой берегов и конвоированием транспортов. К счастью, именно в это время приняла более благоприятный оборот сухопутная война в Сицилии, до тех пор не дававшая никаких результатов. В 502 г. [252 г.] римляне завладели последним городом, оставшимся в руках карфагенян на северном берегу острова, Термами, и важным островом Липарой, а в следующем году консул Луций Цецилий Метелл одержал под стенами Панорма блистательную победу над армией слонов (летом 503 г.) [251 г.]. Неосторожно выведенные на бой животные были отброшены поставленными в городском рву легкими римскими войсками и устремились частью в ров, частью на своих людей, которые в смятении теснились вместе с слонами к берегу в надежде укрыться на финикийских кораблях. Римляне захватили 120 слонов, а карфагенская армия, главная сила которой заключалась в этих животных, была вынуждена снова укрыться в крепостях. После того как римляне завладели и Эриксом (505) [249 г.], во власти карфагенян остались только Дрепана и Лилибей. Карфаген вторично предложил мир, но победа Метелла и изнеможение врага доставили в сенате перевес той партии, которая была сторонницей более энергичных действий. Мирные предложения были отвергнуты, и было решено приступить к решительной осаде обоих сицилийских городов, а для этой цели снова вывести в море флот из 200 парусных судов. Осада Лилибея, которая была первой большой и планомерной осадой, предпринятой римлянами, и которая вместе с тем была одной из самых упорных осад, какие известны в истории, была начата римлянами весьма успешно: их флоту удалось войти в гавань этого города и блокировать его со стороны моря. Однако осаждающие не были в состоянии совершенно закрыть доступ к городу с моря. Несмотря на затопленные ими суда и устроенные палисады и несмотря на тщательную с их стороны охрану, искусные карфагенские моряки, хорошо знакомые и с мелями и с фарватерами, поддерживали на быстроходных парусниках регулярное сообщение между осажденными в городе и стоявшим в дрепанской гавани карфагенским флотом; по прошествии некоторого времени карфагенской эскадре из 50 судов даже удалось проникнуть в гавань, доставить в город большое количество съестных припасов и подкрепления из 10 тысяч человек, а затем беспрепятственно удалиться. Не намного успешнее действовала и сухопутная армия осаждающих. Она начала атаку по всем правилам: были поставлены военные машины, которые в короткое время разрушили шесть башен в городской стене, так что брешь оказалась почти проходимой. Но даровитый карфагенский главнокомандующий Гимилькон отразил нападение, соорудив позади бреши вторую стену. Попытка римлян войти в тайное соглашение с гарнизоном также была вовремя предупреждена. Карфагенянам даже удалось в одну бурную ночь сжечь римские военные машины, хотя сделанная с этой целью первая вылазка была отражена. После этого римляне отказались от приготовлений к приступу и ограничились блокадой города с моря и с суши. При этом, конечно, было мало надежды на успех, пока не было возможности совершенно закрыть для неприятельских судов доступ в город, и не в лучшем положении, чем осажденные, находилась сухопутная армия римлян, у которой транспорты с провиантом нередко перехватывались сильной и отважной легкой кавалерией карфагенян и среди которой начали свирепствовать повальные болезни, распространенные в этой нездоровой местности. Тем не менее, перспектива завладеть Лилибеем имела такое большое значение, что все терпеливо выносили тяжелые лишения, которые должны были с течением времени привести к желаемому результату. Однако новому консулу Публию Клавдию задача держать Лилибей в блокаде показалась слишком малостоящей; он нашел, что лучше еще раз изменить план военных действий и с многочисленными заново снаряженными кораблями неожиданно напасть на неприятельский флот, стоявший неподалеку в дрепанской гавани. Со всей осадной эскадрой, принявшей на борт добровольцев из легионов, от отплыл в полночь и на рассвете благополучно достиг дрепанской гавани, держась правым флангом вблизи от берега, а левым в открытом море. В Дрепане командовал финикийский адмирал Атарбас. Хотя он и был застигнут врасплох, однако не потерял присутствия духа и не допустил, чтобы неприятель запер его внутри гавани: в то время как римские корабли входили в гавань, открывавшуюся с южной стороны в форме серпа, он вывел свои корабли через проход, остававшийся еще свободным, и построил их вне гавани в боевую линию. Римскому адмиралу не оставалось ничего другого, как скорее вывести из гавани свои передовые корабли и также построить их вне гавани в боевую линию; но при этом отступательном движении он потерял возможность выстроиться так, как это было бы желательно, и был принужден вступить в бой при самых невыгодных условиях: так как он не имел времени вывести обратно из гавани все свои корабли, в неприятельской боевой линии насчитывалось на пять кораблей больше, и кроме того он был так прижат к берегу, что его корабли не могли ни отступать, ни обходить свою линию с тыла, чтобы помогать один другому. Сражение было проиграно, прежде чем успело начаться, римский флот был так тесно окружен, что почти целиком достался в руки неприятеля. Хотя консул и спасся, так как прежде всех обратился в бегство, но финикийцами были взяты 93 римских корабля, т. е. более чем три четверти осадной эскадры вместе с находившимися на ней лучшими отрядами легионов. Это была первая и единственная большая морская победа, одержанная карфагенянами над римлянами. Фактически Лилибей избавился от блокады со стороны моря, потому что хотя остатки римского флота и возвратились на свою прежнюю позицию, но они были так слабы, что не могли запереть входа в гавань, который и прежде того никогда не был совершенно закрыт; да и сами они могли спастись от нападения карфагенских кораблей только при помощи сухопутной армии. Опрометчивость неопытного и преступно легкомысленного начальника уничтожила все плоды долгой и изнурительной осады, а те римские военные корабли, которые уцелели, вскоре после того сделались жертвой безрассудства его товарища. Второму консулу Луцию Юнию Пуллу было поручено погрузить в Сиракузах провиант для стоявшей под Лилибеем армии и провести транспортные суда вдоль южных берегов острова под конвоем римского флота, состоявшего из 120 военных кораблей; но консул сделал ошибку: вместо того чтобы вести свои корабли все вместе, он отправил вперед один транспорт и только по прошествии некоторого времени выступил со вторым. Когда известие об этом дошло до карфагенского вице-адмирала Карфалона, который блокировал римский флот в лилибейской гавани, имея под своим начальством 100 отборных кораблей, он тотчас же направился к южным берегам острова, отрезал римские эскадры одну от другой, став между ними, и принудил их укрыться у негостеприимных берегов Гелы и Камарины в двух не приспособленных для стоянки судов гаванях. Хотя нападения карфагенян были мужественно отражены римлянами при помощи береговых батарей, которые были еще задолго перед тем поставлены как там, так и вообще вдоль берега, однако римляне уже не могли помышлять ни о соединении двух флотов, ни о дальнейшем плавании, так что Карфалон мог предоставить стихиям довершить начатое им дело. Первая большая буря совершенно уничтожила оба римских флота на их неудобных рейдах, между тем как финикийский адмирал легко ее избег в открытом море со своими ничем не обремененными и хорошо управляемыми кораблями. Впрочем, римлянам удалось спасти большую часть и людей и грузов (505) [249 г.].
Римский сенат не знал, на что решиться. Война тянулась уже шестнадцатый год и на этом шестнадцатом году, по-видимому, была еще дальше от своей цели, чем в первом. В течение этого времени было совершенно уничтожены четыре больших флота, из которых три имели на борту римские войска; четвертую отборную сухопутную армию неприятель уничтожил в Ливии, не говоря уже о бесчисленных жертвах, которых стоили мелкие сражения на море и в Сицилии, а еще более форпостные схватки и эпидемии. Как велико было число людей, погибших во время войны, видно из того, что число граждан уменьшилось только с 502 по 507 г. [252—247 гг.] почти на 40 тысяч, т. е. на шестую часть общего их числа, причем в этот счет не входят потери союзников, которые несли на себе все бремя морской войны, да и в войнах на суше участвовали по меньшей мере наравне с римлянами. О денежных потерях нельзя составить себе даже приблизительное понятие, однако не подлежит сомнению, что как прямые убытки в виде кораблей и припасов, так и косвенные от застоя торговли были огромны. Но еще чувствительнее всех этих утрат было истощение тех средств, которыми надеялись довести войну до конца. Высадка в Африке, предпринятая со свежими силами вслед за целым рядом военных успехов, совершенно не удалось. В Сицилии брались приступом один город за другим; незначительные пункты были заняты римлянами, но обе сильные приморские крепости, Лилибей и Дрепана, казались еще более неприступными, чем прежде. Что же следовало делать? Поистине было от чего упасть духом. Сенаторами овладело уныние; они предоставили все дела их собственному течению, хотя ясно сознавали, что затягивавшаяся без цели и без конца война была для Италии более пагубна, чем крайние усилия, для которых пришлось бы собрать всех способных носить оружие людей и издержать последнюю серебряную монету; но у них недостало ни мужества, ни доверия к народу и к фортуне, для того чтобы к прежним бесплодно принесенным жертвам прибавить новые. Они упразднили флот и стали довольствоваться тем, что поощряли каперство, а тем капитанам, которые изъявляли готовность заниматься морскими разбоями за свой собственный страх и риск, отдавали для этой цели в распоряжение казенные военные корабли. Сухопутную войну они продолжали лишь номинально, потому что нельзя было действовать иначе, но ограничивались наблюдением за сицилийскими крепостями и старались сохранить по крайней мере то, чем владели, хотя и это, с тех пор как не имелось флота, требовало очень многочисленной армии и чрезвычайно дорого стоивших приготовлений. Если Карфаген когда-либо был в состоянии смирить могущественного противника, то именно в тот период. Понятно, что и там силы были истощены; однако при тогдашнем положении дел финикийские финансы не могли быть до такой степени расстроены, чтобы карфагеняне не были в состоянии продолжать с настойчивостью наступательную войну, которая требовала от них только денег. Но карфагенское правительство не отличалось энергией: напротив того, оно было слабо и медлительно, если легкий и верный выигрыш или крайняя необходимость не побуждали его к предприимчивости. С радости, что избавились от римского флота, карфагеняне безрассудно довели до упадка и свой собственный, ограничиваясь, по примеру противника, ведением малой войны на суше и на море как в Сицилии, так и поблизости от нее.
Таким образом, прошло шесть лет войны (506—511) [248—243 гг.], в течение которых не произошло ничего замечательного; это были самые бесславные годы римской истории этого столетия – бесславные также и для карфагенян. Однако среди этих последних нашелся человек, думавший и действовавший иначе, чем его соотечественники. Молодой, подававший большие надежды офицер Гамилькар, по прозванию Барак или Барка, т. е. молния, принял в 507 г. [247 г.] главное командование в Сицилии. Его армии, как и вообще всем карфагенским армиям, недоставало надежной и хорошо обученной пехоты, а правительство, которое, быть может, и было бы в состоянии создать таковую и во всяком случае было обязано попытаться это сделать, относилось пассивно к поражениям и в лучшем случае приказывало иногда распинать на кресте разбитых главнокомандующих. Поэтому Гамилькар решился обойтись без его содействия. Ему было хорошо известно, что наемные солдаты были так же мало привязаны к Карфагену, как и к Риму, и что он может ожидать от своего правительства не финикийских или ливийских рекрут, а в лучшем случае – только позволения защищать отечество с помощью своих людей как ему заблагорассудится, лишь бы только это ничего не стоило. Но он знал так же хорошо и самого себя, и своих солдат. Его наемникам, конечно, не было никакого дела до Карфагена; но настоящий полководец способен заменить собою для солдат отечество, а именно таким полководцем и был молодой главнокомандующий. Он начал с того, что стал вести форпостную войну перед Дрепаной и Лилибеем и этим мало-помалу приучил солдат не бояться римских легионеров; затем он укрепился на горе Эйркта (Monte Pellegrino близ Палермо), которая господствовала как крепость над окрестной страной, и поселил там своих солдат с их женами и детьми; оттуда они стали делать набеги на равнину, между тем как финикийские каперы опустошали берега Италии вплоть до Кум. Таким способом он мог обеспечить своих солдат продовольствием в избытке, не требуя из Карфагена денег; а поддерживая морем сношения с Дрепаной, он грозил внезапным нападением лежащему поблизости важному городу Панорму. Не только римляне не были в состоянии вытеснить его с этой скалы, но после непродолжительной борьбы подле Эйркте Гамилькар устроил такую же крепкую позицию в Эриксе. Эта гора, на склоне которой стоял город того же имени, а на вершине – храм Афродиты, находилась до того в руках римлян, которые тревожили оттуда своими нападениями Дрепану. Гамилькар завладел городом и осадил святилище, между тем как римляне, в свою очередь, окружили его со стороны равнины. Вершину горы защищали с отчаянной храбростью кельтские перебежчики из карфагенской армии, которым римляне поручили оборону храма; это была шайка разбойников, ограбившая во время осады храм и совершавшая там всякие бесчинства; но и Гамилькар не позволил вытеснить себя из города и поддерживал постоянную связь на море с карфагенским флотом и с гарнизоном Дрепаны. Сицилийская война, по-видимому, принимала все более неблагоприятный для римлян оборот. Римское государство теряло в ней и свои деньги и своих солдат, а римские полководцы – свою славу; уже стало ясно, что ни один из римских генералов не мог равняться с Гамилькаром и что уже недалеко было то время, когда карфагенские наемники будут в состоянии смело вступить в борьбу с легионерами. Каперы Гамилькара все смелее нападали на берега Италии; против одного высадившегося там карфагенского отряда даже пришлось выступить в поход претору. Если бы так прошло еще несколько лет, то Гамилькар предпринял бы из Сицилии во главе флота то же, что впоследствии предпринял из Испании его сын сухим путем. Тем временем римский сенат продолжал пребывать в бездействии, так как партия малодушных составляла в нем большинство. Тогда несколько проницательных и отважных людей решились спасти государство без правительственной санкции и положить конец пагубной сицилийской войне. Удачные экспедиции корсаров хотя и не вдохнули мужества в нацию, но пробудили энергию и надежду в некоторых узких кругах; занимавшиеся морскими разбоями суда были собраны в эскадру, которая сожгла на африканском берегу Гиппон и с успехом вступила перед Панормом в бой с карфагенянами. По частной подписке, к которой прибегали и в Афинах, но которая никогда не достигала там таких громадных размеров, богатые и патриотически настроенные римляне выставили военный флот, основой для которого послужили построенные для каперской деятельности корабли вместе с их опытными командами и который был сооружен более тщательно, чем все флоты, прежде строившиеся самим государством. В летописях истории является едва ли не беспримерным тот факт, что на двадцать третьем году тяжелой войны несколько граждан по собственному почину создали для государства флот из 200 линейных кораблей с экипажем в 60 тысяч матросов. Консул Гай Лутаций Катул, на долю которого выпала честь вести этот флот к берегам Сицилии, почти не встретил там противников; несколько карфагенских кораблей, с которыми Гамилькар предпринимал свои набеги, исчезли перед более сильным неприятельским флотом, и римляне почти без всякого сопротивления заняли гавани Лилибея и Дрепаны, к энергичной осаде которых они теперь приступили с моря и с суши. Карфаген был застигнут совершенно врасплох; даже обе крепости были настолько слабо обеспечены продовольствием, что очутились в очень опасном положении. Карфагеняне стали сооружать флот, но как они ни спешили, а до истечения года у берегов Сицилии не появилось ни одного карфагенского судна; когда же наскоро собранные ими суда показались весной 513 г. [241 г.] перед Дрепаной, то это был скорее транспортный, чем готовый к бою военный флот. Финикийцы надеялись беспрепятственно пристать к берегу, выгрузить припасы и принять на борт войска, необходимые для морского сражения; но римские корабли загородили им путь и принудили их принять сражение (10 марта 513 г.) [241 г.] подле маленького острова Эгузы (Favignana), в то время как они собирались идти от Священного острова (теперешняя Maritima) в Дрепану. Исход сражения не был ни минуты сомнительным: хорошо сооруженный и снабженный надежными командами римский флот, находившийся под начальством способного вождя претора Публия Валерия Фальтона (который заменил консула Катула, еще прикованного к постели раной, полученной под Дрепаной), с первого натиска опрокинул тяжело нагруженные неприятельские корабли, которые к тому же были и плохо и слабо вооружены; пятьдесят кораблей были потоплены, а с захваченными семьюдесятью победители вошли в Лилибейскую гавань. Последнее энергичное усилие римских патриотов принесло хорошие плоды: оно доставило победу, а вместе с победой и мир. Карфагеняне прежде всего распяли на кресте побежденного адмирала, чем нисколько не изменили положения дел, а затем послали сицилийскому главнокомандующему неограниченные полномочия на заключение мира. Несмотря на то что плоды семилетних геройских трудов Гамилькара были уничтожены по чужой вине, он великодушно подчинился неизбежному, но этим не изменил ни своей воинской чести, ни своему народу, ни своим замыслам. В Сицилии уже нельзя было оставаться с той минуты, как на море стали господствовать римляне, а от карфагенского правительства, тщетно пытавшегося пополнить свою пустую казну государственным займом в Египте, нельзя было ожидать, чтобы оно сделало хотя еще одну попытку одолеть римский флот. Поэтому Гамилькар уступил остров римлянам. Зато самостоятельность и целость карфагенского государства и карфагенской территории были категорически признаны в обычной форме. Рим обязался не заключать отдельных союзов и не предпринимать войн с членами карфагенского союза, т. е. с подвластными Карфагену и зависимыми от него общинами, не предъявлять внутри этой сферы никаких верховных прав и не набирать рекрут; точно такие же обязательства принял на себя Карфаген по отношению к членам римского союза 184184
Предположение, что карфагеняне обязались не посылать военных кораблей внутрь пределов римской симмахии и стало быть в Сиракузы, а может быть даже и в Массалию ( Зон., 8, 17), кажется правдоподобным, но в тексте договора об этом ничего не сказано ( Полибий, 3, 27).
[Закрыть]. Что касается второстепенных условий, то само собою разумеется, что карфагеняне обязались безвозмездно возвратить римских пленников и уплатить военную контрибуцию; однако требование Катула, чтобы Гамилькар выдал оружие и римских перебежчиков, было отвергнуто карфагенянином решительно и с успехом. Катул отказался от второго из этих требований и дозволил финикийцам беспрепятственно удалиться из Сицилии, внеся за каждого человека умеренный выкуп в 18 динариев (4 талера). Если карфагеняне не желали продолжения войны, то они могли быть довольны этими мирными условиями. Снисходительность же римского главнокомандующего объясняется отчасти естественным желанием доставить своему отечеству наряду с триумфом и мир, отчасти воспоминаниями о Регуле и изменчивости военного счастья, отчасти тем соображением, что наконец доставившее победу патриотическое воодушевление не может быть вызвано по заказу и не может повториться, и, быть может, отчасти личными достоинствами Гамилькара. Положительно известно, что в Риме остались недовольны этим проектом мирного договора и что народное собрание сначала отказало в его ратификации, без сомнения подчиняясь влиянию тех патриотов, которые соорудили флот. Но мы не знаем, на каком основании состоялся этот отказ, и поэтому не можем решить, было ли предложение мира отвергнуто только с целью вынудить от неприятеля еще некоторые уступки или же возражавшие против него помнили, что Регул требовал от Карфагена отречения от политической независимости, и решились продолжать войну, пока не будет достигнута эта цель, имея таким образом в виду не мир с Карфагеном, а его покорение. Если отказ был вызван соображениями первого рода, то он был, по-видимому, ошибкой: в сравнении с приобретением Сицилии всякие другие выгоды были ничтожны, а ввиду энергии и изобретательности Гамилькара было неблагоразумно рисковать главным приобретением из-за побочных целей. Если же восставшая против заключения мира партия видела в полном политическом уничтожении Карфагена единственный способный удовлетворить римскую общину исход войны, то этим она доказывала свое политическое чутье и способность предчувствовать будущие события; но достало ли бы у Рима сил, для того чтобы возобновить попытку Регула и довести ее до конца так, чтобы одолеть не только мужество, но и стены могущественного финикийского города, – это уже другой вопрос, на который теперь никто не осмелится ответить ни положительно, ни отрицательно. Решение этого важного дела было, наконец, возложено на комиссию, которая должна была вынести свое заключение в Сицилии, на самом месте военных действий. Она утвердила проект мирного договора в его главных чертах; только выговоренная от Карфагена сумма контрибуции была увеличена до 3200 талантов (5½ млн. талеров), из которых одна треть уплачивалась немедленно, а остальная сумма рассрочивалась на ежегодные взносы в течение десяти лет. Если в окончательный мирный договор была внесена кроме уступки Сицилии также уступка находящихся между берегами Италии и Сицилии островов, то это конечно была только редакционная поправка, так как само собой разумеется, что отказавшийся от обладания Сицилией Карфаген не мог удерживать в своей власти остров Липару, которым уже задолго до того времени завладел римский флот; что же касается подозрения, будто в мирный договор была умышленно включена двусмысленная статья относительно Сардинии и Корсики, то оно незаслуженно и неправдоподобно. Таким образом, соглашение было наконец достигнуто. Непобежденный полководец побежденной нации спустился с гор, которые так долго оборонял, и передал новым владетелям острова крепости, находившиеся во власти финикийцев непрерывно по крайней мере в течение 400 лет, от стен которых были отбиты все приступы эллинов. На Западе воцарился мир (513) [241 г.].
Остановим еще на минуту наше внимание на борьбе, которая передвинула границу римских владений на омывающие полуостров моря. Это была одна из самых продолжительных и самых трудных войн, какие приходилось вести римлянам; к моменту ее начала еще не родилась большая часть тех солдат, которые сражались в последней решительной битве. И все же, несмотря на то что в ней тоже встречаются блестящие эпизоды, едва ли можно указать другую войну, которую римляне вели так же плохо и так же нерешительно и в военном и в политическом отношении. Впрочем, иначе и быть не могло, так как эта война совпала с процессом изменения римской политической системы, переходившей от италийской политики, которая уже оказывалась недостаточной, к политике великого государства, которая еще не нашла нужных форм. Римский сенат и римское военное дело были как нельзя лучше организованы для целей чисто италийской политики. Вызванные этой политикой войны носили чисто континентальный характер и опирались как на последнюю операционную базу на находившуюся в центре полуострова столицу и затем на цепь римских крепостей. Задачи, которые приходилось разрешать, были преимущественно тактические, а не стратегические; передвижения войск и военные операции были второстепенным делом, а главным делом были битвы; осадная война находилась в зачаточном состоянии; море и морские войны принимались в соображение лишь мимоходом. Если мы вспомним, что в битвах того времени вследствие преобладания холодного оружия все решалось рукопашными схватками, то нам станет понятно, почему совещательное собрание было в состоянии руководить такими военными операциями, а начальник общины, кто бы он ни был, командовать армией. И вот все сразу изменилось. Сфера борьбы расширилась в необозримую даль, в неведомые страны другой части света и за громадные водные пространства; каждая морская волна была дорогой для неприятеля, из каждой гавани можно было ожидать его нашествия. Тогда римлянам пришлось в первый раз испробовать свои силы на осаде укрепленных пунктов, главным образом приморских крепостей, перед которыми терпели неудачи самые знаменитые греческие тактики. Для ведения войн уже было недостаточно сухопутных армий и системы гражданского ополчения. Нужно было создать флот и – что было еще труднее – научиться им пользоваться; нужно было отыскивать самые удобные пункты для нападения и для обороны, научиться сосредоточивать и направлять военные силы, проектировать походы на долгое время и на дальнее расстояние и согласовывать их одни с другими; в противном случае и более слабый в тактическом отношении неприятель легко мог одержать верх над более сильным противником. Поэтому можно ли удивляться тому, что бразды такого управления стали ускользать из рук совещательного собрания и общинных начальников? В начале войны римляне, очевидно, не сознавали трудностей предприятия, и только в процессе борьбы мало-помалу стали раскрываться перед их глазами недостатки их прежней военной системы – отсутствие морских сил, недостаток твердого военного руководства, неприспособленность главнокомандующих и совершенная непригодность адмиралов. Эти пробелы отчасти восполнялись энергией и удачей; так, например, был восполнен недостаток флота. Но и это великое сооружение было лишь временной мерой, каковой оно осталось и впоследствии. Хотя римский флот и был создан, но он был национальным только по названию, а обходились с ним всего лишь как с пасынком; служба на кораблях всегда ценилась ниже высокопочетной службы в легионах; флотские офицеры были большей частью из италийских греков, а экипаж состоял из подданных или из рабов и всякого сброда. Италийский крестьянин боялся моря и никогда не излечился от этой боязни; в числе трех вещей, в которых Катон раскаивался всю свою жизнь, было между прочим и то, что он однажды поехал на корабле туда, куда мог бы пойти пешком. Причиной этому были отчасти тогдашние условия морского дела; так как кораблями служили гребные галеры, то едва ли было возможно облагородить службу гребцов; зато можно было бы по меньшей мере организовать собственные морские легионы и создать особое сословие римских морских офицеров. Следовало бы воспользоваться национальным порывом, для того чтобы организовать морские силы, значительные не только по числу судов, но и по их быстроходности и по опытности матросов, тем более что начало этому делу уже было положено каперством, получившим сильное развитие во время продолжительной войны; но правительство не сделало ни шага на этом пути. Тем не менее, римский флот даже при своем неповоротливом величии был самым гениальным творением сицилийской войны и как в начале ее, так и в конце склонил весы на сторону Рима. Гораздо труднее было избавиться от тех недостатков, которые нельзя было устранить без внесения изменений в государственный строй. Под влиянием то одной, то другой из соперничающих партий сенат переходил от одного плана военных действий к другому и впадал в такие невероятные ошибки, как очищение Клупеи и неоднократное сокращение флота; начальник, командовавший в течение одного года армией, осаждал сицилийские города, а его преемник, вместо того чтобы принудить эти города к сдаче, опустошал берега Африки и находил нужным дать морское сражение; главнокомандующие менялись в силу закона ежегодно – и все это нельзя было изменить, не затронув таких конституционных вопросов, разрешить которые было труднее, чем построить флот, хотя еще менее было возможно соединить это с требованиями такой войны. Важнее же всего было то, что никто не умел приноравливаться к новым условиям ведения войны – ни сенат, ни военные начальники. Экспедиция Регула может служить примером того странного заблуждения римлян, будто на войне все зависит от тактического перевеса. Едва ли найдется другой полководец, которому фортуна благоприятствовала так же, как Регулу: в 498 г. [256 г.] он стоял почти там же, где стоял 50 лет спустя Сципион, только с той разницей, что ему не приходилось иметь дела ни с таким противником, как Ганнибал, ни с испытанной в боях неприятельской армией. Однако сенат отозвал половину его армии, лишь только убедился в тактическом превосходстве римлян; в слепой уверенности в это превосходство главнокомандующий не двигался с места, вследствие чего был побежден стратегически, а потом принял сражение там, где оно было ему предложено, что привело и к тактическому поражению. Этот факт особенно знаменателен потому, что Регул был в своем роде способным и опытным полководцем. Причиной поражения римлян на тунисской равнине был именно тот крестьянский способ ведения войны, благодаря которому были завоеваны Этрурия и Самниум. Теперь уже сделалось ошибочным то когда-то верное положение, что всякий хороший гражданин годится в полководцы; при новой военной системе ведения войны главнокомандующими можно было назначать только тех, кто прошел военную школу и был одарен военной проницательностью, а эти качества, конечно, встречались не в каждом начальнике общины. Еще более пагубно было то, что командование флотом ставили в зависимость от высшего начальства сухопутной армии и что каждый даровитый правитель города считал себя способным не только для роли генерала, но и для роли адмирала. Причиной самых тяжелых поражений, понесенных римлянами в этой войне, были не бури и еще менее того карфагеняне, а самонадеянная ограниченность их штатских адмиралов. В конечном итоге Рим одержал верх; но то, что он удовольствовался гораздо менее значительными выгодами, чем те, каких он сначала потребовал, и даже чем те, какие ему были предложены, равно как энергичная оппозиция, которую встретило в Риме предложение о заключении мира, ясно свидетельствует о том, что эта победа была неполной, а заключенный им мир непрочным: и если Рим вышел из борьбы победителем, то он, конечно, был этим обязан не столько милости богов и энергии своих граждан, сколько ошибкам врагов, далеко превосходившим недостатки римского способа ведения войны.








