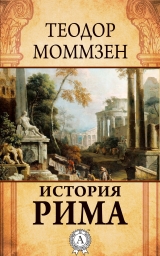
Текст книги "История Рима. Книга первая"
Автор книги: Теодор Моммзен
Жанры:
Прочая старинная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 68 страниц)
Точно так же была ограждена собственность (тех, кто не был способен носить оружие и, стало быть, не был способен охранять свое собственное достояние, как-то: несовершеннолетних, умалишенных и главным образом женщин; их охрана возлагалась на их ближайших наследников.
После смерти собственника его имущество переходило к его ближайшим наследникам, причем все одинаково близкие, не исключая и женщин, получали равные доли, а вдова получала одинаковую долю с каждым из детей. Законный переход наследства мог быть отменен только народным собранием, но, ввиду того что на имуществе могли лежать богослужебные повинности, в этом случае требовалось предварительное согласие жрецов; впрочем, разрешения такого рода, как кажется, и в раннюю пору давались часто, а в крайнем случае можно было обойтись и без них благодаря тому, что всякий мог свободно располагать своим имуществом в течение всей своей жизни: можно было передать все свое состояние одному из друзей, с тем чтобы после смерти собственника он разделил это состояние согласно желанию умершего. Древнее законодательство было незнакомо с отпущением рабов на волю.
Владелец конечно мог, если хотел, не пользоваться своим правом собственности; но этим не изменялось основное правило, что никакие взаимные обязательства не могут существовать между господином и рабом, а этот последний не мог получить в общине прав гостя и, еще менее, гражданина. Поэтому отпущение рабов могло первоначально носить лишь фактический, но не юридический характер, и владелец никогда не лишался права снова обходиться с вольноотпущенником как со своим рабом. Но из этого правила стали делать отступления в тех случаях, когда владелец обязывался предоставить своему рабу свободу не только перед этим рабом, но и перед общиной. Особой юридической формы для такого обязательства установлено не было, что и служит лучшим доказательством того, что первоначально вовсе не было никакого отпущения рабов на волю, но можно было достигать той же цели другими законными путями – путем завещания, тяжбы и ценза. Если владелец объявил раба свободным при совершении завещания перед народным собранием, или если он дозволил своему рабу предъявить против него в суде иск о свободе, или если он позволил рабу внести свое имя в список ценза, то хотя вольноотпущенник и не считался гражданином, но считался независимым как от своего прежнего господина, так и от его наследников и сначала поступал в число клиентов, а впоследствии в число плебеев. Освобождение сына было сопряжено с еще большими затруднениями, нежели освобождение раба, по той причине, что связь владельца с его рабом была делом случайности и потому могла быть добровольно разорвана, между тем как отец всегда оставался отцом для своего сына. Поэтому, чтобы освободиться из-под отцовской власти, сыновьям впоследствии приходилось сначала поступать в рабство и потом освобождаться из рабской зависимости; но в ту эпоху, о которой теперь идет речь, вообще еще не было никакой эмансипации.
По этим законам жили в Риме граждане и клиенты, среди которых, сколько нам известно, с самого начала существовало полное равенство в их частных правах. Напротив того, иностранец, если он не поступал под защиту какого-нибудь римского патрона и не жил в качестве его клиента, был бесправен как лично, так и по отношению к своему имуществу. Все, что римский гражданин отбирал у него, считалось так же законно приобретенным, как и взятая с морского берега никому не принадлежащая раковина; только в том случае если римский гражданин приобретал землю, находящуюся вне римских границ, он мог быть ее фактическим владельцем, но не считался ее законным собственником, потому что расширять границы общины отдельный гражданин не имел права. Не так было во время войны: все движимое и недвижимое имущество, какое приобретал солдат, сражавшийся в рядах армии, доставалось не ему, а государству, от которого, стало быть, и в этом случае зависело передвинуть границу вперед или назад. Исключения из этих общих правил возникали вследствие особых государственных договоров, предоставлявших внутри римской общины особые права членам чужих общин. Так, прежде всего вечный союз между Римом и Лациумом признавал законную силу всех договоров, заключенных между римлянами и латинами, и вместе с тем устанавливал для них ускоренный способ гражданского процесса через присяжных «восстановителей» (reciperatores); наперекор римскому обыкновению возлагать решение всех тяжб только на одного судью этот суд состоял из многих лиц и в нечетном числе и представлял нечто вроде коммерческого и ярмарочного суда, состоявшего из судей обеих наций и одного председателя. Они разбирали дело в том месте, где был заключен договор, и были обязаны окончить разбирательство не более чем через десять дней. Формы, внутри которых вращались отношения между римлянами и латинами, конечно были общими для всех и точно такими, какие были установлены для сношений между патрициями и плебеями, так как манципация и заемное обязательство (nexum) первоначально были не формальными актами, а наглядными выражениями тех юридических понятий, которые господствовали по крайней мере повсюду, где был в употреблении латинский язык. Иначе и в другой форме велись сношения с заграничными странами. Как кажется, еще в раннюю пору были заключены с церитами и с другими дружественными народами договоры о торговых сношениях и юридических порядках, и было положено основание тому международному частному праву (ius gentium), которое мало-помалу развилось в Риме рядом с его гражданским правом. Это развитие правовых отношений оставило после себя следы в замечательном установлении так называемой «передачи» (mutuum от mutare, как dividuus от dividere) – такой формы займа, которая не заключалась, как nexum, в ясно выраженном перед свидетелями признании долга со стороны должника, а состояла в простой передаче денег из рук в руки и, очевидно, была обязана своим происхождением торговле с иноземцами, между тем как nexum возникло из долговых сношений между туземцами. Поэтому достойно внимания и то, что это слово встречается в сицилийско-греческом языке в форме μοῖτον, с чем находится в связи и воспроизведение латинского carcer в сицилийском καρκαρον. Так как языкознание не позволяет сомневаться в том, что оба эти слова были по своему происхождению латинскими, то их появление в сицилийском местном наречии служит веским доказательством таких частых сношений латинских мореплавателей с жителями Сицилии, которые нередко заставляли этих мореплавателей занимать у туземцев деньги и подвергаться общему во всех древних законодательствах последствию неуплаты долга – тюремному заключению. Напротив того, название сиракузской тюрьмы «каменоломня», или λατομὶαι, было издревле перенесено на расширенную римскую государственную тюрьму – lautumiae.
Все эти постановления в сущности были древнейшей кодификацией обычного римского права, состоявшейся лет через пятьдесят после упразднения царской власти, а их существование в эпоху царей, если и может быть оспариваемо в некоторых отдельных пунктах, не подлежит сомнению в целом; в своей совокупности они представляют нам законодательство уже сильно развившегося земледельческого и торгового города – законодательство, отличавшееся и своим либеральным направлением, и своею строгою последовательностью. Здесь уже совершенно исчезли условные символические формы, какие встречаются, например, в германском законодательстве. Не подлежит сомнению, что такие формы когда-то были в употреблении и у италиков; ясным доказательством этого служат, например, форма домового обыска, при котором следователь, и по римскому и по германскому обычаю, должен был находиться без верхнего платья, в одной рубашке, и в особенности та очень древняя латинская формула для объявления войны, в которой встречаются два символа, бывшие в употреблении во всяком случае также у кельтов и у германцев, – «чистая трава» (herba pura, на языке франков – chrene chruda) как символ родной земли и опаленный огнем, покрытый кровью жезл как знак начала войны. Но за немногими исключениями, в которых исконные обычаи охраняются из религиозных мотивов (сюда принадлежат как объявление войны коллегией фециалов, так особенно и конфарреация), римское право, насколько оно нам известно, решительно и принципиально отвергает символ в его принципе и во всех случаях требует не более и не менее как полного и ясного выражения воли. Передача имущества, вызов к свидетельским показаниям и бракосочетание считаются совершенными, как только обе стороны ясно выразили свою волю; хотя и сохранилось обыкновение передавать имущество в руки нового собственника, дергать за ухо приглашенного в свидетели, покрывать голову новобрачной и вводить ее с торжественной процессией в дом мужа, но уже по самому древнему римскому законодательству все эти старинные обыкновения не имели никакого юридического значения. Подобно тому как из римской религии были отброшены все аллегории и вместе с тем всякие виды олицетворения, и из римского законодательства были отброшены все символы. Вместе с этим были совершенно устранены те более древние порядки, которые мы находим как в эллинских, так и в германских учреждениях и при которых общинная власть еще боролась с авторитетом поглощенных общиной более мелких родовых и окружных союзов; мы уже не находим внутри государства никаких дозволенных законом союзов, которые восполняли бы недостаточную государственную помощь, служа поддержкой один для другого, – не находим ни резких следов кровавой мести, ни стесняющей волю отдельного лица семейной собственности. Однако все это конечно когда-то существовало и у италиков, а следы таких порядков еще можно найти в некоторых отдельных богослужебных постановлениях, как например в обязанности невольного убийцы приносить козла отпущения ближайшим родственникам убитого; но уже в том древнейшем периоде римской истории, который мы в состоянии мысленно обозреть, все это было давно пережитым моментом. Хотя и род, и семья по-прежнему существовали в римской общине, но они так же мало стесняли и идеальное и реальное полновластие государства в государственной сфере, как и та свобода, которую государство предоставляло и обеспечивало гражданам. Коренным основанием права повсюду является государство; свобода – не что иное, как другое выражение для обозначения прав гражданства в их самом широком значении; всякая собственность основана на ясно выраженной или подразумеваемой передаче ее от общины отдельному лицу; договор имеет силу только после того, как община засвидетельствовала его через своих представителей; завещание действительно только в том случае, если оно было утверждено общиной. Сфера публичного права и сфера частного права резко отграничены одна от другой: преступление против государства подвергает виновного непосредственно государственному суду и всегда влечет за собою смертную казнь; преступление против согражданина или против гостя заглаживается прежде всего путем соглашения посредством пени или посредством удовлетворения обиженного; оно никогда не наказывается смертью и в худшем случае влечет за собою утрату свободы. Здесь идут рука об руку, с одной стороны, самый широкий либерализм во всем, что касается свободы сношений, с другой стороны, самый строгий способ взысканий – точь-в-точь как в современных торговых государствах рядом с всеобщим правом обязываться векселями существует самый строгий порядок взыскания по таким обязательствам. Гражданин и клиент стоят – в том, что касается деловых сношений, – совершенно на равной ноге; государственные договоры предоставляют и гостям широкую равноправность; женщины поставлены по правоспособности совершенно наравне с мужчинами, хотя и стеснены в своей дееспособности; даже только что достигший совершеннолетия юноша получает самое широкое право распоряжаться своей собственностью, и вообще всякий, кто вправе располагать самим собою, так же полновластен в своей сфере, как полновластно государство в сфере общественной. В особенности характерна в этом отношении кредитная система: кредита под залог земельной собственности вовсе не существует, но вместо ипотечного долга сразу является то, чем в наше время оканчивается ипотечный процесс, – переход собственности от должника к кредитору; напротив того, личный кредит гарантирован самым широким – чтобы не сказать не в меру широким – образом, так как законодатель дает кредитору право поступить с неоплатным должником как с вором, и то, что Шейлок выговаривает себе, полуиздеваясь у своего смертельного врага, дается здесь каждому должнику законодателем со всею законодательною серьезностью, даже пункт об излишне отрезанном оговорен более тщательно, чем у шекспировского еврея. Законодатель не мог более ясно выразить своего намерения соединить свободное от долгов земледельческое хозяйство с коммерческим кредитом и преследовать с беспощадной энергией всякую мнимую собственность и всякое нарушение данного слова. Если мы примем, сверх того, в соображение, что за всеми латинами было рано признано право выбирать постоянное местожительство и что так же рано была признана законность гражданских браков, то мы придем к убеждению, что это государство, требовавшее столь многого от своих граждан и дошедшее в понятии и подчиненности частных лиц целому так далеко, как никакое другое и до и после него, поступило так и могло так поступать только потому, что ниспровергло все преграды для сношений между людьми и в такой же степени сняло оковы со свободы, как и ограничило ее. И в тех случаях, когда римское законодательство что-либо разрешает, и в тех, когда оно что-либо воспрещает, оно всегда выражается без оговорок: если не имевший законного защитника чужеземец находился в положении дикого зверя, которого мог травить всякий, кто пожелает, то гость стоял зато на равной ноге с гражданином; договор обыкновенно не давал никакого права на предъявление иска, но в случае признания прав кредитора этот договор был так всесилен, что бедняк нигде не находил спасения, ни с чьей стороны не вызывал человеколюбивой и справедливой снисходительности, как будто бы законодатель находил наслаждение в том, что повсюду окружал себя самыми резкими противоречиями, выводил из принципов самые крайние последствия и насильственно навязывал даже самым тупоумным людям убеждение, что понятие о праве то же, что понятие о тирании. Римлянину были незнакомы те поэтические формы и та приятная наглядность, которые так привлекательны в германских уложениях; в его праве все ясно и точно, нет никаких символов и нет никаких лишних постановлений. Эти законы не жестоки; все необходимое совершается без сложных деталей, даже смертная казнь; что свободного человека нельзя подвергать пытке – это основное положение римского права, к которому другие народы должны были стремиться в течение тысячелетий. Но это право было ужасно своей неумолимой строгостью, которая даже не смягчалась гуманной практикой, так как это было народное право: ужаснее свинцовых крыш и застенков было то погребение заживо, которое совершалось на глазах бедняков в долговых башнях зажиточных людей. Но в том-то и заключалось величие Рима, что в нем народ сам себе создал и сам на себе вынес такое законодательство, в котором господствовали и до сих пор еще господствуют без всякого искажения и без всякого смягчения вечные принципы свободы и зависимости, собственности и законности.
ГЛАВА XII
РЕЛИГИЯ.
Римский мир богов, как уже было ранее замечено, возник из отражения земного Рима в высшей и идеальной сфере созерцания, в которой и малое и великое воспроизводились до мельчайших подробностей. В этом мире отражались государство и род, как всякое естественное явление, так и всякое проявление умственной деятельности; в нем отражались и каждый человек, и каждое место, и каждый предмет, и даже каждое действие, совершавшееся в области римского права; подобно тому как земные вещи находятся в состоянии постоянного движения, так же вместе с ними колеблются и боги. Гений – хранитель отдельного какого-нибудь действия – жил не дольше, чем само действие; гений – хранитель отдельного человека – жил и умирал вместе с самим человеком, и эти божественные существа можно считать бессмертными только в том смысле, что постоянно вновь нарождаются подобные действия и однородные люди, а вместе с ними и одинаковые гении. Как над римской общиной царили римские боги, так и над каждой из чужеземных общин царили ее собственные боги; но как ни резко было различие между гражданином и негражданином, между римским богом и чужеземным, все-таки и чужеземцы, и чужеземные боги могли приобретать в Риме права гражданства в силу общинного постановления, а когда граждане завоеванного города переселялись в Рим, то и их богов приглашали туда же перенести свое местопребывание.
О древнейшей сфере римских богов – в том виде, как она образовалась до знакомства римлян с греками, – мы узнаем из списка публичных и носящих особые названия праздничных дней (feriae publicae) римской общины: он сохранился в календаре общины и бесспорно представляет самый древний из всех дошедших до нас документов о римской древности. Первое место в нем занимают боги Юпитер и Марс, равно как двойник этого последнего – Квирин. Юпитеру посвящены все дни полнолуния (idus), сверх того, все праздники вина и многие другие, о которых будет упомянуто далее; его антагонисту, «злому Юпитеру» (Vediovis), было посвящено 21 мая (agonalia); Марсу принадлежали первый день нового года, 1 марта, и главным образом большое военное торжество, происходившее в течение этого месяца, названного по имени самого бога. Этому торжеству предшествовали 27 февраля конские состязания (equirria), а его главными днями в течение марта были: день ковки щитов (equirria, или Mamuralia, марта 14), день военной пляски на площади народных собраний (quinquatrus, марта 19) и день освящения военных труб (tubilustrium, марта 23). Подобно тому как войну начинали с этого праздника, так и осенью, после окончания похода, снова справляли праздник Марса – день освящения оружия (armilustrium, октября 19). Наконец, второму Марсу, т. е. Квирину, принадлежало 17 февраля (Quirinalia). Между остальными праздниками первое место занимают те, которые относятся к земледелию и к виноделию, а рядом с ними праздники пастухов играют лишь второстепенную роль. Сюда прежде всего принадлежит длинный ряд весенних праздников в апреле; во время их приносились жертвы: 15-го числа Теллуру, т. е. кормилице-земле (fordicidia, приносилась в жертву стельная корова), 19-го Церере, т. е. богине растительного мира (Cerialia), 21-го плодотворной богине стад Палере (Parilia), 23-го Юпитеру как хранителю виноградных лоз и впервые откупориваемых в этот день бочек прошлогоднего сбора (Vinalia), 25-го злому врагу посевов – рже (Robigus: Robigalia). По окончании полевых работ и после успешной уборки жатвы справлялся двойной праздник в честь бога уборки жатвы Конса (от condere) и в честь богини изобилия Опы: один раз – непосредственно после окончания работы жнецов (августа 21, Consualia; августа 25, Opiconsiva), а второй раз – в середине зимы, когда наполняющая амбары благодать может быть оценена по достоинству (декабря 15, Consualia; декабря 19, Oppalia), а чуткий здравый смысл древних распорядителей празднествами вставил между двух последних праздников праздник посева (Saturnalia от Saëturnus или Saturnus, декабря 17). Точно так и праздник виноградного сока, называвшийся также целебным (meditrinalia, октября 11), потому что свежему виноградному соку приписывали целебную силу, справлялся после окончания сбора винограда в честь Юпитера как бога вина; но первоначальное значение третьего праздника вина (Vinalia, августа 19) неясно. Затем следуют в конце года: волчий праздник (Lupercalia, февраля 17), который справляли пастухи в честь доброго бога Фавна, и праздник межевых камней (Terminalia, февраля 23), который справляли земледельцы; сверх того, справлялись: двухдневный летний праздник дубрав (Lucaria, июля 19, 21), который, вероятно, был посвящен лесным богам (Silvani), праздник источников (Fontinalia, октября 13) и праздник кратчайшего дня, после которого восходит новое солнце (An-geronalia, Divalia, декабря 21). В городе, который служил портом для всего Лациума, не менее важное значение имели: праздник моряков в честь морских богов (Neptunalia, июля 23), праздник пристани (Portunalia, августа 17) и праздник реки Тибра (Volturnalia, августа 27). Ремесла и искусства имели в этом кругу богов только двух заступников – бога огня и кузнечного мастерства, Вулкана, которому кроме названного его именем дня (Volcanalia, августа 23) был посвящен еще праздник освящения труб (Tubilustrium, мая 23), и затем Карменту (Carmentulia, января 11, 15), которую сначала чтили как богиню волшебных заклинаний и песен, а впоследствии стали чтить как покровительницу рождений. Домашней и семейной жизни были посвящены: праздник богини дома – Весты и праздник гениев кладовой – Пенатов (Vestalia, июня 19), праздник богини рождения 6363
Судя по всему, таково было первоначальное значение «матери утра», или Mater matuta; следует припомнить, что родиться в утренний час считалось за признак будущего благополучия, как это доказывают собственные имена Lucius и в особенности Manius. Mater matuta сделалась богиней моря и гавани лишь в более позднюю пору под влиянием мифа о Левкотее; уже тот факт, что эту богиню чтили преимущественно женщины, доказывает, что она первоначально не была богиней гавани.
[Закрыть], (Matralia, июня 11), праздник благословения дома детьми, посвященный Либеру и Либере (Liberalia, марта 17), праздник умерших (Feralia, февраля 21) и трехдневный праздник привидений (Lemuria, мая 9, 11, 13). К кругу гражданских отношений принадлежали два непонятных для нас праздника: бегства царя (Regifugium, февраля 24) и бегства народа (Poplifugia, июля 5), из которых во всяком случае последний был посвящен Юпитеру, – и кроме того, праздник семигорья (Agonia, или Septimontium, декабря 11). И богу «начала», Янусу, был посвящен особый день (Agonia, января 9). Значение некоторых других праздников для нас непонятно, таковы: праздник Фуррины (июля 25) и посвященный Юпитеру вместе с Аккой Ларенцией праздник Ларенталий, который, быть может, был праздником Лар (декабря 23). В этой табели вполне перечислены те дни общественных празднеств, которые были неизменно установлены, и хотя, без сомнения, исстари существовали, сверх того, и другие передвижные и случайные праздники, все-таки и то, что говорится в этой табели, и то, что в ней умалчивается, дает нам возможность заглянуть в такую древнюю эпоху, которая иначе почти совершенно пропала бы для нас. В то время, когда эта табель была составлена, уже совершилось слияние древней римской общины с римлянами с холмов, так как мы находим в ней рядом с Марсом и Квирина; но капитолийский храм еще не был в ту пору построен, так как в табели нет речи ни о Юноне, ни о Минерве; святилище Дианы на Авентине также еще не было воздвигнуто, и еще не было заимствовано от греков никаких религиозных воззрений. Пока италийское племя жило на полуострове, предоставленное самому себе, как римский, так и вообще италийский культ по всем признакам заключался главным образом в поклонении богу Маурсу, или Марсу; это был смертоубийственный бог 6464
Из слова Maurs – древнейший, дошедший до нас по преданию формы – возникают путем различных превращений звука uMars, Mavors, mors; переход в звук  (как в Paula, Pola и т. п.) встречается и в двойной форме Mar-Mor (ср. Ma-m
(как в Paula, Pola и т. п.) встречается и в двойной форме Mar-Mor (ср. Ma-m  rius) рядом с Mar-Mar и Ma-Mers.
rius) рядом с Mar-Mar и Ma-Mers.
[Закрыть]; его представляли себе преимущественно мечущим копья охранителем стад и божественным бойцом за граждан, низвергающим их врагов; само собой разумеется, что каждая община имела своего собственного Марса, которого считала самым могущественным и самым святым из всех; поэтому и всякое «посвященное весне» переселение, предпринятое с целью основания новой общины, совершалось под покровительством своего собственного Марса. Марсу посвящен первый месяц года как в римском месяцеслове, в котором помимо того вовсе не упоминается о богах, – так, по всей вероятности, и в месяцесловах латинском и сабельском; между римскими собственными именами, также вообще не имеющими ничего общего с именами богов, исстари были самыми употребительными: Марк, Мамерк, Мамурий; с Марсом и с его священным дятлом находится в связи древнейшее италийское предсказание; священный зверь Марса – волк – служил для римских граждан чем-то вроде герба, и все священные легенды, какие только была в состоянии создать фантазия римлян, относятся исключительно к богу Марсу и к его двойнику Квирину. Впрочем, отец Дионис – это более чистое и более гражданское, нежели воинственное, отражение существа римской общины – занимает в списке праздников более широкое место, чем Марс, а жрец Юпитера стоял по рангу выше обоих жрецов бога войны; но и этот последний играл в том списке выдающуюся роль, и даже весьма вероятно, что в то время, когда были установлены праздничные дни, Юпитер занимал по отношению к Марсу такое же место, какое занимал Ормузд по отношению к Митре, и что в воинственной римской общине и тогда был настоящим средоточием богопочитания воинственный бог смерти с своим мартовским праздником; напротив, богом веселящего сердце вина в это время считался не внесенный впоследствии греками «облегчитель забот» Дионис, а сам отец Юпитер.
В нашу задачу не входит описание римских богов во всех подробностях: но и в интересах истории необходимо обратить внимание на их своеобразный характер, в одно и то же время и низменный и задушевный. Отвлечение и олицетворение составляют сущность как римской, так и эллинской мифологии; эллинский бог также служил выражением для какого-нибудь явления природы или для какого-нибудь понятия, а то, что римлянину и греку каждое божество представлялось особою личностью, видно из воззрения на отдельных богов как на существа или мужского, или женского пола и из следующего воззвания к неизвестному божеству: «Бог ли ты или богиня, мужчина ты или женщина»; отсюда произошло и глубоко укоренившееся убеждение, что не следует громко произносить имя гения-хранителя общины из опасения, что неприятель, узнав это имя, станет призывать бога по имени и переманит его за предел общины. Остатки такого глубокого чувственного воззрения связаны именно с именем самого древнего и самого национального из италийских богов – Марса. Но, между тем как лежащая в основе всякой религии абстракция повсюду стремится все к более и более широким представлениям, пытается все глубже и глубже проникнуть в самую сущность вещей, римские религиозные образы, напротив того, остаются на поразительно низкой ступени воззрений и понятий. Между тем как у греков сколько-нибудь значительный мотив быстро разрастается в целую группу образов, в целый цикл идей, у римлян, напротив, основная мысль остается окоченелой в своей первоначальной наготе. В римской религии нет ничего самобытно ею созданного, что можно было бы поставить наряду с нравственным преображением земной жизни в религии Аполлона, с божественным опьянением в поклонении Дионису, с глубокомысленным и таинственным культом хтонических (подземных) богов и с мистериями. Она, пожалуй, имеет понятие и о «другом злом боге» (Ve-diovis), о призраках и привидениях (lemures), а впоследствии также о божествах зловредного воздуха, лихорадки, болезней и, быть может, даже воровства (laverna), но она не была в состоянии возбуждать того священного трепета, к которому также влечет человеческое сердце; она не была в состоянии проникнуться тем, что есть непостижимого и даже злого в природе и в человеке, без чего не может обойтись религия, если человек целиком должен растворяться в ней. В римской религии едва ли было что-либо покрытое таинственностью, кроме названий городских богов Пенатов; но сущность и этих богов была для всякого понятна. Национальное римское богословие старалось выяснить для себя все сколько-нибудь значительные явления и их свойства и затем, дав каждому из них надлежащее название, распределить их по разрядам (согласно с той классификацией лиц и вещей, которая лежала в основе частного права), для того чтобы знать, к какому богу или разряду богов следует обращаться и каким способом, и для того чтобы указать этот правильный способ народу (indigitare). Римское богословие в сущности и состояло из таких поверхностно-отвлеченных понятий, отличавшихся чрезвычайной простотой и наполовину заслуживающих уважения, наполовину смешных; понятия о посеве (saeturnus) и полевых работах (ops), о почве (tellus) и о межевых камнях (terminus) олицетворялись в самых древних и в самых высокочтимых римских божествах. Едва ли не самым своеобразным между всеми римскими богами и конечно единственным, для которого была придумана чисто италийская форма поклонения, был двуглавый Янус; однако и в нем не олицетворяется ничего кроме выражающей боязливую римскую набожность идеи, что перед начинанием всякого дела следует обращаться с молитвой к «духу начала». Здесь также сказывается глубокое убеждение, что римские понятия о богах столь же необходимо должны были быть распределены по разрядам, сколь неизбежно было, чтобы каждый из эллинских богов, благодаря тому что был одарен более яркою индивидуальностью, стоял от всех других особняком 6565
Что ворота, двери и утро (ianus matutinus) посвящались Янусу, что к нему обращались прежде всех других богов и что даже при чеканке монеты его стали изображать прежде Юпитера и других богов, – все это несомненно доказывает, что он олицетворял отвлеченные понятия об открытии и начале. И его двойная голова, которая смотрит в две стороны, находится в связи с отворяющимися на две стороны воротами. Его нельзя считать за бога солнца и года тем более потому, что названный его именем месяц первоначально был одиннадцатым, а не первым; этот месяц, вероятно, получил свое название от того, что в это время года оканчивалась пора зимнего отдыха и снова начинался ряд полевых работ. Впрочем, само собой разумеется, что, с тех пор как январь сделался первым месяцем в году, и начало года было включено в сферу деятельности Януса.
[Закрыть]. Едва ли не самым интимным из всех римских верований было верование в гениев-хранителей, витавших и в доме, и над домом, и в кладовой; в публичном богослужении их чтили под именем Весты и Пенатов, в семейном – под именем лесных и полевых богов Сильванов и главным образом под именем настоящих домашних богов Лазов или Лар, которым постоянно уделялась часть от поданных за семейным столом кушаний и поклониться которым каждый отец семейства считал еще во времена Катона Старшего своим первым долгом по возвращении из чужбины домой. Но в распределении богов по рангам эти домашние и полевые боги занимали скорее последнее, нежели первое, место; иначе и быть не могло при такой религии, которая отказывалась от идеализации: благочестивое сердце находило для себя самую обильную пищу в самых простых и самых индивидуальных абстракциях, а не в самых широких и всеобщих. Наряду с этой слабостью идеальных элементов ясно выступали наружу практические и утилитарные тенденции римской религии, которые хорошо заметны в вышеприведенной табели праздничных дней. Увеличения имущества и земных благ, доставляемых обработкой полей и разведением скота, мореплаванием и торговлей, – вот чего ожидает римлянин от своих богов; поэтому у римлян быстро и повсеместно вошли в большой почет бог честного слова (deus fidius), богиня случайности и удачи (fors fortuna) и бог торговли (mercurius), которые зародились из ежедневных житейских сношений, хотя и не успели попасть в вышеприведенную древнюю табель праздничных дней. Римский характер отличался такой строгой бережливостью и склонностью к коммерческим спекуляциям, что они проникли в самую глубь его божественного отражения.
О мире духов мы можем сказать лишь немногое. Души усопших – «добрые» (manes) – не переставали жить в виде теней в том самом месте, где покоилось тело (dii inferi), и принимали пищу и питье от переживших их людей. Однако они жили в подземных пространствах, а из подземного мира никакой мост не вел ни к ходившим по земле людям, ни к витавшим в высших сферах богам. Греческий культ героев был вовсе незнаком римлянам, а совершенно не римское превращение царя Ромула в бога Квирина ясно доказывает как поздно и как неудачно была сочинена легенда об основании Рима. Имя Нумы было самым древним и самым почтенным из всех, какие упоминались в римских сказаниях; однако этого царя никогда не боготворили в Риме подобно Тезею в Афинах.








