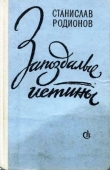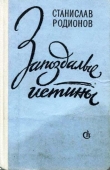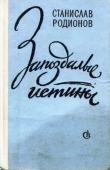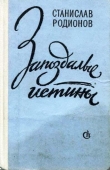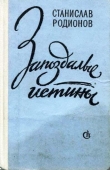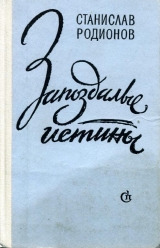
Текст книги "Запоздалые истины"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
9
Видимо, этот пьяница ждать милиции не станет. Какой-нибудь поезд уже несет его по свободным просторам в такой уголок, где на первое время можно затеряться.
Обедать не хотелось. Рябинин вышел на воздух бездумно и побрел по улице, куда глаза глядят. Но какая-то цепочка, скорее всего, логико-физиологическая, уже вела проторенным путем: есть не хотелось, была жажда, чаю бы, хорошего чаю...
Рябинин откинул свободную калитку и посмотрел в глубину сада. Защищенная от посторонних глаз теперь лишь сеточкой прутьев, избенка желтела близко, вроде бы сразу за штакетником. Ему показалось, что ей чего-то не хватает. Крыльца, петуха на крыше, резных наличников?.. Ножек, ей не хватало курьих ножек...
Теперь Рябинин постучался. За некрашеной толстодосочной дверью тоже стукнуло. Рябинин счел это ответом и вошел.
Слежевский торопливо отодвинул скамью от стены. Столешница была присыпана сенцом. Стал крепче запах трав, словно их разворошили.
– Мяту вешал, – объяснил Слежевский. – Анна собирала...
– Вам надо как-то развеяться.
– Надо бы, – согласился Слежевский.
– Чуточку оптимизма, что ли...
Олег Семенович усмехнулся одними усиками.
– Я никогда не был оптимистом.
– Наверное, зря.
– Знаете, на чем основан человеческий оптимизм? На легкомыслии. Жить так, будто болезней и смертей нет. Мол, черт с ними.
– А может, и верно – черт с ними? – почти радостно предложил Рябинин.
– Я жил не так...
И двинул чайник с кирпичного бока плиты на раскаленную середину. Для Рябинина это послужило сигналом – он снял пальто и буднично подсел к столу.
– А как вы жили?
– Тревожно, вроде одичавшего кота.
– Почему же?
– Боялся сглазить. Когда мне бывало очень хорошо... Вот только подумаю: господи, как хорошо! И тут же испугаюсь. Чур меня, чур!
Рябинин с еще неосознанным удивлением посмотрел в лицо хозяина избушки, стараясь в осеннем свете поймать блеск его чуть выпуклых глаз. Этот ли человек два дня подряд рассказывал о клокочущем любовном счастье? Но Слежевский смотрел мимо – он прислушивался к гудению чайника.
Рябинин ведал беспричинную тревогу счастливых, напоминавшую о краткости всего сущего, о роке, о случайности... Но он еще не знал таких людей, которые бы вняли этим намекам, ибо счастье потому и счастье, что оно сильнее всех невзгод; в конце концов, счастье – это то хорошее, в котором захлебнулось все плохое. А Слежевский жил вот тревожно. Как одичалый кот.
– Но у вас же была любовь, – напомнил Рябинин.
– Любовь всегда идет рядом с болью.
– Любовь идет рядом со счастьем.
– Приведу элементарный пример. Я чему-то радуюсь. А любимого человека возле меня нет, он не радуется. Поэтому я огорчаюсь. И таких огорчений на каждом шагу. То несовпадение мыслей, то несовпадение настроений, то несовпадение желаний... Тогда приходит обида, ревность, подозрения.
– Это уже не любовь.
– Любовь. Влюбленные ведь ранимы. И вот вам парадокс – любовь съедает радость жизни. Тогда зачем она?
– Вы говорите о молодости?
– Я говорю вообще, – уклонился Слежевский.
– В молодости все преувеличивается. Мелкое огорчение, да на фоне любви, кажется болью.
Слежевский встал, открыл печку и подкинул четыре березовых полешка. Пряный дымок на минутку одолел все запахи – Рябинин втянул его жадно, как городской человек, тоскующий по далекому, но еще не забытому.
– Вы говорили, что любовь – это доброта. Я тут думал... Допустим. Но ведь доброта зловредна, а?
– Как зловредна? – удивился Рябинин.
– Неразумная любовь-доброта портит человека.
– Зачем же неразумная?
– А где вы встречались с любовью разумной? Она потому и любовь, что неразумна. Вы замечали, какие хорошие дети у бесстрастных отцов? Замечали, какие обормотистые детки у любящих, так сказать, души не чаявших?
– Ну уж!
– Да я знаю семью... Работящий, добрейший и любящий мужик. А результат? Жена ни во что его не ставит. Дочь выросла бесхарактерной и болтается по мужьям. Собака-овчарка неспособна охранять – боится громкого окрика.
Рябинин не мог отвечать, не подумавши. Но думать не было времени – ему казалось, что смысл сегодняшнего разговора заключен в скорости; нельзя было упускать ту силу, с которой заговорил Слежевский. Рябинин не знал, зачем ему понадобится эта уловленная сила.
– По-вашему, любовь портит человека?
– Именно, – даже обрадовался Олег Семенович точному пониманию его мысли.
Но обрадовался и Рябинин, потому что об этом было думано и даже где-то записано. Что-то туманное... Любимый должен понимать величие любившего...
– А почему? – спросил Рябинин тоже с появившейся силой.
– Скажите, любовь двух людей одинакова?
– Одинакового ничего нет.
– Значит, кто-то любит сильней. Я уж не говорю, когда любит только один. Тогда у второго, который любит слабо или вообще не любит, прогрызается самомнение, спесь, эгоизм... И любовь обернулась злом.
– Но как, как?
– Тот, кого любят, подчиняет себе того, кто любит. Что, не верно?
Рябинин вздохнул облегченно: неверная мысль, которую он не мог побороть, входила в него многодневной заботой.
– Не верно, Олег Семенович. Любовь может испортить только душу плохую или незрелую.
– Такие души мы и любим. Женские, детские...
Они разом повернулись к печке – обиженный чайник бушевал.
Слежевский переставил его на кирпичи, но он еще долго урчал и постанывал. Дух заварки, джинном выскочивший из чайника, мешался с мятой. Травяное сенцо было сметено со стола, появилась сахарница и чайная посуда.
У Рябинина зрел вопрос. И когда чай раскаленно забродил в чашке и привнес свой букет на очки, на лицо, на дрогнувшие от нетерпения губы, он спросил:
– А кто у вас любил и кто был любим?
– Я любил, – чуть повышенным голосом отозвался Слежевский, будто следователь мог не поверить.
10
Инспектора ринулись в город, перекрыли вокзалы, отыскали близких и дальних родственников, устроили засады дома и на работе... Усолкин исчез, как и положено убийце.
Клуб заволокла церковная тишина. Рябинин слонялся по нему из помещения в помещение, словно что потерял...
В танцевальном классе спал повар, вставший в четыре утра. В коридоре рыжий кот звякал пустыми консервными банками. В зрительном зале от перепада температуры потрескивали стулья. По сцене, шелестя забытыми газетами, прокатывался осенний ветерок, падавший откуда-то сверху, со стропил. В кухне другой кот, черный, мистический, привалился к остывающему титану...
Рябинин забрел в библиотеку – большую комнату, иссеченную тощими стеллажами. Он провел рукой по запыленным корешкам и вытащил одну, случайную книгу. «Сто лет криминалистики» Ю. Торвальда... Та самая случайность, которая родится на пересечении закономерностей, – из тысячи книг следователю подвернулась книга по криминалистике. Он уже читал ее. Описано множество громких уголовных процессов, за которыми когда-то следила вся Европа... А Рябинину книжка показалась неинтересной, потому что автор рассказывал про эти уголовные дела так, словно они состояли из одних лишь доказательств, экспертиз и научных заключений. Автор как бы вытащил из этих дел всю психологию – допросы, показания, борьбу характеров, интуицию, следственные ошибки... И пропал в них человек, и стали эти дела походить на лес без листьев.
Рябинин поставил книгу на место. Доказательства, экспертизы, научные заключения... А вот кто ответит, почему он, выехавший на расследование убийства, бездельно слоняется по пустующим комнатам?..
Где-то далеко, на том конце клуба, как на том конце земли, празднично хлопнула дверь и рассыпала по коридору напорный топот. Рябинин быстро пошел на сцену.
По залу плыл Леденцов странным шагом – казалось, что он удерживает себя от желания встать на руки и так идти к следователю. Рябинин невольно подался навстречу.
– Сергей Георгиевич, пруха пошла!
– А теперь по-русски.
– Иду я мимо магазина, а некий гражданин лупцует воблой по голенищу.
Инспектор умолк, призывая следователя оценить невероятную информацию вскинутыми белесыми бровями, вздыбленными красными волосами и вздернутым воротником салатного плаща.
– И что? – не оценил Рябинин.
– А некий гражданин достает пару бутылок пива...
– Очень интересно.
– Я подошел...
– Угоститься?
– Он тоже так глупо подумал, Сергей Георгиевич.
– А зачем подошел?
– Потому что гражданин с воблой походил на гражданина Усолкина, фотография которого лежит в кармане у моего сердца.
– Леденцов, не тяни.
– Ну, думаю, это есть плод моего воображения.
– А что оказалось?
– Тогда я, чтобы развеять этот плод, деликатно сказал ему: «Здравствуйте, Петр Петрович!»
– И он послал тебя к Епишке есть коврижки.
– Сергей Георгиевич, он протянул мне руку.
Рябинин хотел спросить, где этот гражданин, протянувший руку, но увидел его в проходе – тот лениво шагал, сопровождаемый инспектором Фоминым. Они поднялись на сцену, и захватив своим движением следователя, прошли в комнату природы. Сев за стол, за чистый бланк протокола, Рябинин вдруг не почувствовал обычного нетерпения, словно перед ним не был человек, подозреваемый в убийстве. И Рябинин даже не захотел углубиться в себя и понять это внезапное равнодушие.
– Назовитесь, пожалуйста.
– Усолкин Петр Петрович. Ежели сомневаетесь, то дома и паспорт есть. А что?
– Где вы были двадцатого ноября?
Но Усолкин не ответил – он улыбался берестяной роже так же широко, как и она ему. Желтые белки его глаз – от курения ли, от плодово-ягодных ли вин – блестели лежалой костью. Рябинин хотел повторить свой вопрос, но Усолкин непредвиденно взорвался:
– Козла ищете?
Сперва Рябинин подумал, что этот Усолкин относится к тем людям с низкой культурой, у которых реакция несоизмерима с поведением окружающих – за намек они могут оскорбить, за пустяк ударить. Но белки его глаз, походившие на игрушечные бильярдные шарики, и запах кислого спирта объяснили, что Усолкин пьян. Официальный допрос был невозможен.
– Все-таки где вы были двадцатого ноября?
– Насколько мне известно, я был на работе, – тщательно выговорил Усолкин.
– Кто это может подтвердить?
– Да вся смена.
Рябинин слышал веселый стук ботинок – инспектора, бог весть каким способом прослышав о задержании подозреваемого, радостно сбегались в клуб.
– А вы тут не шурупы, – изрек Усолкин.
– То есть?
– Не шурупите ни хрена. Живете чужим умом, да и то задним.
– Вы уж объясните...
– Бабе моей поверили.
– А почему ей нельзя верить?
– Жизнь надо знать, парень. К примеру, в поселке судачат про убийство Аньки Слежевской. А я шурупю, то есть шуруплю, посколько выпить хочется. Иду к женке. Зинка, говорю, слыхала про убийство? Так это, говорю, я порешил Аньку. Посадят, мол, меня. Давай четвертной, попрощаемся, и куликуй тут одна.
– И не жалко? – спросил Рябинин, сдерживаясь.
– Кого?
– Жену.
– Зинку-то? Это не имеет роли.
Усолкин глянул на следователя нахально – его глаза были пусты, как окна в незаселенном доме. Рябинина вдруг прошила яркая, какая-то высвеченная мысль, не требующая никаких доказательств...
Боже, они ищут убийцу Слежевской... Вот он, убийца, рядом сидит, пьяный, неуязвимый. Допрашивай его, суди, наказывай. Только он убивал не Слежевскую – он ежедневно убивает свою жену, и со временем добьет-таки. А Рябинин, следователь прокуратуры, отпустит его домой, к той самой жене, смерть которой он сегодня же приблизит своими издевательствами.
– Товарищ Леденцов! – зло бросил Рябинин.
– Слушаю, Сергей Георгиевич.
– Гражданин Усолкин расхаживает по общественным местам в нетрезвом состоянии. Отправьте его в вытрезвитель.
11
Угрюмый Рябинин надумал прогуляться. Его ноги, в отличие от инспекторских, затекли бездельем. Но, выйдя из клуба, он ссутулился, встреченный природой сразу же, за порогом.
Поселок утопила ноябрьская тьма. Казалось, что к редким освещенным окнам она стекалась поплотнее, намереваясь их занавесить. Где-то над головой костянисто пощелкивали ветки высоких тополей. Ветер, как ледяная вода, хлестал отовсюду. Рябинин шел, и ему казалось, что тьма и холод каким-то странным физическим способом соединились в новую субстанцию, вроде жидкого черного льда. Вот и хлещет, вот и хлещет.
А в забытой богом и людьми избушке сидит человек и думает о странностях любви...
Рябинин хотел взглянуть на часы, но только шевельнул рукой – не с его зрением рассмотреть стрелки при звездном свете. Наверное, часов десять. Впрочем, можно пройти по той улице и кинуть взгляд на игрушечные окошки.
Что тянуло его туда? Жалость к хозяину избушки? Обожаемый Рябининым чай? Интерес к странной любви Слежевских? Или тянуло то, чего не знал и сам следователь?
Игрушечные окошки желтели далеко, как в поднебесном самолете. Рябинин еще раз конвульсивно дернул рукой с часами. Наверное, десять...
Теперь стучался он подольше. Но ответа, как всегда, не последовало. Рябинин вошел.
Время тут остановилось. Он непроизвольно обежал взглядом стол, лавки и печь, выискивая хоть какое-то движение. Но время стояло тяжело и ощутимо. До сих пор он считал, что лишь счастью под силу остановить время. Счастливые часов не наблюдают... Остановись, мгновенье, ты прекрасно... Но вот горе остановило его скорее и надежнее.
– Второй раз на дню пришел, – улыбнулся Рябинин.
– Чаю хватит, – тоже вроде бы улыбнулся хозяин, автоматически двигая чайник к жару.
После пронизывающего холода пронизывающий жар разморил мгновенно. А впереди был чай, размаривающий посильнее любого жара.
– Древние говорили, что чай якобы укрепляет любовь, – сказал Рябинин, где-то далеко удивившись самому себе: когда и кому древние это сказали?..
– Как видите, чай я пью чайниками, – усмехнулся Слежевский.
– У вас любовь и была.
– У меня – да.
– А у нее?
– Моя любовь была сильнее.
– Отсюда что-нибудь последовало? – Рябинин имел в виду теорию Слежевского о губительности неравномерной любви.
– А когда мы женщин уравняли с мужчинами, отсюда что-нибудь последовало? – неожиданно вспыхнул Слежевский.
Рябинин замешкался с ответом, думая, к чему этот разговор. Олег Семенович не вытерпел:
– Что оно дало, это равенство?
– Странный вопрос для человека с двумя высшими образованиями...
– Не ответ, не ответ.
– Хотя бы свободу в той же самой любви.
– Любовь не зависит от свободы. Ей душа нужна, душа.
– Но душе нужна свобода.
– А вы считаете, что если женщине дали свободу, то она научилась любить? Чепуха. Теперь у нее вместо любви свобода выбора. Всего лишь свобода выбора.
Противники они были не равные. Следователь допрашивал людей, работал с инспекторами, сочинял версии, думал о мотиве преступления... Слежевский размышлял только о любви да пил чай.
– Неужели вы считаете, – обрушивал он на Рябинина свои выношенные мысли, – что после этого равенства ничего не случилось?
– А что могло случиться?
– Мы же потеряли женщину, мать и семью.
– В старом их понимании.
– Ах, в старом... А что же в новом? Вместо доброй женщины, окруженной детьми, хлопотавшей на кухне и ждущей мужа, мы видим шныряющую разбитную бабенку, походящую на нас, на мужиков. Деловая, в брюках, с сигаретой, нахальная... В общем, уравненная.
– Да вы отсталый человек, – усмехнулся следователь.
Олег Семенович не ответил, принявшись готовить чай, Рябинин следил за движением его рук и чашек, и все-таки не мог взять в толк, к чему затеялся этот разговор. От тоски? Слежевский убивал таким образом ненавистное ему теперь время? Так он боролся с одиночеством? Или вел эту нервную беседу к ведомой ему цели?
– Ваши мысли... не добрые, – досказал Рябинин.
– При чем тут доброта?
– Вам хотелось бы женщину обездолить.
– Обездолить? Да они теперь спихивают мужчин и берут их роль на себя.
– Потому что роль мужчины интересней.
Об этом Рябинин догадался еще подростком...
Как-то ему пришлось вместе с женщинами работать на прополке. Он месяц остервенело дергал жесткие шнурки стеблей из глинистой земли. Высох от солнца, исколол руки и отупел от бесконечной работы. И тогда его, как единственного мужчину, как сильного, бросили ставить забор.
Он пилил, строгал, тесал... Он размечал, мерил, соображал... Пахло деревом пряно и загадочно. Щепки летели, как живые. Опилки припорошили траву золотцем. Гвозди шли в доски мягко, чуть не с одного удара. Забор рос на глазах сказочно.
Тогда вот Рябинин и усомнился, что женщины делают работу легкую, а мужчины – тяжелую; тогда он догадался, что мужчина взял себе работу не тяжелую, а интересную; тогда он догадался, что тяжелая работа та, в которой нет творчества.
– Женщина стремится к мужской роли потому, что эта роль интереснее женской, – повторил Рябинин убежденно.
– Да ведь есть биологические законы! На мужчин и на женщин нас разделила природа. Если хотите, активную роль мужчины в обществе определила его сексуальная роль. А всякие там амазонки – чепуха, зигзаг истории.
– Общество живет не по биологическим законам, Олег Семенович, а по социальным.
– А как же семья?
Слежевский отхлебнул яростный чай, не поморщившись. Тугая кожа на сухощавом лице не поддавалась ни печному жару, ни яростному чаю. Выпукловатые глаза поблескивали почти кошачьим блеском. И Рябинин понял, чего еще не хватало этой избушке, кроме курьих ножек, – кота, черного и блестящего кота, как и волосы хозяина.
– Что семья? – не понял Рябинин.
– Из-за этого равенства семьи разваливаются.
– Только из-за равенства?
– Женщина взяла на себя мужскую роль... А что остается мужчине? Ходить на работу? Тогда зачем ему семья? А к кому прижаться своей сильной мужской головой, чтобы набраться новой силы?
Рябинина коснулось запоздалое прозрение.
– Олег Семенович, разве ваша жена ходила в брюках и курила сигареты?
Слежевский залпом, не поперхнувшись, выпил огненный чай.
– Она не ходила в брюках и не курила сигарет...
Встретившись со ждущим взглядом следователя, он улыбнулся одними усиками и добавил:
– Но была не женщина, а самодержец.
Над поселком пролетел бой полночных курантов – по улице кто-то прошел с включенным транзистором. Уже поздно. Он поднялся под взглядом взвинченного Слежевского, готового проговорить всю ночь. Но Рябинину опять нужно было подумать – над словами о женщине-самодержце.
12
Все живет своими ритмами – вселенная, человек, расследование преступления... На девятый день Рябинин почувствовал в работе оперативной группы валкую прохладцу, как в отлаженном механизме, который будет крутиться и на упавшем напряжении.
Макароны ели вяло, без добавок. Чаю пили мало, без шуток. Грязная посуда долго стояла на неубранном столе – повар смотрел на нее непонимающе. Старший инспектор Петельников прохаживался по сцене, у самой рампы, словно проговаривал беззвучный монолог. Хозяйственный Фомин чинил рубашку. Двое инспекторов сели играть в шахматы... Даже рыжий кот потерял интерес к тушенке и бродил по зрительному залу, хлопая сиденьями.
Лишь не было Леденцова, которого послали на поминки, все-таки устроенные Слежевским на девятый, положенный день.
Рябинин прошел в свою комнату...
Следователю казалось, что перед ним есть невидимое зеркало, и он присматривается к самому себе, к той своей сущности, которая скрыта от посторонних глаз и от его глаз скрыта тоже. Почему он так вял на месте преступления, на самой жаркой точке следственной работы? Почему не спросит Петельникова, о чем его беззвучный монолог? Почему не даст заданий инспекторам? Почему сам не работает по разным версиям, как это предписано всеми инструкциями?..
То невидимое зеркало, которое отраженно заглядывало в его душу, могло бы высветить ответ на все вопросы. Но Рябинин не дал пути этому свету – как набросил на зеркало черное покрывало. Зачем? Пока он не знал. Может быть, не хотел опережать естественный ход событий.
Рябинин остановился у лешего, плясавшего на моховой кочке, – тело из полешка, голова из березовой чаги, ножки из сучков, нос из рогоза... Ему показалось, что лешевы травяные усы вздрогнули. Но вздрогнул весь клуб от мужского хохота и какой-то нервной энергии, захлестнувшей комнаты. Рябинин поспешил на сцену...
Леденцов стоял в дружном кольце инспекторов обескураженно – только он не смеялся.
– Чему радуемся? – спросил Рябинин.
Инспектора разомкнули круг, давая подход следователю. Леденцов пожал острыми плечами, как бы показывая, что за информацию он не отвечает.
– Нечистая, Сергей Георгиевич...
– Где?
– Я с поминок. Сидим, поминаем, не чокаемся... Мне товарищ капитан разрешил рюмку выпить. Вдруг одна тетка и говорит... «Вот вы тут поминаете, после смерти пришли, а меня Аня самолично пригласила». На нее зашикали, но она стоит на своем: мол, Аня знала, что ее убьют.
– Ну, а народ что?
– Все решили, что ей зов был.
– Какой зов?
– Ну, оттуда, из верхних сфер.
– А твое мнение?
– Если оттуда звали... – начал было Леденцов.
– Я тебе сколько разрешил выпить? – перебил его Петельников.
– Рюмку, товарищ капитан.
– А ты сколько?
– Полторы, товарищ капитан.
– Где эта женщина? – вмешался Рябинин.
– Еще на поминках.
– Сюда ее, немедленно.
– Будем искать зов? – усмехнулся Петельников.
– Товарищ капитан, – предложил Фомин, – а не посадить ли инспектора Леденцова на место происшествия в засаду ловить зов?
Но Леденцова уже не было – он несся к дому Слежевских.
Мистический повод для вызова свидетеля не смутил Рябинина. Погибшей был зов... Ее сознание вполне могло отразить действительность таким причудливым образом. В конце концов, почему бы не быть зову? Физическая энергия не исчезает. Почему же должна исчезнуть психическая? А если не исчезнет, то куда денется – не в космос же? Тогда будет она передаваться людям эмоциями, и может быть, даже мыслями умерших. И если кто-то не помог больному, то после смерти несчастного его освобожденная психическая энергия не коснется ли равнодушного человека ответной болезнью? И не зовут ли люди богом эту самую освобожденную психическую энергию?..
Рябинин послушал бы зов Слежевской – были у него к убитой вопросы.
– Вадим, как ты насчет этого зова?
– Как человек с нормальной психикой, – буркнул Петельников, не расположенный говорить о пустяках.
– Нормальное человечество веками интересуется этими зовами и тому подобным.
– Потому что у человечества на протяжении веков сидит в подкорке первобытный страх.
– У тебя не сидит?
– У меня нет подкорки, у меня одна корка, – улыбнулся инспектор.
– А во мне этот первобытный страх есть, – вздохнул Рябинин.
– Чего же ты боишься?
– Я не боюсь, а допускаю болезни, роковые случайности, неприятности, потери...
Их разговор был прерван Леденцовым, который вел женщину, услужливо показывая ей путь на сцену. Она поднялась и оторопело повела глазами – столы, занавес, задник, толпа мужчин... Рябинин, смущенный разговором о потустороннем, не решился на официальный допрос и не повел ее в природоведческую комнату. О чем писать протокол – о зове?
– Садитесь, Вера Игнатьевна, – предложил Леденцов, уступая роль Петельникову.
Женщина села, скинула на плечи теплый платок и расстегнула шубу – она была одета по-зимнему. Простое крупное лицо, задетое недоумением, казалось детским.
– Со Слежевской вы дружили? – спросил Петельников.
– Нет, но были в хороших отношениях.
– Она вам о себе рассказывала?
– Ну, рассказывала...
– Жаловалась на что-нибудь?
– Ей не на что было жаловаться.
Женщину смущали не вопросы инспектора, а круг стоявших молчаливых мужчин. Она обегала взглядом их лица, словно выбирая себе защитника. И выбрала – в очках, грустное, рябининское. И теперь на вопросы отвечала не инспектору, а этому очкастому лицу.
– Слежевская в бога верила?
– Что вы... Общественница... Заведующая...
– А как же зов? – прямо Спросил Петельников.
– При чем тут бог? – удивилась женщина тому, что он, Рябинин, в очках, а не понимает. – Это так, ее предчувствие...
– Вера Игнатьевна, как она говорила про это предчувствие?
– Как... Говорила, убьют меня, Веруша. Убьют по голове. И просила, чтобы я обязательно пришла на поминки.
– А вы что?
– Господи, да убеждала ее выкинуть эти глупости из головы.
– Все сказали?
– А что еще?
Теперь и Петельников глянул на следователя, показывая, что вопрос с потусторонним зовом ясен. И тогда Рябинин предал эту доверившуюся ему женщину ради поиска истины, ради оживления ее памяти, и стал говорить то, что не думал:
– Вера Игнатьевна, вы же сказали неправду или сказали не все...
– Как? – она даже зашлась в глубоком непереводимом дыхании.
– Посудите сами. Летают космонавты, бурлят колбы, гудят синхрофазотроны... А вы нам про какой-то мистический зов.
– Я же ее слова передаю...
– А сами-то верите в них?
– Верю! – с какой-то распаленной силой бросила она, обводя деревянные лица мужчин уже сердитым взглядом.
– Почему верите?
– Потому что она убийцу свою знала.
– Кто? – спросил Рябинин уже одновременно с Петельниковым.
– Мелентьевна.
Все бездыханно молчали, боясь спугнуть неожиданное признание. Наконец Рябинин тихо спросил:
– Кто она?
– Работала уборщицей в садике у Слежевской. Теперь живет в городе...
Инспекторский дружный круг сразу ослабел и стал распадаться на отдельных людей. За окном почти одновременно завелись две машины. Рябинин поднялся, чтобы повести женщину в свою комнату для официального допроса. И тогда она тихонько сказала непонятную им в тот торопливый момент пословицу:
– Кричит на кошку, а думает на невестку...