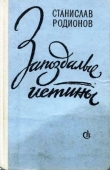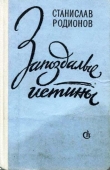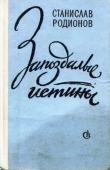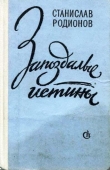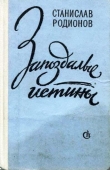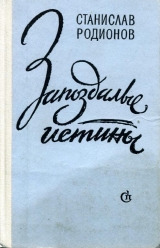
Текст книги "Запоздалые истины"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
– Какие же?
– Разве вам никогда не хотелось уйти от людей?
Он подумал – не над тем, хотелось ли ему уйти от людей или не хотелось, а над тем, как проще ответить на этот непростой вопрос. Нет, не проще, а правдивее.
– Хотелось.
– И вы уходили?
– Уходил. Только не к вещам.
– А куда?
– К другим людям.
– К другим людям, – без интереса повторила она. – Надо иметь других людей...
– Да, надо иметь. Вот круг и замкнулся.
– Как замкнулся?
– Вы пришли-таки к человеческим отношениям.
Жанна рассеянно улыбнулась, не ответив. Он ждал. А ведь сперва спешила, на часики поглядывала – теперь же смотрит в кристалл, что-то в нем отыскивая безуспешно, потому что он для нее всего лишь камень. И про дело свое забыла, про юридическое.
– Сергей Георгиевич, мне с вами трудно говорить. И знаете почему?
– Ну, разный, воздаст, разные взгляды...
– Нет. Вы каждую минуту сравниваете меня с мамой. Сравниваете ведь?
– Сравниваю, – соврал Рябинин, который давно перестал сравнивать несравнимое.
Вдруг выпал недельный маршрут по воде – одним, вдвоем. Лодку, спальные мешки, палатку, продукты загрузили в машину и забросили в верховье реки. Им предстояло плыть по течению километров двести, исследуя выходы коренных пород.
Рябинин сидел на корме и правил веслом. Маша примостилась на скамейке перед ним, лицом вперед – он только видел ее выжженную косынку, плечи и загорелую тонкую шею, охваченную шнурком, на котором висела лупа. Коренные породы обнажались не часто, поэтому течение реки свободно несло их плоскодонку вперед. Рябинин тогда еще не знал, что плывет он не по воде, а по реке времени, уносящей его отсюда туда, из настоящего в будущее; не понимал, что эти бегущие глинистые берега он видит впервые и больше никогда не увидит; не ведал, что бегущие глинистые берега похожи на годы, которые и у него вот-вот побегут, стоит пройти молодости. Он сидел на корме, лениво шевеля веслом.
Уплывали низкие глинистые берега и задернутые синью сопки, оставались за бортами нетронутые заводи и урчащие протоки, отстранялись галечные косы и необитаемые островки... За кормой завихрялась и сонно всхлипывала вода. Пеной закипали встречные перекаты. С теплых берегов шлепались в воду вспугнутые черепахи. Иногда на отмели стояла одноногая цапля – тогда Рябинин переставал шевелить веслом, бесшумно наплывая на удивленную птицу. Пахло водорослями, свежей рыбой и невнятными береговыми травами.
А вечерами случалось так, что красная река бежала прямо в раскаленное солнце. Казалось, что за первым же поворотом лодка ткнется носом в этот шар и они обнимут его жаркое тело. Но вдруг все меркло и холодело – лодка ныряла в протоку, наглухо заплетенную кустами и травами. Рябинин ничего не видел и отдавался течению. В следующую минуту солнце опять ударяло в глаза, и опять он ничего не видел, и опять отдавался течению.
Маша смотрела в карту, изредка что-то писала в полевой дневник или просила его пристать к берегу и отколоть кусок торчащей скалы. Но иногда она поворачивалась к нему и роняла несколько слов, из чего он решил, что ее занятый работой ум живет и другой жизнью.
– Сережа, с городом мы связаны умом, а с природой – сердцем.
Он подозревал, что эти свои мысли она вносит в полевой дневник, куда-нибудь меж описанием структуры алевролитов и углом их падения. Такое позволяли себе старые геологи, корифеи, которые шли по земле, все на ней примечая. Рябинин бросал беспокойный взгляд на свой рюкзак, где лежала его клеенчатая тетрадка, – там он подробно, по-летописному, фиксировал, как и где ходил, сколько и чего съел, какая была погода и почему бешено рвутся носки; да полную страницу посвятил расстройству желудка после трех съеденных гроздей дикого винограда.
– Сережа, природа меня наполняет щедрее, чем театр, кино или лекции...
Он не все понимал, лишь чувствуя в ее словах глубинный смысл. Но почему он не понимает? Ведь не дурак. Неужели возраст, неужели шесть лет так разнят людей?
– Сережа, а одиночество наполняет мыслями скорей, чем умные книги или разговоры...
Он только поддакивал, в то время еще не знакомый ни с мыслями, ни с одиночеством. И он мудро смекнул, что ум и душу, как и новенький диплом в руки, вкладывает в человека высшее образование.
– Сережа, каждый из нас в природе, но природа не в каждом из нас...
Ночевали они на галечных косах, не поднимаясь в травянистые заслоны берега, – речной ветерок сдувал тут комаров. Двухместную палатку он научился ставить один, за десять минут. Маша кипятила чай на карликовом костерке, обходясь хворостом и сушеной травой. Ясное небо расцвечивалось широкими полосами – розовая у самого горизонта, переходившая выше в светло-розовую, потом в голубую, потом в бледно-голубую и, наконец, в серый зенит над их головой. В такие закаты нежно голубела и глинистая вода реки.
Спали они рядом, в мешках. Стоило ему протянуть руку, и она бы легла на ее грудь. И он бы тогда умер от удара электрического тока. Или от счастья. Рябинин считал, что Маша вверена ему на весь этот многодневный маршрут. Он ее защитник, он ее опора. И поэтому не то что протянуть руку, а заговорить о любви считал он кощунственным, как воспользоваться беспомощным состоянием женщины.
Вот если бы шпана вылезла из лодки... Но она, подлая, терлась у ларьков и гастрономов. Вот если бы тигр выскочил из пучины кустов... Но он, полосатый, бродил в сопках... Оставался алмаз. И Рябинин искал, ползая на коленях по отмелям, косам и берегам. Пока ему попадались лишь халцедоны, теплые полупрозрачные камешки с волнистой структурой – их он набрал уже целый мешочек.
Рябинин верил в любовь безмотивную и беспричинную. Но иногда его брало сомнение... Если допустить любовь за что-то, то получался базар: у меня есть одно, у тебя есть другое – вот и любовь. Если допустить любовь ни за что, то выходила некая безликость, животность, ибо любили не именно тебя, а мужчину вообще. Подобная любовь его не устраивала. Но и любовь за что-то тоже страшила, поскольку внешнего вида, высшего образования, имущества и ярких способностей он не имел.
И опять его душу ели сомнения – чаще всего ночные, тревожные, когда она лежала рядом и дыхания их почти сливались. Допустим, он молчит, скованный долгом защитника, но ведь и она ни словом не обмолвилась, ни взглядом себя не выдала. Будто и не было его полупьяного признания.
Дул приятный ветер. Они откинули полог и легли головами ко входу. Над ними повисло почти южное черное небо, запорошенное звездами. Журчала вода, тихо звякая ложкой, – так они мыли кастрюлю, опустив ее на ночь в бегущую реку. Уж неизвестно в каком свете, – в звездном? – видел Рябинин заброшенные за голову ее руки, коричневые и теплые, как выточенные из полуденной коры; видел темноту глаз, обращенных в темноту неба; и видел белизну начала грудей, пропадавших под вкладышем спального мешка... А может быть, он ничего не видел, а лишь смешался в голове астральный свет с его фантазией...
– Это же страшно, – тихо сказала она небу.
– Где страшно? – Рябинин радостно приподнялся.
– Если нет бога. Тогда мы останемся один на один с космосом, со вселенной...
– Бога нет, но есть настоящие мужчины, – пошутил он, намекая.
И сразу все стало на свои места: любят не за что-то и любят не просто так – любят настоящих мужчин. Не раз об этом писалось, говорилось и пелось. Рябинин даже привстал, ожидая ответа на свои слова. Но она молчала, словно укрылась запорошенным звездами небом.
– Маша, а кого женщины любят? – спросил он прямо.
– Настоящих мужчин.
– Это которые здоровые?
– Не обязательно.
– У которых высшее образование и должности?
– Нет.
– Умных, что ли?
– Нет.
– Которые всего могут добиться?
– Совсем нет.
– Хоккеистов?
Она даже не ответила. Но Рябинин горел нетерпеньем.
– Кого же ты считаешь настоящим мужчиной?
– Борца, Сережа.
Он чуть не хмыкнул. Очкастый эрудит, бородатый полярник, классный спортсмен, офицер-подводник, писатель, какой-нибудь первопроходец, какой-нибудь изобретатель... Но борец... На ковре, что ли?
– С кем бороться-то?
– Настоящий мужчина об этом не спрашивает.
– Ну с кем, с кем? – спугнул он раздражением тихую ночь.
– С силами природы, с собой, с плохим...
– А если мужчина просто работает?
– Настоящий мужчина просто не работает.
– А что же он?
– Он работает творчески, а это, Сережа, уже борьба.
– Странно, – только Рябинин и нашелся.
Маша повернулась на бок, и ее дыхание приблизилось.
– Сережа, женщине присуща жалость, слабость, жертвенность... А у мужчины – сила. Он создан для борьбы. Вот обиженный, больной, брошенный, попавший в беду... Женщина таких жалеет, помогает... А у мужчины другое желание – вступить в борьбу за этого человека. С оскорбившим, с обидевшим, с бросившим... За истину, за доброту. Если, конечно, он настоящий мужчина.
Испуганный Рябинин молчал. Он намеревался познать мир и людей, он хотел стать умным и эрудированным, он задумал отпустить бороду и закурить трубку... И все равно бы Маша его не полюбила. Потому что не борец. Не настоящий мужчина. Но он же искал тигра. Впрочем, какая там с тигром борьба... Так, взаимное мордобитие...
Жанну с матерью Рябинин уже не сравнивал. Не сравнивал ли? Почему же непроизвольно радовался ее умной мысли или красивому лицу? Ради матери?
– Вернемся к вашему делу, – спохватился он.
– Да-да, – Жанна плотнее придвинулась к столу.
– Кто она?
– Моя лучшая подруга.
– Возраст, образование, специальность...
– Сергей Георгиевич, это важно?
– Мне будет легче дать совет.
– Образование высшее, инженер, моих лет...
Она примолкла, решая, говорить ли, не говорить – и улыбнулась.
– Тоже мещанка, замужняя, бездетная...
– Я продолжу, – остановил ее Рябинин. – Глаза серые, стрижка короткая, нос тонкий, духи французские, бусы коралловые, шуба белая.
– Вы про меня? – постаралась удивиться она.
– А вы про кого?
– Про подругу...
Рябинин глянул в самую глубину ее глаз, в зрачки, которые, выдерживая его взгляд, стали какими-то острыми. Но они выдержали, оборонившись этим острием. Глаза отвел он, не выносивший лжи у человека, с которым хоть как-то соприкоснулся душой.
– Жанна, давайте говорить друг другу правду, – буркнул он в стол.
– Это вы советуете своим преступникам?
– Всем советую.
Ее удивленные губы стали еще удивленнее. Рябинин уже знал этот изгиб, значивший неприятие его слов.
– Вы в бога верите? – спросила вдруг она, сама пугаясь своего вопроса.
– А вы что – религиозная?
– Если бог есть, то он не правдолюбец и не справедливый, а главный бухгалтер. Следит за балансом нашей жизни. Пошлет радость человеку и сразу обложит его подоходным налогом – неприятностью. Поэтому, Сергей Георгиевич, я ничего не прошу – ни правды, ни счастья, ни радости... Зачем? К ним обязательно будет нагрузка. Откровенно говоря, теперь и неприятностей не боюсь. К ним же приятный довесочек положен. Только этот бухгалтер-бог стал халтурить... Беду ниспошлет, а радость послать забудет.
Рябинин давно понял, что ее гложет нешуточная тоска. Муж? Но она о нем вроде бы рассказала легко и свободно. Работа? Но работа ею не ценится. Здоровье? Тогда идут не к следователю. И Рябинин решил ждать – спелый плод сам падает с дерева.
– Все-таки без правды разговора не выйдет, – сказал он.
– В наше время правда без справочки не действительна, Сергей Георгиевич.
– За этой справочкой вы и пришли?
– А если я пришла за самой правдой? – она расширила глаза, и они вновь, как в начале их разговора, льдисто блеснули.
– Тогда вы правильно сделали.
– Сергей Георгиевич, совет нужен моему супругу.
Вздохнули они одновременно, дыхание на дыхание: она потому, что решилась на правду, он потому, что сломился лед недоверия.
– Жанна, только я не специалист по семейному праву...
– Мне нужно не семейное.
– Вообще, в гражданском праве я не силен.
– Мне не гражданское.
– Авторское, что ли?
– Нет.
– А-а, трудовое.
– Нет, не трудовое.
Рябинин умолк. Вроде бы он перебрал все отрасли права. Что там еще осталось – административное, финансовое, государственное... Но он специалист только по уголовному праву и уголовному процессу.
Рябинин тревожно всмотрелся в ее лицо – оно ответило тревожной готовностью подтвердить его подозрение.
– Уголовное?
– Да, – выдохнула она и коснулась рукой лба, отгоняя это уголовное от своей головы.
– Что вас интересует? – тихо спросил он.
– Сергей Георгиевич, да вы испугались?
– Это почему же?
– Вдруг он убил или банк ограбил?..
– Мне-то чего пугаться...
– Неправда. А меня учили быть правдивой.
– Я не испугался, а удивился.
– Да мне только узнать кое-что из ваших законов.
– Каких?
– А почему вы удивились?
Он хотел ответить, что она пришла хлопотать за того самого мужа, которого только что называла эгоистом и подлецом, которого она не любит, который ночует у супербабы...
Но не ответил, потому что в кабинете что-то произошло.
– Опять меня с мамой сравнили?
И Рябинин вновь не ответил. Она рассеянным взором окинула следователя и задержалась на его глазах – они смотрели вниз, и взгляд Жанны как бы скатился по его взгляду на стол...
Там лежал кристалл. Он светился неожиданным, мистическим светом, излучая красноватый, почти кровавый блеск. Они молча смотрели на камень и ничего не понимали...
Рябинин обернулся. Торопливое солнце, так и не поднявшись в зенит, видимо, осело на горизонт. Его плоский свет зажег рубином стекла домов на той стороне проспекта. Один случайный и отраженный лучик достал топаз.
Кристалл лежал посреди стола, розовея и затухая...
Ночь, в которую Рябинин затеял разговор о настоящих мужчинах, он почти не спал. Слова Маши про борьбу легли ему на душу с неожиданной силой, как прикипели. Ждал ли он этих слов давно, любовь ли их накалила своим заревом...
Утро обдало сладкой и щемящей надеждой, которая в молодости приходит внезапно и без причины. Может быть, ее породили ночные мысли. Или утро породило, ясное и безупречное, как первый день мира...
Солнечный свет лился горизонтально, в глаза. Синий хребет Сихотэ-Алиня лежал на краю земли прикорнувшим зверем. Высокие перистые облака, как отпечаток гигантского трилобита, разрисовали бледное небо. А из реки выходила солнечная женщина с распущенными волосами, капли воды блестели на плечах счастливыми янтариками. Рябинин глянул на несвободную грудь, стянутую купальником, на нежнейшую выпуклость живота, на бедра, отлитые природой крепко и нежно, и опустил взгляд на воду – он искал пену, ту самую, из которой рождались всякие Киприды и Афродиты.
– Сережа, купайся!
Он подошел, мужественно скрипя галькой.
– Я не буду геологом.
– Вот как?
– Я пойду на юридический.
– Почему же? – буднично спросила она, поблескивая счастливыми янтариками, окропившими ее тело и лицо.
– Юрист борется за истину.
И он пошел, мужественно поскрипывая галькой, и пополз по этой гальке, начав обычный утренний осмотр косы при свете солнца. Он искал алмаз, но уже с неохотой, необязательно, потому что этот драгоценный камень заслонила иная цель. И как часто бывает, желание исполняется тогда, когда оно прошло...
Под кустом случайной ивы, увешанной бородками сухой травы, оставшейся от половодья, рядом с пустой и громадной раковиной какого:то моллюска, в шлейфике мелко промытого песка вдруг дико блеснуло. Рябинин припал к земле, как встревоженный зверь. Показалось... Мало ли что может блеснуть на реке – бутылка, консервная банка, кусок кварца или, в конце концов, выброшенная рыбешка. Он поправил очки, и в шлейфике песка призывно сверкнуло каким-то узким и глубинным блеском. Тогда он, как встревоженный зверь, прыгнул на этот блеск...
Из кварцевого песка торчал полузаметенный кристалл. Сразу ослабевшей рукой он выдернул его и положил на ладонь.
Кристалл был чист и прозрачен – ни песчинки к нему не пристало. Казалось, что он вобрал в себя прохладу ночи и свет утра, да вот еще слабенькую желтизну воды – или это река в нем отражалась? Крупный, тут уже не караты, тут уже граммы.
Задохнувшийся Рябинин бежал к Маше с протянутой рукой – она даже ойкнула, опасаясь какого-нибудь сверчка или ужонка. Но тут же глаза ее блеснули не хуже кристалла.
– О-о!
– Я обещал...
Она взяла камень нежно, как птенца. Он лежал на ладони, пожелтев еще заметнее – от ее загара, от янтарных непросохших капель, от карих глаз... Маша, перевидевшая разных кристаллов, смотрела на него с беззвучным восторгом.
– Сколько каратов? – спросил он.
– Много.
– Чистой воды?
– Не совсем чистой...
– Но алмаз?
– Нет, Сережа.
– Неужели кварц?
– Топаз, полудрагоценный камень. Откуда он тут?..
Радость отпустила Рябинина.
– Огорчился?
– Не драгоценный, а полу-...
– Ты, Сережа, как тот португальский офицер...
– Какой офицер?
– Жил в середине прошлого века и нашел алмаз в семьсот каратов. Стал богатейшим человеком. Им даже полиция заинтересовалась: не украл ли? Но комиссия определила, что это топаз. Офицер не поверил и убил всю свою жизнь, доказывая, что владеет алмазом. Кончил он плохо.
– Я плохо не кончу, – буркнул Рябинин.
– Какая красота! – она гладила прохладные грани. – Память о первой твоей экспедиции.
– Топаз не мой.
– А чей же?
– Твой.
– Как мой?
– Я дарю, я обещал.
– Нет, такой дорогой подарок не приму.
– Тогда я швырну его в воду.
Маша поверила голосу и лицу – швырнет. Она взглянула через кристалл на солнце, рукой отвела ото лба ведомые только ей мысли, привстала на заскрипевшем леске и поцеловала Рябинина – не в щеку и не в губы, а куда-то в краешек губ.
Рябинин омертвело смотрел в потухший кристалл, стараясь оторваться от прошлого и вернуться в этот кабинет. Оторваться... Можно ли, нужно ли?.. Да и не оторвался ли он давно и наглухо? Оторваться – значит, потерять. Хочешь быть свободным – носи дешевые костюмы. Нет, хочешь быть свободным – потеряй память.
Он тронул пальцами холодные грани. Ни тепло комнаты, ни отраженный луч не согрели кристалла...
Рябинин вырос среди русских озер, грибных березняков и тропок во ржи. В юности жил в картофельных полях Новгородчины, в ее болотистых речушках и насупленных ельниках. В приморской тайге он был своим для сопок, быстрожелтых рек и зарослей дикого винограда. В Казахстане его душа растворилась в ветрах, в запахах трав и степных просторах... В те времена он жил в природе и с природой, не очень ее замечая, как не замечаешь того, в неизменности чего уверен.
Рябинин рос и старел, следуя своим путем – от пользы через любопытство к любви. Была и природа в его жизни. Иногда он ездил на юг, к заваленному телами побережью; иногда выезжал за город в затоптанный лесок; иногда шел на работу выметенными аллеями парка... Но однажды на обочине загородного осеннего шоссе он увидел ржавый пучок травы и забытую летом ромашку. И кольнуло в сердце. И пронзила ясная и горячая мысль – как много им потеряно...
Где теплая и тишайшая речушка, у которой вместо берегов – согбенные ивы метут неспешное течение своими плакучими ветками? И блесткие звезды на чернущем небе, костерок среди лютиков, в чугуне кипящая вода с солью и крапивой, чтобы раки были красные... Обмелели эти речушки, или мелиораторы их высушили, или усохли они в его душе?
А где сосновые боры, в которых можно было задохнуться от жара, запаха смолы и вереска? Где еловые гривы с пещерным мраком, висячими мхами и Соловьем-разбойником, – жил там Соловей-разбойник, жил. Где болота с громадными буграми, усыпанными бусинами клюквы? Где березовые рощи, куда не ступала нога человека, – чистые, прозрачные, словно кем-то выстиранные и выбеленные?
А где мороженое – нет, не брикеты-пломбиры-стаканчики, которые фасуются где-то на заводе, а толстый диск с неровными краями, зажатый двумя круглыми вафлями, сделанный теткой тут же, на твоих глазах?
А где Маша Багрянцева?
После той пронзительной мысли Рябинин стал жить виновато – как предал друга. И когда деревья мельтешили за окном поезда, когда видел одичавшую в парке траву, когда старушка продавала у метро букет подснежников, когда показывали природу по телевизору, когда место происшествия случалось в лесу, он мысленно шептал себе, им, деревьям: «Я вернусь». Когда, где, как? Но не возвращался, затянутый городом и человеческими отношениями.
Время шло, и Рябинин следовал своим путем – от пользы через любопытство к любви. Проходя парком на работу, он урывал минутку, чтобы постоять у знакомой березы, у никогда не плодоносящей яблоньки, у белой флоксины, у лиственного осеннего подстила... Стоял потерянно, как блудный сын. Когда-то он был с ними. А теперь они его не принимали, он знал, что его не принимают...
Жанна намекающе скрипнула бусами.
– Извините, – спохватился Рябинин.
– Замечтались?
– Да, немножко.
– А о чем? – улыбнулась она.
– Вам интересно?
– Очень.
Он видел, что ей и правда интересно, коли она даже отступила от своего дела.
– О будущем, – соврал Рябинин.
– В работе своего вы достигли... Любовь у вас была...
– Выходит, впереди у меня пусто?
– У меня и то пустота, – почти игриво бросила она.
Нет, от своего дела Жанна не отступилась, да ей от него не отойти, как она ни старайся.
– Что вас интересует в уголовном праве? – спросил он, непроизвольно мрачнея.
– Сергей Георгиевич, под суд когда человека отдают?
– Когда он совершил преступление.
– А доказательства?
– И когда есть доказательства.
– А что считается доказательствами?
– Показания свидетелей, предметы, отпечатки пальцев... Есть целая теория доказательств.
Она помолчала, обдумывая его слова. Рябинин не торопил – ждал зрелого, самоопавшего плода.
– А если нет свидетелей, предметов и отпечатков пальцев?
– Бывают косвенные доказательства... Жанна, мне трудно говорить, не зная сути дела.
Она так резко мотнула головой, что короткие волосы замели голову темным рыхлым сугробиком. Рябинин понял – его дело лишь отвечать на вопросы.
– А если нет доказательств? – повторила она.
– На нет и суда нет.
Жанна опять помедлила, размышляя. Молчал и он – его дело отвечать. Что могло быть у ее мужа? Автомобильный наезд, пьяная драка?
– Сергей Георгиевич... А если что-нибудь случилось после, то это доказательство?
– Не понял.
– До прихода человека...
– Георгия, – вставил он.
– До прихода Георгия все было в норме, а после его ухода что-то случилось. Это доказательство?
Рябинин натужно молчал, как внезапно занемог, пытаясь вспомнить латинское изречение; так и не вспомнив, сказал по-русски:
– После этого не значит вследствие этого.
– Не доказательство?
– Нет, доказательство, но лишь в ряду других.
– А других нет, – заметно повеселела она.
Улыбнулся и Рябинин, сам не зная чему. Видимо, радостному лицу женщины, которое на глазах ожило красотой и надеждой. Задрожали ресницы и взметнулись арочки бровей, готовые взлететь; удивленные губы опять стали грешными; покатые плечи покатились еще женственнее; а щеки, неожиданно худощавые, так и заиграли сдержанной силой.
– Ну, вот и все, – заключил Рябинин. – Жизнь продолжается.
– Я же говорила, что бог-бухгалтер следит за балансом.
– Но ваш баланс, Жанна, еще не раз нарушится, – сказал он, спохватываясь, ибо опять предрекал.
– Следственная интуиция?
– Нет, жизненный опыт.
– Почему же он нарушится?
Рябинин замялся, но предрекать так предрекать:
– Ну, хотя бы потому, что живете вы модой.
– Модой живут знаете сколько людей? И процветают.
– Мода для тех, кто ничего не имеет за душой. А мне показалось, что в вас теплится индивидуальность.
– Спасибо. Хоть теплится.
Отпущенная ушедшим напряжением, мысль Рябинина стала свободнее. Он придвинул листок и записал:
«Мода заполняет пустую душу, как мутная вода след в земле. Быть модным – значит, быть не самостоятельным».
– Про меня? – она поджала губы от якобы накатившего страха: вдруг про нее?
– Про всех.
Жанна вздохнула и не то чтобы возразила, а мягко не согласилась со всеми его словами о моде:
– Потрепанная книжка всегда интересней новой.
– Это уж стадность.
– Сергей Георгиевич, из ваших взглядов можно гвозди делать.
– Взгляды такими и должны быть.
– Мне кажется, вы со своими взглядами чаще ошибаетесь, чем я со своими. Мода плохая... А ведь она приобщает к культуре скорее, чем филармония и библиотеки.
– Это новенькое, – беспокойно сказал Рябинин.
Откуда она, внезапная тревога? Он уперся взглядом в стол, пробуя ее нащупать в памяти. Что-то он сделал не так, сделал недавно, только что...
– Сергей Георгиевич, мода похожа на айсберг. Мы видим только верхушечку. А что мода рождает? Одно время стали модными белые пряди в волосах. Глупость? Не скажите. В идеале виделся человек много страдавший и переживший. Загар в моде. В идеале – бывал на морях, путешествовал, здоров. Книги собирает ради корешков... В идеале – начитан, интеллектуален. Машинки пишущие все покупают... В идеале – деловой человек, занятой, собранный. Пусть люди идут к своему идеалу. Сегодня корешок стоит, а завтра и книги прочтут. Сегодня машинка стоит, а завтра и роман напечатают.
Рябинин отыскал свое беспокойство: консультировал он вслепую, чего никогда не делал. Не во вред ли ей, Георгию, кому-то? В конце концов, не во вред ли законности...
– Жанна, что совершил ваш Георгий? – перебил ее Рябинин непрекословным голосом.
– Его только подозревают.
– В чем?
– В краже, Сергей Георгиевич.
– В краже чего?
– Бриллианта.
– Бриллианта?
– Да, бриллианта, – с вызовом бросила она, прищуривая глаза.
– Алмаза, – тихо и только себе перевел Рябинин.
Машин поцелуй остался на его губах. Они проплыли всю реку, они вернулись в лагерь, они уже ходили в другие маршруты – уже дикий виноград темно посинел и покраснели его листья. А ее поцелуй ощущался, точно вчера она прикоснулась своими губами к краешку его губ.
Теперь он чаще бывал в Машиной палатке. Они вместе камералили под приглушенную музыку транзистора, и Рябинин уже отличал Чайковского от Бетховена. Или она рассказывала про алмазы – он уже знал имена почти всех крупных бриллиантов. Или говорила о геологии – он уже знал, что породы бывают кислые, основные и ультраосновные. А его топаз лежал на видном месте, тревожно мерцая.
Последние дни их маршруты шли по сопкам, поросшим плотным мелколесьем ореха и дуба; по осыпям желтой щебенки, которая ползла под ногами куда-то вниз, в омут когтистой зелени. Они так уставали, что вечерами не было сил камералить. Поэтому сидели вместе со всеми у костра, тихонько подтягивая старым и грустным геологическим песням...
Отужинав, Рябинин пошел к костру, но Маши там не было. Не оказалось ее и в палатке. Он стал описывать беспокойные круги, все дальше удаляясь от лагеря, пока не глянул на сумеречный берег. Там белела крупная одинокая птица. Нет, не птица...
Маша уместилась на плоском обломке кварцита, поджав под себя ноги, – лишь кофточка белела. Рябинин подошел, не решаясь спугнуть ее задумчивость.
Нескончаемо журчала река, где-то рядом завихряясь. Прыгали из воды за мошкой касатки, рыбы с плавниками, похожими на острые укороченные крылья. Где-то вскрикнула птица, где-то рыкнул кабан. Где-то верхами сопок прошумел уже ночной ветер. И негромко пели геологи, отчего далекость людского мира казалась ощутимее.
Ему хотелось проникнуть в ее одиночество. В чем оно, зачем оно? Грустит ли она о далекости людского мира... Размышляет ли о проблемах геологии... Думает ли о нем, о Рябинине... Или бездумно смотрит на резвых касаток, как завороженно глядит в огонь?
– Маша! – окликнул он, чтобы обратить на себя внимание.
Она тяжело подняла голову, преодолевая ту силу, которая заворожила ее. В слабом свете, идущем от звезд, от светлого песка, от белой гальки, от кофточки, мокро блеснули щеки.
– Плачешь?
– Плачу, Сережа.
– Что случилось? – быстро спросил он, чувствуя, как безвольные слезы подступают и к его глазам.
– Ничего.
– Почему же плачешь?
– Без причины, Сережа.
– Без причины не плачут.
– Беспричинные слезы – самые сладкие.
Рябинин бессильно заходил вокруг. Он не знал, что делают с плачущими женщинами; не знал, что делать с плачущей любимой женщиной; не знал, что такое беспричинные слезы и откуда в них может взяться сладость.
– Кукушку я слушала...
– Сколько насчитала?
Он воспрял, разгадав причину этих слез, – видимо, кукушка мало отвела ей лет жизни.
– Много... Но в одном месте умолкла, как перерыв сделала в два кука.
– Ну и что?
– Значит, будет и в моей жизни двухгодичный перерыв.
– В каком смысле?
– Не знаю... Буду два года не жить, а существовать.
– Из-за этого и расплакалась?
– Нет, Сережа.
– Тогда из-за чего?
Рябинин не понимал ни этих слез, ни этих двухгодичных загадочных куков. Ему казалось, что для слез нужны причины потяжелее – даже для женских. И он не замечал, как к его горлу подкатил уж вроде бы совсем беспричинный душесжимающий ком жалости.
Маша вытерла глаза. Разбрелись по палаткам уставшие геологи. Погас костер, перестав бросать на воду далекие и какие-то шаманские сполохи. Потемнела светлая галька, и глуше заурчала река, словно тоже стала укладываться на ночь.
– Слезы от грусти, Сережа.
– А грусть отчего?
– А грусть, наверное, от счастья.
Рябинин промолчал, не найдясь. Он не видел особой разницы между грустью и скукой. И уж никак не мор соединить грусть со счастьем. Эти ее слова, как и слезы, он отнес к женской психологии, мужчине непонятной и пониманию не подлежащей, не будь она психологией любимой женщины.
– Грусть находит тогда, когда беда подвалит.
– Нет, Сережа. Когда беда, то не до грусти. В беде действуешь, думаешь, страдаешь...
– А когда же грусть?
– Когда хорошо. Так хорошо, что загрустишь и подумаешь: господи, хорошо-то как, не случилось бы чего...
Возможно, она что-то предчувствовала. Он слыхал, что иногда на женщин снисходит божественное провиденье, когда они видят чужие помыслы и слышат рост трав. Тогда Маша грустит от его любви и от его помыслов – сразу после окончания полевого сезона Рябинин намеревался поговорить с ней прямо и окончательно.
Маша встала, задев его склоненное лицо распавшейся прической. И Рябинин не удержался – положил задрожавшие руки на ее вздрогнувшие плечи. Она сняла их легко и осторожно.
– Сережа, полевой сезон не кончился. Завтра нам вместе работать.
Теперь он не сомневался, что сегодня на нее пало неземное провиденье. Отсюда и грусть, отсюда и слезы.
– Сережа, грусть – это предвестник счастья, – сказала она скорее для себя, чем для него.
Грусть – это предвестник счастья... Разумеется. До конца полевого сезона осталось две недели.
Рябинин не мог говорить, словно укладывал ее слова в своем сознании. И они почему-то не укладывались. Он смотрел на Жанну растерянно и ждуще, но она молчала, играя смутной улыбкой. Для чего? Чтобы доказать пустячность ее признания, легкость его настроения?
– Что за бриллиант?
– На колечке.
– А чье колечко?
– Ах, какая разница...
– Колечко личное или государственное? Разные статьи кодекса.