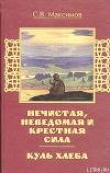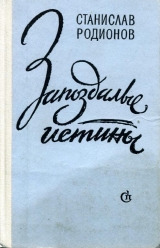
Текст книги "Запоздалые истины"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
– Пьете? – спросил Рябинин.
– Выпиваю, – согласился водитель.
– А как же руль?
– Так не за рулем.
Рябинин посмотрел его характеристики, заботливо припасенные инспектором.
– За что судимы?
– За бабу.
– То есть?
– Назвал на нехорошую букву.
– Выражались нецензурно?
– Ну. А она визжать, хотя была у меня на положении жены.
– Второй раз за что судимы?
– За бабу.
– Так...
– Выпил дряни на три рубля, а шуму наделал на три года.
Рябинин считал, что разбираться в психологии человека – это учитывать его индивидуальность. Он и разговор-то затеял о судимостях, чтобы приблизиться к этой индивидуальности. Приблизился. Что этому человеку хлеб, коли он и людей не щадил.
– Расскажите о вашей работе.
– А чего... Катаюсь по заводу.
– Муку, хлеб возите?
– Это спецмашины с автохозяйств.
– А у вас какие грузы?
– Да всякая мелочишка.
– Все-таки?
– Я вроде подсобника.
– Кому подчиняетесь?
– А всем. Инженеру, механику, бригадиру...
– Все-таки, что вы, как правило, делаете?
– А что прикажут.
Он не хотел говорить. Почему? Ведь его спрашивали не о выброшенном хлебе, не о преступлении, – спрашивали о повседневной работе. Рябинин знал эту наивную уловку... Хлеб, который вывозил водитель с завода, был лишь эпизодом его работы. Следователь начнет расспрашивать про эту работу скрупулезно, расписывая ее по часам и минутам, и тогда придется рассказать – или умолчать – и про хлеб. Так не проще ли совсем про работу не говорить?
– Хлеб с завода вывозили? – прямо спросил Рябинин.
– Какой хлеб?
– Горелый.
Крупный, туго сопевший нос дрогнул. Красное лицо, уж казалось бы, неспособное краснеть, все-таки осветилось новым, более ярким огнем.
– Вывозили, – заключил вслух Рябинин.
– Гражданин следователь, каждый человек друг другу друг, хотя и не знают друг друга.
– И что? – улыбнулся Рябинин.
– Меня не знаете, а какой-то хлеб шьете.
– Леонид Харитонович, вы расписались, что будете говорить правду...
– А что говорю?
– Расскажите, как вывозили хлеб?
– У вас глаза затуманены уголовными статьями.
Рябинин вздохнул. Он не сомневался, что вышел на группку плохих людей, которые теперь будут идти перед ним, как ненужные тени; не сомневался, что человек проверяется многим – и хлебом тоже. Этот Башаев не воевал, не голодал, не холодал – пил да работал кое-как. Да отбывал судимости.
– Леонид Харитонович, вы хлеб... чувствуете?
– Это как?
– Когда едите...
– А я его и не ем.
– Почему же?
– Мне евоный дух на заводе опротивел.
– А что же едите?
– Когда чего... Огурцы, кильку, шашлыки.
– Закуску, значит.
Разговор о хлебе не вышел. Да и какой разговор с человеком, который не выносит хлебного духа... И мог ли этот человек пощадить буханки?
– Тогда перейдем к делу, – жестким голосом Рябинин отстранил всякие необязательные разговоры. – На месте сваленного хлеба нашли отпечатки колеса вашего самосвала. Вы человек судимый, в доказательствах разбираетесь... Так будете говорить?
Башаев удивленно и шумно вобрал воздух носом. И держал его в груди, боясь выпустить, – иначе бы пришлось сразу отвечать на вопрос.
– Чего говорить-то?
– Хлеб в болото свалили?
– Свалил. Так ведь горелый.
– Кто приказывал вывозить?
– Никто.
– Как никто?
– А никто, сам.
– Где же его брали?
– Во дворе завода, у вкусового склада. Найду кучу да и вывезу.
– Неправда.
– Я могу и тое местечко указать.
– Хотите кого-то выгородить?
– Неужель хочу кого заложить? – откровенно вскинулся шофер. Он легко признался в том, что доказано, и век не признается в том, что еще нужно доказать. Рябинин смотрел в его кирпичное лицо; смотрел в глаза, в которых все заметнее сказывалось нетерпение и жажда; смотрел на хорошие волосы, почему-то не задетые ни годами, ни алкоголем, – и думал, что этого человека ничем не тронешь, кроме денег и бутылки. Нет, перед ним был не организатор, не главный преступник.
– Сколько машин вывезли?
– Не считал.
– Какое вам дело до этого хлеба? Почему вы взялись его вывозить?
– А чистота двора на мне лежит.
– Башаев, ведь дело уголовное, подсудное... А вы кого-то выгораживаете.
– Зря стращаете. Горелый хлеб вывезти – что кучу мусора свалить.
Рябинин прикрыл глаза и медленно вдохнул через нос, как и этот Башаев. Оказывается, успокаивает. Сколько раз он собирался припасти коробочку каких-нибудь слабеньких таблеток, какой-нибудь травки, способной утихомирить гулкое сердце.
Есть много выражений типа «скажи,мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Я бы добавил... «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты». А вернее – «скажи мне, что ты не ешь хлеба, и я скажу, кто ты». Ну, если и не скажу, то уж сомнения у меня затлеют. Человек не любит хлеба... А что он любит? Пирожные? Не любить хлеб – значит, не любить полей, неба, простора... Не любить хлеба – это не любить своей родины.
Умные и сильные машины свободно месили многопудовые горы теста, умные и раскаленные машины выдавали из своего нутра раскаленные батоны, умные и деловитые транспортеры везли загорелые буханки... Все гудело, шумело и двигалось. Сновали девушки в белых халатах и белых колпаках. Куда-то беспрерывно отлучался инспектор...
Но Рябинин все это воспринимал каким-то свободным краем мозга – остальное сознание заволокло запахом свежевыпеченного хлеба, который щемящей болью лег на сердце. Что с ним?
Память, возбужденная заветным запахом, вдруг соединила напрямую этот день с днями детства, словно меж ними ничего и не было...
Стакан свекольного чая. Порция песку, выданная в школе, воздушная, как порошок аспирина. И пятьдесят граммов хлеба, которые он крошил в чай и разминал ложкой. И молчаливая клятва: когда кончится война, когда он вырастет, то всю жизнь будет есть только вот такой хлебный супчик, потому что ничего вкуснее быть не может.
Боже, попасть на такой хлебозавод в войну... Попасть бы сюда матери – ведь одной буханки хватило бы сохранить ее жизнь. Да и были ли в войну такие хлебозаводы?
– Неужели мы столько съедаем? – восхитился Петельников.
– Вадим, я вот кончил университет, прочел уйму книг, вроде бы знаю жизнь... Но после военного голода во мне сидит тайная мысль, что живем мы ради еды. Чтобы есть, есть и есть.
Но инспектор был тут, в настоящем:
– Сергей, ты ведь психолог... Сколько лет вон тому мужику?
Меж агрегатов рассеянно прохаживался низкорослый мужчина в сером костюме и наброшенном на плечи халате. По облысевшей голове, одутловатому лицу и полной фигуре Рябинин определил:
– Лет пятьдесят пять.
– Сорок. А какое у него образование?
Из кармана торчит карандашик, взгляд не любопытствующий, не книжник, мыслей на лице нет...
– Среднее.
– Высшее. А кем он, по-твоему, работает?
Это определялось проще – из кармана торчит карандашик, взгляд не любопытствующий, отбывает смену... Начальник цеха. Нет, у начальника цеха забот хватает. Бригадир или мастер. Но, чтобы вновь не ошибиться, Рябинин брякнул наоборот:
– Директор.
– Ага, – подтвердил Вадим.
Неужели «ага»? А ведь в молодости, готовясь к работе следователя, Рябинин ходил по улицам и разглядывал людей, определяя их характер, привычки и специальность. Но ведь не должность.
Мужчина их увидел и подошел быстрым и мелким шагом.
– Вы, наверное, ко мне. Юрий Никифорович Гнездилов, директор. Прошу в кабинет.
– А я посмотрю, как делается хлебушек, – отказался инспектор...
Директорский кабинет удивил старомодностью. Выцветшая карта на стене, графин с прошлогодней водой, шкафик с растерзанными папками, счеты на столе.
– Наш заводик, в сущности, небольшой, окраинный, – отозвался Гнездилов на оценивающий взгляд следователя. – Технологическое оборудование, в сущности, изношено, но план даем, подооборот в норме...
– Сколько лет директорствуете?
– Уже шесть. Хоть заводик и маленький, но забот хватает. В сущности, одно цепляется за другое, другое за третье...
На Рябинина вдруг накатило сонное спокойствие. Графин ли с прошлогодней водой усыплял, старомодные ли счеты успокаивали... Да нет, это директор его гипнотизировал серым костюмом, ровными гладкими щеками, нелюбопытствующим взглядом и ватным голосом – это он убаюкивал.
– Юрий Никифорович, а ведь я следователь, – попробовал разбудить его Рябинин.
– Знаю.
Как не знать, если Рябинин допрашивал шофера, был в управлении и назначил ревизию. И ни испуга, ни тревоги – даже беспокойства не прошмыгнуло в небольших тихих глазах. Неужели у него такая могучая воля? Или совесть чиста? Или он тоже спит, убаюканный собственным кабинетом и голосом? В конце концов, сон – это тоже форма жизни. Но глаза-то открыты, разговор-то он поддерживает.
В кабинет деловито вошли мужчина и женщина, которые показались Рябинину какими-то противоположными: он высокий, худой, с костистым и нервным лицом; она низкая, полная и каравайно кругленькая.
– Наш технолог и наш механик, – встрепенулся директор.
Рябинин пожал им руки – сухую и горячую механика, теплую и бескостную технолога. Они выжидающе сели у стены.
– А это товарищ из прокуратуры, – вроде бы улыбнулся директор. – Хотя мы живем без ЧП...
– Вы согласны? – Рябинин глянул на сидящих у стены.
– С чем? – вроде бы испугалась технолог.
– Что никаких происшествий не было.
– Конечно, – быстро заговорила она. – Органолептические и другие показатели хорошие. Правила бракеража соблюдаем. Вот отстали с бараночными изделиями. Случалось повышенное число дрожжевых клеток, возрастала кислотность среды...
– Брак бывал?
– В пределах нормы, – скоренько вставил директор.
– А хлеб горел? – прямо спросил Рябинин.
– Как сказать... В сущности...
Юрий Никифорович глубоко закашлялся. Рябинину захотелось налить ему водички из графина, но ее застойный вид отвратил от этого намерения. Технолог глядела в пол, рассматривая давно не натираемые паркетины. Острое лицо механика – кости, обтянутые кожей, – было свирепо устремлено на директора, словно он хотел рассечь его надвое.
– Горел, – отрезал механик, не дождавшись конца директорского покашливания.
– Горел, – подтвердил и Юрий Никифорович, сразу успокоившись.
– Три дня назад сгорело около тонны, – добавил механик.
– А раньше? – спросил Рябинин.
– И раньше бывало, – вздохнул директор.
– Почему?
– Автоматика. То одно полетит, то другое. Запчастей нет. Перепады напряжения. Правильно я объясняю, Николай Николаевич?
– Нет, неправильно.
– Ну, как же... Например, вчера вы докладывали, что из мукопросеивателя «Пиората» мука сыплется на пол...
Все смотрели на механика: следователь с любопытством, технолог с опаской, директор как бы очнувшись. Николай Николаевич вскочил и стал походить на гигантский гвоздь без шляпки.
– Верно, технологическое оборудование устарело. Брачок случается. Но есть и еще одна причина – на заводе орудует подлец.
– Какой подлец? – обрадовался Рябинин повороту в разговоре.
– Который вредит заводу.
– Ну, Николай Николаевич, это уж вы слишком, – попытался охладить его директор.
– А я докажу! – механик опять торпедно нацелился на директора. – Бывает, что исправная линия жжет хлеб. Почему?
– Значит, как раз и неисправна, – примирительно отозвался Юрий Никифорович.
– А пожар на вкусовом складе?
– Там вроде бы проводка, – тихо вставила технолог.
– А хлеб, залитый водой?
– Трубы лопнули, – чуть суровее ответил директор, но эта суровость была адресована технологу, встрявшей не в свое дело.
– А тесто на полу?
– Бывают случайности...
– А тикающая буханка?
– Что за буханка? – удивился Рябинин.
– Буханка, понимаете ли, тикала, – без охоты объяснил директор. – Вызвали минеров. Думали, что мина. Оказался, в сущности, будильник.
– О чем это говорит? – страдальчески вопросил механик.
– Хорошие будильники выпускают, – буркнул Рябинин.
– А? – встрепенулся директор.
– Говорю, даже запеченные ходят...
Механик сел успокоенно. Юрий Никифорович, чуть оторопевший от неуместной шутки следователя, умолк. Технолог, одернутая директорским тоном и взглядом, больше не отрывала глаз от щербатого паркета. В сущности, ими все было сказано. Оставался лишь один вопрос директору.
– С этим подлецом нужно разбираться особо... Юрий Никифорович, кто приказал вывезти горелый хлеб?
– Я.
– И выбросить в болото?
– Упаси бог. Я велел отвезти на какую-нибудь ферму.
– А что нужно было сделать с этим хлебом по правилам?
– Перебрать, переработать, – вздохнул директор. – Но где я для этого возьму рабочих, где возьму время?
– И вы решили хлеб выбросить?
– Тут моя промашка...
Рябинин видел, что эта промашка трогает директора не больше, скажем, чем графин с позавчерашней водой. Он относился к тому типу руководителя, которые ничего не желают знать, чтобы ничего не делать.
– Не под суд же меня за этот хлеб, – натужно улыбнулся Юрий Никифорович.
– Во всяком случае, внесу представление о вашем наказании.
Горожане помогают селу в пору сенокоса и уборки урожая. Некоторые ездить не любят, считая, что это не их дело. А сколько я знаю работников, которые годами бесплодно покуривают в тихих учреждениях, и убранная сотня кочнов капусты или выкопанные несколько мешков картошки – единственно принесенная ими польза.
Но я бы делал так... Кем бы ни был человек, каких бы званий, профессий и должностей ни имел, пусть обязательно проработает одну страду на уборке хлеба. Именно хлеба.
Белый халат, распяленный его плечами, суховато потрескивал в швах.
Сначала Петельников шел за примеченной горкой теста по всей линии. Подвижную и упругую, почти живую массу крутило, приглаживало, катало и резало до самой печи. Там инспектор сразу вспотел и пропитался горячим хлебным духом.
Потом он стал бродить свободно, затевая разговоры, задавая вопросы и отпуская шуточки. Очень скоро инспектор узнал, как бракуется хлеб, – была книжечка с решительным названием «Правила бракеража». Узнал смысл красивых слов – «органолептические показатели». Узнал, что у дрожжей есть сила, которая так и звалась – подъемная сила. Узнал, чего вкусненького хранится на вкусовом складе... Но про горелый хлеб люди молчали, отделываясь необязательными словами и туманными предположениями. Мол, иногда горит. А когда, почему, сколько и куда девается...
Вольный поиск привел инспектора в. небольшую чистенькую комнату: стол, накрытый светлой клеенкой; никелированный электрический самовар; белые, разомлевшие от жара, калачи; тарелка с пиленым сахаром; шесть девушек в белых халатах, похожих на разомлевшие калачи.
– Приятного аппетита, заодно и счастья в личной жизни! – весело сказал инспектор.
– Садитесь к нам, – предложила та, которая была постарше.
– И сяду, – так же весело согласился он.
Перед инспектором оказалась большая фаянсовая чашка, налитая темным чаем, – уж тут бы молоко пить, чтобы оставалось все белым. Пара калачей, легших на тарелку, доносили свой жар до его лица. Он набросал в чашку сахара, переломил калач, отпил чай и оглядел девушек...
Белые халаты и белые шапочки роднили их, как сестер. И разрумянились все шестеро – от печного жара ли, от чая ли или от калачей?
– Девушки, почему умолкли?
– Нам впервой пить чай с милиционером, – хихикнула одна, у которой белесые бровки, казалось, были присыпаны мукой.
– А вы представьте, что я жених.
– Невест больно много, – заметила старшая.
– Неужели все незамужние?
– Все, кроме меня.
– Девочки, а чего так? – огорчился инспектор.
Отозвались все разом:
– Не берут.
– За городом живем, до всяких дискотек далеко.
– Специальность непрестижная – хлебопеки.
– И получаем мало.
– Мы вроде как полудеревенские.
Петельников обрадовался – разговор пошел. Но тот легкий треп, который давался ему шутя и частенько приводил к цели, вроде бы свернул на другие, серьезные колеи.
– Красавицы, а не сами ли виноваты?
Они не нашлись с ответом, потому что ждали сочувствия, ждали других слов, к которым привыкли: мужчин рождается меньше, мужчины идут в армию, мужчины пьют... Этот же милиционер с твердым и открытым лицом, аппетитно уминающий калачи, вдруг подбросил им сомнение, которое тайно живет в каждом и лишь ждет вот таких неожиданных слов.
– А чем виноваты? – все-таки спросила одна, та, которая с мучнистыми бровками.
Инспектор ответил вопросом, обратившись к первой, ближайшей:
– Каким спортом занимаетесь? Бадминтон, теннис, турпоходы?
Она испуганно оглядела подруг. Но инспектор уже спрашивал вторую:
– Сколько книг прочитываете в месяц? Есть своя библиотека?
И она не ответила – растерялась ли, читанные ли книги подсчитывала.
– Какую общественную работу ведете, а? – спросил он третью.
Она пожала плечами.
– Концерты, филармония, выставки, поэтические вечера?
– Далеко ездить, – отозвалась четвертая.
– Чем вы увлекаетесь? Кактусы, летающие тарелки, макраме, наскальная живопись или каратэ?
Пятая промолчала, уже догадавшись, что на эти вопросы отвечать не обязательно.
– Девочки, да вам не замуж идти, а пора топать в клуб «Кому за тридцать», – заключил инспектор.
Та, которая с мучнистыми бровками, засмеялась так, что на столе вздрогнули калачи. И все ответно улыбнулись.
– Они активные, – заступилась шестая.
– Активные? – громко удивился инспектор. – Я тут полдня хожу, а они молчат.
Девушки, как по команде, взялись за чашки и утопили в них взгляды. Стало тихо – лишь урчал самовар. И от тишины сделалось вроде бы еще белее.
– Вот и вся активность, – усмехнулся инспектор.
– Директор-то человек хороший, – вздохнула старшая.
– Поэтому можно жечь хлеб?
– Мы не жжем, – она поджала губы.
– А кто жжет?
– Ой, девочки, нам пора, – всполошилась старшая. – А вы еще попейте...
Они воробьиной стайкой выпорхнули из комнаты. Инспектор пододвинул к себе блюдо с калачами – он еще попьет.
Петельников не ждал откровенного разговора за чашкой чая, но и не ждал такого дружного противостояния. Он не сомневался в конечном успехе, – злило ненужное упорство. Неужели эти девушки не понимают, что горы сожженного хлеба не утаишь? И неужели им не жаль своей работы?
Инспектор остервенело взялся за третий калач – он отомстит этим девицам, съев все это блюдо. Да ведь они напекут новых...
В чайную комнату влетела с запоздалой сердитостью мучнистобровая девушка:
– А вы зато обжора!
И выпрыгнула за дверь, оставив инспектора наедине с калачами.
Печеным хлебом кормят скот. Голуби в городах прыгают по накрошенному хлебу. В мусорных бачках торчат окаменевшие батоны. В столовых искромсанного и недоеденного хлеба столько, что хватило бы еще на одну столовую. Школьники бросаются кусками, а то и сыграют буханкой в футбол. Вот и хлебозавод сжигает...
Показать бы это мужику восемнадцатого, девятнадцатого века. Дореволюционному мужику показать, людям гражданской войны и Отечественной показать бы.
Почему же так? Сыты? Голодный человек хлеб не выбросит. Но есть, по-моему, и другая причина.
Раньше к производству хлеба была причастна основная масса народа. Теперь же им занимается лишь часть общества, меньшая.
Раньше мужик пахал земельку, идя по ней ногами своими. Сеял, жал, молотил цепами, да с лошадкой. Хлеб пек сам, баба его пекла, предвкушая первую хрустящую корочку...
Теперь тракторист пашет сидя – тоже работа нелегкая, но он имеет дело с трактором, а не с землей; он высоко, он над ней. Убирает на комбайне – тоже руки заняты не снопами, а рычагами, тоже сидит высоко. Мелют зерно на мельнице – все механизировано, лишь кнопки нажимай. Ну, а как пекут, я видел – поточная линия, электропечи, кнопки, рубильники. Выходит, что производство хлеба как бы отделилось от человека.
Раньше хлеб был полит жарким потом. Может, поэтому его и ценили? Теперь его добывают индустриальным способом. Может, поэтому и не ценят?
В кухоньке вроде бы все было: шкаф-пенал, столик, полки, плита... Даже люстра. И все же кухонька выглядела захудалой. Мебель была собрана из разных гарнитуров. Пенал облупился. Старомодная черная плита от времени как-то заиндевела. На давно не крашенных стенах желтели пятна и пятнышки. Люстра, похожая на старинный бубен, светила тускло и масленисто.
Та женщина, которая была на приеме у директора хлебозавода, стояла возле окна. Пепельные волосы, бледное лицо и линялый халат сливались в одну затушеванную серым фигуру. Может быть, только глаза выделялись непокорной силой.
На столе лежала тугая пачка зеленого лука. Свежие огурцы были насыпаны, как просыпаны. Серая крупная соль поблескивала в большой деревянной чашке. Буханка ржаного хлеба, нетронутая и нерезаная, забыто покоилась в стороне. А в центре стола гордо стояла бутылка водки, как церковь посреди изб.
Башаев, с красным отяжелевшим лицом, бессмысленно спросил:
– Тебе налить?
– Еще чего... И сам бы не пил.
– А почему?
– До хорошего не доведет.
– Кто спешит к бутылке, тот спешит к могилке, – ухмыльнулся Башаев.
– Вот именно.
– С водочкой дружить – за решетку угодить.
Он залпом выпил полстакана и хрустнул огурцом так, словно раскусил грецкий орех. Лук жевал уже медленно, вроде бы прислушиваясь к его горькому вкусу.
– Тучи собираются на горизонте, – туманно сообщил он.
– Что?
– К следователю меня таскали.
– За что?
– За дурь мою.
Новую порцию водки налил он рывком и выпил махом, остервенело. Огурец средней величины полетел в рот и тоже хрустел там звонко и пусто.
– Ну и чем кончилось? – вяло спросила она.
– Отпустил, доказательств у него ни хрена нету.
– Доказательств-то... насчет чего?
– А это не твоего ума дело.
– Тогда к чему затеваешь разговор? – спросила она так, что можно было и не отвечать.
Башаев и не ответил. Его лицо, и прежде красное, теперь прямо-таки набухло кровью, доказывая, что эта бутылка сегодня не первая. Волосы, курчавые и крепкие, влажно обмякли. И без того маленькие глаза вовсе пропали, как провалились в череп.
– Значит, пьешь с радости? – усмехнулась она.
– На свои пью.
– Мог бы пить в другом месте.
– А у меня вопросик есть...
Он взял бутылку и глянул на свет – сколько там осталось? То ли в стекле была синева, то ли водка какой-то особой чистоты, но жидкость показалась голубоватой. Башаев вылил ее в стакан и выцедил с неожиданной гримасой.
– Все, отстрелялся.
– Вопросик-то какой? – заинтересовалась женщина.
– Тебя видели на хлебозаводе...
– Ну и что?
– Зачем приходила?
– А ты мне кто, чтобы допрашивать?
– Вынюхивала?
– Выпил? И прощай...
Оказывается, глаза у Башаева не исчезли бесследно – от злости они появились вновь и смотрели на женщину с тем голубоватым огнем, которым светилась выпитая водка.
– Мужу яму роешь?
– Не твое дело...
– Смотри не попади в эту яму вместе с ним.
– Уходи!
– Я-то уйду, а ты спи-спи да и проснись.
– Что-что?
– Проснись глянуть, не тянется ли к твоему горлу костлявая ручонка...
И Башаев расхохотался смехом, на который все в кухоньке отозвалось звоном и дребезжанием.
– А ну пошел прочь! – крикнула женщина.
Он поднялся неожиданно легко, пробежал и тут же хлопнул дверью в передней. Женщина исступленно схватила пустую бутылку и запустила вслед. Бутылка ударилась о косяк и разлетелась на крупные голубоватые осколки.
Принято говорить о силе слов, которые способны убить и способны воскресить. А цифры? Они могут хлестнуть по нервам не хуже слов. Ну хотя бы эти...
Если каждая наша семья выбросит в день сто граммов хлеба – по кусочку, значит, – то для получения этого всего выброшенного хлеба нужно распахать, миллион триста тысяч гектаров земли.
После директорского кабинета Рябинин бродил по коридорам административного этажа, раздумывая, что же делать дальше...
Вроде бы все ясно и осталось только решить, есть ли в действиях Юрия Никифоровича и Башаева состав преступления. Если они выбросили только одну машину хлеба. А если не одну? Наверняка не одну – сами признаю́тся. Тогда нужно их считать, эти выброшенные машины; тогда он вышел на след тяжкого преступления. Да еще какой-то вредитель.
Рябинин усмехнулся – показать бы это следствие в кино. Ни убийцы, ни оружия, ни трупа, ни погони... Вместо них буханки хлеба, тесто, агрегаты; а потом будут экспертизы, ревизии, бухгалтерские документы... И смотреть бы не стали, ибо зритель приучен к однозначному преступнику, страшному и противному, как семь смертных грехов.
Преступников делил он на три вида.
Первые, самые многочисленные, были глубоко аморальными личностями, которые долго шли к естественному концу – нарушению закона, – преступники в истинном понятии этого слова.
Вторые, как бы случайные преступники, встречались значительно реже: неосторожность, мимолетная вспышка гнева, наезды, превышение необходимой обороны...
И совсем уж редко вступали в противоречие с законом те незаурядные личности, которые не нарушали мораль, а не укладывались в ее рамки – может быть, два-три дела он провел за все годы работы.
Рябинин и раньше знал об уязвимости своей самодельной классификации, но теперь вдруг обнаружил, что тот преступник, который жег и выбрасывал хлеб, не ложится ни в один из ее видов. Правда, водитель Башаев был человеком аморальным, но ведь не он же главный преступник.
Рябинин остановился у двери с табличкой «технолог» – надо допросить ее и механика...
Она испугалась, будто следователь пришел ее арестовать. Глаза смотрели с молчаливым упреком, колобковые щеки задрожали, а руки начали суетиться по столу, по разложенным бумагам. Увидев бланк протокола допроса, она почти вскрикнула:
– А при чем тут я?
– Всех буду допрашивать...
– Господи...
После анкетных вопросов она вроде бы успокоилась. Видимо, успокаивал и уютный кабинетик, какими кажутся все маленькие комнаты, да еще горячие батареи, да скраденный гул агрегатов, да хлебный запах, пропитавший тут вроде бы каждую стенку... И Рябинин разомлел. Или на этом заводе все успокаивает и все убаюкивает?
– Анна Евгеньевна, что вы скажете о том вредителе?
– Ничего не скажу, – мгновенно ответила она.
– Почему? Не хотите?
– Да не видела я никакого вредителя.
– А механик вот говорит...
– Вот пусть и скажет, где он его видел.
– Но ведь он приводит факты.
– На каждом большом предприятии такие факты случаются.
– Значит, во вредительство вы не верите...
Рябинин записал в протокол. Она по-заячьи скосила глаза на жидкие строчки.
– Анна Евгеньевна, а хлеб часто горит?
– Бывает, – нехотя выдавила она.
– Сколько вы знаете случаев?
– Я не считала.
– В каких документах это отражается?
– Не знаю.
Их разделял лишь стол, но ему казалось, что они стоят на разных льдинах и полынья меж ними все растет и растет. Он понимал эту округлую женщину – сор из избы. Технолог, ответственное лицо, свой завод, ей работать с людьми... Взять да и выложить следователю – и про этих людей, и про завод, и про начальство, и в конечном счете про себя? Нужно мужество. Ну, хотя бы сила характера. Он ее понимал. Вот только кто его поймет?
– Странно... Вы же, как технолог, отвечаете за качество хлеба.
– Да, за негорелый.
– А за горелый?
– Кто жжет, тот пусть и отвечает.
– А кто жжет?
– Знаете же, кто. Механизмы.
– Вы так говорите, будто вас это совершенно не касается.
– За механизмы отвечает механик.
– А вы, значит, ни при чем? – разозлился Рябинин.
Она поправила волосы, бросила руки на колени и глянула на следователя; словно его тут не было, а вот влетел через форточку, как Карлсон с крыши. Они тихо смотрели друг на друга: она изумленно, он – зло. Но злость ему не помощница.
– Анна Евгеньевна, когда горел хлеб, директор был на заводе?
– Все были на заводе...
– Кроме механика, разумеется?
– И механик был.
– Ну, а почему все-таки горелый хлеб не перерабатывали?
– Нет у нас для этого возможностей, дефицит рабочих...
Рябинин писал протокол так, словно ему что-то мешало. Он вскидывал голову и смотрел на технолога – что она утаила? Чего он не понял? Отдаленное беспокойство, такое отдаленное, что он никак не мог высветить его в своем сознании, пришло внезапно, и он уж знал – надолго. Что-то она сказала очень важное...
– Говорила я Юре, что беды не миновать, – вздохнула она, словно забыв про следователя.
– Какому Юре?
– Директору.
– Юре?
– Ох, извините... Он мой муж.
Есть такое изречение, которое стало чуть не пословицей: «Понять – значит простить». Оно не для следователя. Понять – да, но простить...
Техника, нет рабочих, нет запасных частей, меняется напряжение... Я пойму их. Но как можно простить русского человека, выросшего на хлебе, как простить того, в генах которого вкус этого хлеба, может быть, отложил свой невидимый виток?
Понять – значит простить. Нет, понять и наказать.
Рябинин намеревался допросить механика, но Петельников уговорил прерваться на обед, благо машина у них была. По дороге выяснилось, что инспектор уже наелся калачей и напился чаю. А потом, подъезжая к прокуратуре, он прямо сказал, что убывает в райотдел заниматься своими делами. Разгоряченные спором и окропленные дождем – намочил, пока садились в машину и пока выходили, – шумно ввалились они в рябининский кабинетик.
– Только время зря убили, – бросил Петельников, стаскивая плащ.
– Почему зря?
– Нет же состава преступления?
– Погубили машину хлеба – и нет состава?
– А какой? Кражи нет.
– Надо подумать. Халатность, порча государственного имущества, злоупотребление служебным положением...
– Сергей, да тонна хлеба, тысяча килограммов, по четырнадцать копеек, стоит сто сорок рублей... Посадишь двоих человек на скамью подсудимых за сто сорок рублей? Не за кражу!
– Хлеб нельзя оценивать деньгами.
– Почему же?
– Потому что хлеб.
Петельников усмехнулся этому необъясняющему объяснению и подсел к паровой батарее ловить слабое тепло.
– Сергей, у тебя к хлебу религиозное отношение. Человек тысячелетиями зависел от хлеба, и эта зависимость отложилась у него в генах. Вот и молится.
Рябинин не умел спорить об очевидном – у него не находилось ни слов, ни пылу. Известную мысль о том, что в спорах рождается истина, наверняка придумал ироничный человек; все споры, в которых беспрерывно кипел Рябинин, рождали только новые загадки для новых споров. Но хлеб не имел никаких загадок – человечество за тысячи лет все их разгадало, и он стал простым и необходимым, как правда.
– Хлеб, Вадим, – богатство страны, – вяло сказал Рябинин.
– А молоко, сталь, сливочное масло, нефть?..
– Почему уборку зовут «битвой за хлеб»?
– А качать нефть в Сибири или строить там железную дорогу легче?
– Почему гостей встречают хлебом?
– Не поллитрой же встречать, – усмехнулся Петельников, как-то сразу понизив накал взаимных вопросов.
Рябинин протирал очки, которые, казалось, набухли водой еще со вчерашнего дня. У него появилось смешное желание просушить очки на паровой батарее. Но там грелся инспектор.
– Вадим, в конце концов, хлеб очень вкусный...
– А шпик, сметана, картошка, рыба? Я уж не говорю про воблу.
– Хлеб никогда не приедается.
– Я что-то никого не знаю, кому бы приелось мясо.
– Шутишь, а хлеб дороже золота...
– Ты загляни на помойку, там этого золота навалом.
– Может быть, такие, вроде тебя, и выбрасывают.
– Дороже золота, а буханка четырнадцать копеек стоит.