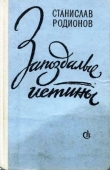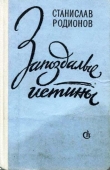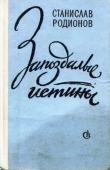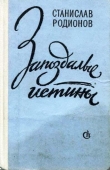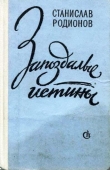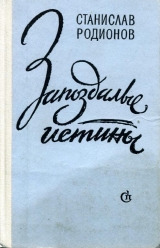
Текст книги "Запоздалые истины"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 29 страниц)
– Сергей Георгиевич, гражданка Дыкина задержана при передаче денег гражданину Катунцеву, о чем есть свидетели.
Рябинина пронзила торопливая радость: нет, это не копеечная деталь. Теперь следствие окончено; эта взятка, как лопнувший нарыв, вывернет тайну дела – и следствие закончится.
– Свидетели, посидите, пожалуйста, в коридоре, – попросил Рябинин не своим, нетерпеливым голосом.
Они вышли. По велению его руки Дыкина и Катунцев сели к столу друг против друга, как для очной ставки. Леденцов остался стоять у двери, краснея головой, точно на нее пал случайный луч случайного осеннего солнца.
– Сколько? – спросил Рябинин разом у всех.
– Тысяча рублей, – ответил Леденцов, положил на стол белый пакет и вернулся к двери.
– За что? – опять спросил Рябинин у всех.
– Они знают, Сергей Георгиевич.
Рябинин на них и смотрел. Катунцев преломил свое широкое тело и разглядывал пол, лишь залысины мокро блестели, как подтаяли. Дыкина сидела, выставив вперед алеющие скулы, и упиралась в следователя неотводимым взглядом.
– За что дали деньги? – спросил он Дыкину.
– А вы у него узнайте, – кивнула она на Катунцева.
– Впрочем, и так ясно, – отрезал Рябинин, пытаясь сбить этот неотводимый взгляд. – За то, чтобы он не настаивал на привлечении вас к уголовной ответственности.
Дыкина улыбнулась своей острозубой улыбкой:
– А я не давала.
– Давала-давала, – подал голос Леденцов.
– А ты видел? – она повернулась к инспектору, теперь вперив в него неотводимый взгляд.
– Мы трое видели.
– Что видели-то?
– Конверт у вас в руках.
– А откуда он у меня взялся, парень?
– Из сумочки, тетенька.
– Нет, не из сумочки, – сказала она уже следователю, повернушись к нему с такой силой, что на столе шелохнулись бумаги.
Рябинин спохватился, что все делает неверно: надо же допросить каждого в отдельности, а затем провести очные ставки... Но его желание поскорее дойти до сути было так нетерпеливо, что он уже не мог да и не хотел остановиться. И, может быть, это компанейское следствие вывезет быстрее, чем сделанное по правилам.
– Гражданка Дыкина, вы отрицаете, что давали деньги гражданину Катунцеву? – официально спросил Рябинин.
– Да, отрицаю.
– Зачем же вы встречались?
– Он просил.
– А зачем взяли с собой деньги?
– Это не мои деньги.
– А чьи?
– Мои, – сказал вдруг Катунцев, распрямляясь.
– Ваши?! – не удержался от изумления Рябинин.
Катунцев стремительным жестом снял очки и глянул – нет, не на следователя, на которого должен был бы сейчас посмотреть, – а на Дыкину. Она ответила ему таким же неистовым взором, и эти их взгляды, брошенные друг на друга, не отводились, словно их замкнуло высокое и тайное напряжение, отчего Рябинин подумал, что встань он сейчас на пути этих скрещенных взглядов – просветили бы, прожгли.
– Почему ваши деньги оказались у Дыкиной?
– Я дал.
– За что?
– Чтобы она вернула моего ребенка.
– Зачем же платить деньги, когда есть правовые органы?
– Пока вас дождешься...
Все слова произнес он, не отцепляясь взглядом от взгляда Дыкиной, – их так и держало то высокое и тайное напряжение. Рябинин мог требовать откровенных показаний, приличного поведения в кабинете; мог требовать честной жизни, трезвой работы и семейной порядочности... Но у него язык не поворачивался сказать взрослому дяде: «Смотрите на меня».
– А ведь сказали неправду... К дому Дыкиной вы ходите с самого начала следствия.
Теперь Катунцев глянул на следователя, но глянул немо, без припасенных слов. Рябинин бы их подождал...
Дверь распахнулась как-то играючи, от большой силы, чуть не утянув за собой Леденцова. Большая играющая сила была только у одного рябининского знакомого. Петельников вошел в кабинет, в его середину, на что хватило одного широченного шага, и быстрым взглядом окинул Катунцева, и этот взгляд как бы повел в коридор. Рябинин догадался:
– Гражданин Катунцев, посидите, пожалуйста, в коридоре.
За ним вышел и Леденцов, видимо задетый тем же выводящим взглядом.
Петельников сел на катунцевское место и воззрился на Дыкину, отчего ее неотводимый взгляд отвелся-таки, выискивая что-нибудь более приятное и спокойное. Оно в кабинете оказалось – следователь.
– Сергей Георгиевич, я был на работе этой гражданки...
Рябинин и Дыкина смотрели друг на друга молча, и оба ждали слов инспектора.
– Там мне назвали ее старую приятельницу Зинаиду Гущину...
В простоватом лице Дыкиной что-то сместилось: то ли щеки дрогнули, то ли нахмуренный лоб безвольно разгладился, то ли губы переспело обмякли.
– Кстати, эта Гущина работает машинисткой. Так что если писать анонимку на столе, где она печатала...
Дыкина бледнела и не спускала глаз с Рябинина, словно ждала от него помощи.
– Гущина живет на проспекте Академиков, дом семьдесят три, квартира десять...
Дыкина, побелевшая и бескровная, не двигала ни единым мускулом – не моргала и, кажется, не дышала.
– Полагаю, ребенок там, Сергей Георгиевич.
Даже инспектор со своей боксерской реакцией не успел...
Дыкина взвилась над столом, как смерч, – лишь звонко щелкнул по полу упавший стул. Рябинин бессознательно прикрыл очки. И понял, что в тот миг, на который он заслонился, произошло что-то странное, никогда не бывавшее в этом кабинете. Он сбросил ладони со стекол очков и глянул ошарашенно...
Дыкиной в кабинете не было – у края стола, вровень с ним, одиноко висела лишь ее голова. От растерянности Рябинина прошили два глупых вопроса – где же тело и почему не шелохнется инспектор? Рябинин вскочил, ничего не понимая. И тогда увидел, что там, за столом, Дыкина стоит перед ним на коленях...
Он почему-то сразу вспотел. Чем только его не испытывали? Взятками, услугами, подходами, угрозами... Но вот впервые пытают жалостью. Да нет, к его состраданию обращались не раз, – теперь испытывают на честолюбие. Стоит, как перед владыкой. А ведь от такой власти у молодого следователя может закружиться голова.
– Немедленно встаньте, – тихо приказал Рябинин.
Но что она делает? Пытается неумело поймать его руку и поднести к губам. Поцеловать его руку. Да она с ума сошла...
– Встаньте же...
– Не забирайте ребенка!
Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью...
...Есть унижение, которое возвышает.
Инспектор схватил Дыкину под локти, поднял, как картонную, и усадил на стул. Теперь ее лицо горело сухим огнем – ни единой слезинки ни в глазах, ни на щеках.
– Ради бога, оставьте мне ребенка, – простонала она.
– Да вы слышите ли, что говорите? – чуть не вскрикнул Рябинин.
– Что я говорю?
– Просите отдать вам чужого ребенка?
– Это мой ребенок.
– Как это ваш? У него есть отец и мать...
Она откинулась на стул и выдохнула, пылая сухим жаром:
– Я – мать!
– Как это вы?
– Я родила ее! Это моя родная девочка...
Из дневника следователя. Не знаю, кем станет моя Иринка. Не знаю, сколько она будет зарабатывать и проживет ли в достатке. Не знаю, сделается ли красавицей или дурнушкой. Не знаю, какого найдет мужа и найдет ли. Даже не знаю, будет ли умной, способной, волевой, образованной... Но я точно знаю, что она вырастет душевным, а значит, и хорошим человеком.
Ходила с подружками в больницу проведать девочку и видела там много больных и несчастных. Вернулась домой тихая, сосредоточенная, задетая бедами других. Подошла ко мне и молча поцеловала, чего раньше без причины не делала.
Шли мы с ней по улице и увидели грузовик с поросятами. Она, конечно, спросила, куда их везут, а я, конечно, сдуру брякнул, что на мясокомбинат. Иринка третий день не ест мяса.
Рябинин был готов к признанию, но не к такому. Он растерянно подался к инспектору, который ответил пожатием своих широких плеч. Да она выдумала все, обезумев от дикого желания присвоить чужого ребенка... Нужно провести психиатрическую экспертизу – вменяема ли?
– А вы спросите у него! – зло предложила Дыкина.
Рябинин пробежался по кабинету, он научился, он умел – два шага до двери и два шага обратно. Нужно спросить, теперь же, не составляя никаких протоколов, пока воздух накален странной и нервной энергией, как электричеством перед грозой. Нужно спросить. Рябинин вновь оказался у двери, выглянул в коридор и позвал Катунцева.
Он вошел тяжело и набычившись, как борец на ковер. Его темный взгляд окинул кабинетик, оценивая, что тут произошло за то время, пока он сидел в коридоре. Ненужные очки, которые он держал за дужки, дрожали мелко, по-осеннему, словно его правая рука нестерпимо мерзла.
– Чей ребенок? – спросил Рябинин, не предлагая ему сесть и не садясь сам.
– Мой, – сразу ответил Катунцев, не удивившись этому дурацкому вопросу.
– Чей ребенок? – Рябинин стремительно повернулся к Дыкиной.
– Мой, чей же еще?!
– А, Катунцев?
– Ребенок мой, – отрубил он, не глядя на Дыкину.
– Кто же из вас говорит правду?
– Оба, – сказал вдруг инспектор.
– Оба?! – Рябинину показалось, что он ослышался.
Но Катунцеву и Дыкиной, видимо, так не показалось – он не взорвался, она не вскрикнула. Молчал и Петельников, чего-то выжидая. Рябинин остро глянул на него – что?
– Это их общий ребенок, – объяснил инспектор.
Но Рябинин не отвел взгляда: как узнал, где и давно ли? Впрочем, инспектор мог догадаться тут, сейчас, – он человек быстрого ума, не чета ему, тугодуму. Это их общий ребенок... Тогда все становится на свои места. Все ли?
И потерялся, следя за убегающей мыслью...
...Источник квалификации следователя лежит не в знании криминалистики и права, а в знании людей и жизни.
Пролетела хорошая мысль, и он напряг мозг, чтобы ее запомнить, – слишком много их, хороших и простеньких, которые неизвестно где берутся и неизвестно куда убегают.
– Дыкина, подождите в коридоре, – бросил Рябинин.
Она вышла напряженно, какими-то резиновыми шагами, готовыми к прыжку – сюда, в кабинет, где ничего не договорено и не решено. Инспектор исчез вслед за ней, потому что оставлять сейчас Дыкину одну было нельзя.
Рябинин приготовил бланк протокола допроса. Он почему-то сразу устал, словно ворочал бревна. От своего ли долгого непонимания, от психической ли слепоты... Или от наступившей в деле ясности?
– Рассказывайте, – велел Рябинин.
Катунцев нервно огляделся, будто черная сила невидимо потянула его в омут и ему была нужна протянутая рука – любая. Но в кабинете никого больше не было, а следователь не отозвался. Тогда Катунцев опустил взгляд на стол, на пакет с деньгами, и в его глазах, в его лице, следом за просьбой о помощи, далеким сполохом прошла злоба. Это у потерпевшего-то. И Рябинин понял, что Катунцев жалеет о своем обращении в следственные органы – ему проще было бы договориться с Дыкиной.
– Товарищ следователь, жизнь есть жизнь.
Рябинин кивнул, поборов усмешку. Жизнь есть жизнь. Популярная фраза, которая вроде бы все объясняла, ничего не объяснив. Коротко, мудро и загадочно. Но он-то знал, что за этим афоризмом следует какая-нибудь пошлость или банальщина.
– С Валентиной Дыкиной состоял я в связи. В прошлом. И как плачевный результат появился ребенок...
– Вы Дыкину любили? – спросил Рябинин, удивившись, почему не спросил про жену; видимо, из-за его слов «плачевный результат».
Катунцев сумрачно и непонимающе смотрел на следователя, словно тот спросил его о чем-то непотребном.
– Ах, да: жизнь есть жизнь, – усмехнулся Рябинин, зная, что этой усмешкой может спугнуть признание Катунцева.
– Моя супруга оказалась бездетной. Это с одной стороны. С другой стороны, Валентина учиняла скандал за скандалом. Мол, или женись на мне, или бери ребенка. И я выбрал последнее. Жена так хотела ребенка, что намеревалась взять в детдоме. А тут свой. Сочинил я легенду. Мол, у одной старушки есть девица, которая хочет тайно родить, отдать ребенка и остаться в неизвестности. Жена согласилась. Так вот мой собственный ребенок оказался у меня.
– А как оформили юридически?
– В сельской местности. Сослались на утерю справок.
– Жена до сих пор не знает?
– Нет.
– А Дыкина просила ребенка вернуть?
– Нет. Но когда он пропал, я сразу подумал на Валентину.
– Почему?
– У нее инстинкт проснулся.
– А у вас... проснулся?
Катунцев опять глянул непонятливо.
– Извините, жизнь есть жизнь, – спохватился Рябинин.
– А я живу не инстинктами, – все-таки ответил Катунцев.
Рябинин еще раз спохватился, но теперь не нарочито – он спрашивал о любви к Дыкиной, не спросил о любви к жене... Любовь к женщинам, а ведь уголовное дело не об этом. И не узнал главного. Не спросил, опустился бы Катунцев на колени ради своего ребенка, как стояла тут Дыкина...
– А дочку вы любите?
Катунцев помолчал и посмотрел на следователя открыто, с чуть притушенным вызовом:
– Почему вы копаетесь в личных отношениях, а не следствие ведете?
– Тут все следствие и заключается в том, чтобы разобраться в личных отношениях.
– Ну и долго будете разбираться?
– Если бы вы сразу сказали правду, то хватило бы дня.
Катунцев не ответил, усмехнувшись тяжело и неохотно.
– Мне кажется, что вы не доверяете следственным органам.
– Не следственным органам, а вам.
– Мне? – бессмысленно переспросил Рябинин как бы у самого себя.
Ему опять не ответили – он же спросил у самого себя, он же задал не тот вопрос. Нужно было спросить: «Почему?» Неужели только потому, что потерпевший уловил его неприязнь? И потерпевший будет прав, ибо свои симпатии-антипатии следователь обязан скрывать, как тайный порок. Бесстрастность – признак высокого профессионализма.
И потерялся, следя за убегающей мыслью...
...Бесстрастность – признак недоброй души.
– Почему? – спросил Рябинин как бы подталкивая убегающую мысль, чтобы она скорее убежала.
– Вы слишком добрый человек.
– С чего вы взяли?
– Уж вижу.
– А это... плохо?
– Я бы не хотел, чтобы меня допрашивал добрый следователь.
– А какой же – свирепый?.
– Да, свирепый. Ему дело иметь с преступниками, а не с барышнями. Вы, к примеру, можете эту Дыкину и пожалеть.
И Катунцев испытующе и колко глянул на следователя. Рябинин хотел ответить лишь откровенным взглядом, но не удержался и от прямых слов:
– Вы не любите свою дочку.
– Откуда вам это известно?
– Я помню первый разговор в этом кабинете.
– Но ее безумно любит моя жена.
Рябинин писал, испытывая нарастающую обиду, словно его оскорбили. Но его и оскорбили, назвав добрым. Иначе у него не вырвался бы этот дикий вопрос: «С чего вы взяли?» Мол, с чего выдумали такую глупость... Да нет, его не оскорбили, а намекнули на какую-то неполноценность. Но в этом кабинете кем только его не называли: дураком, службистом, ищейкой... И он только улыбался, потому что знал, что не дурак, не службист и не ищейка. Почему же теперь испортилось настроение? Или Катунцев попал? А быть добрым – стыдно? Ну да, быть добрым – это быть тихим, непробивным, непрестижным, второсортным...
– Подпишите протокол.
– Как вы поступите с Дыкиной? – тревожно спросил Катунцев.
– Сперва с ней поговорю.
И потерялся, следя за убегающей мыслью...
...Следователем может работать только добрый человек.
Из дневника следователя. Иринка пришла из школы заплаканная, какая-то замурзанная. Мы с Лидой всполошились:
– Что такое? Двойка?
– Нет, Мария Кирилловна про озера рассказывала. Про Байкал, про Селигер...
– Ну и что? – громко удивился я.
– Да-а, и про Ладожское озеро.
– Ну и что? – понизил я голос.
– Да-а, и про «Дорогу жизни».
– Так что? – уже тихо спросил я.
– Да-а. Она стала плакать.
– Ну, а ты почему в слезах?
– Да-а, и я заплакала.
Входя в свой кабинет, Рябинин частенько оглядывал грязно-малиновую дверь и думал, что же чувствуют ждущие тут вызова к следователю. И когда Дыкина появилась из-за грязно-малиновой двери, он увидел, что она там чувствовала...
Ни неотводимого взгляда, ни зубастой улыбки... Сильное тело утратило свою стать, и казалось, что ему хочется опереться на костыль. Скуластое лицо, говорившее о недавних сельских просторах, серело, как городской туман. Да и белый плащ, кажется, посерел от этого лица.
– Рассказывайте все, – попросил он без всякого нажима, не сомневаясь, что теперь она расскажет все.
Дыкина вздохнула. Рябинин знал, что эти вздохи ей сейчас нужны, как ему бумага для протокола. Поэтому он не торопил ее, начав бессмысленно листать настольный календарь.
– Чего ж тут рассказывать... Все так просто.
Да, все просто. Он за это и детективы не очень любил – за простой конец той истории, которая так сложно начиналась.
– Когда я сошлась с Катунцевым, то он мне гляделся богатым и душой, и телом.
– Как это телом?
– Статный, кость широкая, плечи мужицкие... И начальник, что мне тоже елей на душу.
Рябинин хотел спросить ее о любви, но вспомнил совет Катунцева – не в жизнь лезть, а вести следствие.
– С женой, говорил, разойдется, как в море корабли. Ну, я и надеялась. Только вижу, в голове у него другое. Хаханьки, вроде как отдых от семьи. Я-то непьюшка, а он как в комнату ступил, так бутылка на стол. Чувствую ребенка под сердцем, думаю, скрепит. Катунцев все обещаниями кормил, а сам продолжает коварный образ жизни. Тут и ребенок подоспел. Надеялась на вмешательство судьбы. Рожала-то не в роддоме. Нет, родила живорожденного. И что делать? Отца у него нет. Комнатка у меня, считай, метр на метр, вроде тещиной. Ну, и решилась ребеночка ему отдать, в его материальные условия. Ребенок-то не виноват.
Но Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью...
...Дети всегда правы.
– Ну, он жене чего-то там сочинил. И я отдала.
– Так легко?
– Да ведь не чужому, а отцу. Другие вон в интернаты сдают.
– Дальше.
– Чего там дальше... С Катунцевым было все обрублено. Год прошел, второй... Чую, что не жизнь у меня, а недоразумение. Как увижу крохотную девочку, так сердце оборвется по-шальному. У вас есть дети?
– Есть.
– Хотя вы мужчина.
– Ну и что?
– Охранительницей семьи завсегда была женщина.
– А мужчина кто же – бандит? – усмехнулся Рябинин.
– Мужчины до детей равнодушны. Поймете ли, не могу больше жить. Хоть руки на себя накладывай. Или ребенка забирай. Так ведь не отдадут. Ну, и решилась. Дальше вы знаете...
– У песочницы были?
– Да я год следила за ними.
– Чужую девочку из садика вы уводили?
– Я, по ошибке.
Рябинин всегда считал, что любое преступление имеет социальные корни. У преступления Дыкиной были другие Корни – биологические. Мать и ребенок. Но мать бросила ребенка, а это уже социальность.
– Ребенок у подруги, у Гущиной?
– Да. Отберете?
– Отберем, – резко подтвердил Рябинин.
– Но я мать.
– Бывшая.
– Я ее родила!
– Да, но есть и вторая мать.
– Она не мать.
– Теперь и она мать.
– Я пойду в суд. В Верховный!
– Вот и надо было идти в суд, а не воровать ребенка.
Дыкина бессильно заплакала, уронив голову на край стола.
– Поплачьте-поплачьте, – согласился Рябинин.
Она лишь глянула краем затуманенного глаза – ведь принято утешать и тянуть стакан с водой – и зарыдала пуще. Рябинин ждал, ибо верил в очистительную силу слез. Они, эти слезы, ей сейчас были нужнее любых сочувственных слов. Он знал это хотя бы потому, что в кабинете плакали чаще, чем смеялись.
– Катунцева ночей не спит, – негромко сказал Рябинин, когда всхлипы ослабели.
Дыкина не отозвалась. Но она его слышала, потому что плач со стола ушел куда-то на пол, затихая.
– И все эти пять лет ей не снилось тихих снов...
Дыкина открыла мокрое лицо и почти шепотом спросила:
– А я?
– Что вы?
– Какие сны вижу я?
– Не знаю.
– Когда отдала девочку, мне приснилось... будто роняю ее в колодец. И теперь... Нет, не сон этот увижу, упаси бог, а только во сне вспомню тот сон, как просыпаюсь вся в поту.
Она вытерла влажные скулы и еще блестящие глаза. И спросила без всякой надежды и вроде бы даже не у следователя:
– Отберете ребенка?
– Отберем, – жалостливым голосом согласился он.
И пока в кабинет входил инспектор, Рябинин успел начать и додумать длинную мысль о себе...
Он смог бы работать там, где обнажено человеческое горе, – в больнице, в колонии, на кладбище... Но он не смог бы работать судьей, потому что век бы не рассудил Катунцевых с Дыкиной.
В приоткрытое окно сочилась усталая осень.
Петельников смотрел на прореженные холодами безлистные кусты и думал, что теперь можно заняться и теми делами, которые накопились за этот месяц. Но в приоткрытое окно сочилась усталая осень, расслабляя его мозг запахами, свежестью и своей грустью, так любимой русским человеком. Нет, это не осень сочится, – шел такой мелкий, почти незаметный дождь, и казалось, что небо уныло сочится водой, и хотелось, чтобы кто-то всесильный сгреб его, небо, в кулак и отжал воду сразу, дождем. Усталая осень... А может, он устал?
Инспектор обошел кабинет так, чтобы миновать сейф с кипой неразобранных бумаг. И вновь оказался у приоткрытого окна, откуда сочилась осень.
Вчера лил проливной. Асфальт чист и черен, но вдоль поребрика, где бежала дикая вода и несла березовые листья, теперь яркой желтизной легла разветвленная молния – те березовые листья, которые вчера не поспели за дикой водой. Сама береза, росшая подальше, стояла тихо – осыпалась и, наверное, нарастила новое кольцо. Может быть, и у человека есть свои кольца, свои периоды жизни? Может быть, и человеку иногда надо менять квартиру, работу, мысли?
Он вернулся к столу, сел, медленно придвинул телефон и набрал номер, который, оказывается, уже запомнил. А ведь все имеет свои периоды жизни – деревья, вселенная, бабочки... Даже на расследование уголовного дела отпущен свой период.
– Это кто? – спросил его детский голосок.
– Катя?
– Ага.
– А я волшебник Ноль Два, – попытался сказать он голосом волшебника, но поскольку никогда их не слышал, то неожиданно отчеканил голосом дежурного райотдела.
– Мама, мама, волшебник Ноль Два в трубочке! – крикнула она куда-то в комнату и тут же спохватилась: – А ты к нам в окно влетишь или через вентилятор?
– Ну зачем же... Я приеду.
– На верблюде?
Инспектор замешкался, понимая, что приехать он должен если и не на верблюде, то как-то необычно.
– Я приеду на ноликах.
– Не упадешь?
– У меня два нолика, да я одолжу у приятеля-волшебника его два нолика – вот уже четыре. Да если приделать руль, да сверху синий огонек...
– А завывать будешь?
– Обязательно.
– А зачем?
– Чтобы отпугивать злых духов.
– А ты не обманываешь?
– Волшебники, между прочим, не обманывают.
Он еще ничего не услышал, кроме частого дыхания, но уже знал, что трубка в другой руке.
– Это вы? – спросил голос, чуть глуховатый от улыбки.
– Это я.
– Наконец-то...
– Я догадался, почему при виде холодной, пустынной и безжизненной луны человек думает о любви.
– Да?
– Потому что человеку становится так одиноко и холодно, что он тянется к другому человеку.
– А сейчас одинокая и холодная осень.
– Да, она сочится ко мне в окно.
– Она проникает в душу.
– Аня, а вы не забыли про зеленый горошек? Вдруг я его тоже не люблю?
– И я не буду любить.
– Вдруг, увидев луну, я всего лишь завою?
– И я буду подвывать.
– И вдруг я не волшебник?
– Неправда.
– Откуда вам знать?
– Я верю дочке.
Инспектор слушал ее неслышное дыхание и чего-то ждал. Но она сказала все, что может сказать женщина. Чего же он ждет? Себя. Инспектор услышал ответные стуки сердца. Но он не мальчишка – он ждал ответных волн разума. А их не было. Да ведь известно, что сердце с умом не всегда в ладу. Имеет ли право взрослый мужчина на необратимый шаг, за которым две судьбы и горечь зеленого горошка? Человек не дерево – может новое кольцо и не наращивать. Впрочем, он уже обещал девочке.
– Аня, вы одиноки...
– А вы? – перебила она.
– У меня есть ребята из уголовного розыска.
– А у меня есть дочка.
– Аня, я к тому, что от одиночества человек может и пень принять за волшебника.
– Я назойливая, да?
– Нет, вы одинокая.
– Знаете, что мне всегда снится? Одинокая береза посреди голой степи.
Где-то стороной сознания проплыл блеклый образ Катунцевой.
– Аня, вам снятся тихие сны. А теперь рядом с березкой будет сниться и столб, – улыбнулся Петельников.
– Вы придете? – обдала она трубку пряным дыханием, дошедшим до него.
– Да.
– Из жалости ко мне?
– Я обещал вашей дочери.
– Значит, из жалости.
– Аня, жалость лежит рядом с любовью.
Из дневника следователя. Пожалуй, я не знаю большей радости, чем радость иметь ребенка. Пожалуй, я не знаю желания сильнее, чем видеть Иринку счастливой. Только в это хрупкое состояние, именуемое счастьем, так много входит нам известного и неизвестного, что мы толком и не представляем его. Может быть, счастье – это когда снятся тихие сны?
Тогда пусть они опускаются на мою девочку до последних дней ее...