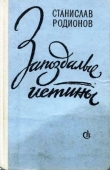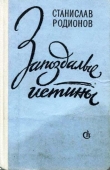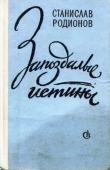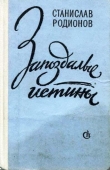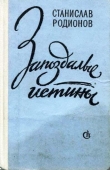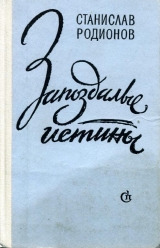
Текст книги "Запоздалые истины"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
– Здравствуйте. Я пришла...
– Здравствуйте. Что-нибудь вспомнили?
– Да-да.
Они сели к столу с разных сторон и посмотрели друг на друга нетерпеливыми взглядами – она от желания обрадовать следователя, а он от желания получить информацию.
– Что-нибудь о машине? – попытался угадать Рябинин.
– Нет, о ее внешности.
Сожалеющая мысль о том, что автомобиль не найти, коли в городе их тысячи, шмыгнула в радостном ожидании – внешность преступницы важней автомобиля.
– Слушаю, – он поправил очки и глянул на пишущую машинку, словно та могла уйти, не дождавшись ее показаний.
– Ага... У нее серые короткие волосы.
– Вы говорили, что она в берете...
– Да, в берете, а из-под него торчат короткие серые волосы. И такая стрижка, рубленая...
– Какая?
– Ага, будто она стриглась не в парикмахерской, а так, у знакомой.
Рябинин заложил чистый бланк, и его пальцы, несомые радостью, выстукали строчки не хуже заправской машинистки. На последний удар губы свидетельницы сразу же отозвались своим «ага»:
– Ага, лицо у нее грубое, какое-то землистое. Похожее на плакаты.
– На какие плакаты?
– На медицинские, когда рисуют какую-нибудь холеру в образе женщины.
– Подробнее, пожалуйста.
– Ага... Нос длинный и острый. Лоб узкий, скошенный. Глаза блестят, как у пьяной.
Рябинин печатал – с такими приметами уголовный розыск найдет ее за день.
– Ага, у нее на кисти руки наколка.
– Что изображено?
– Не рассмотрела, но вроде бы гроб или крест.
Неприятное чувство, предшествующее гастритной боли, затлело в желудке. Неужели рецидивистка? Уголовный розыск перекрывал железнодорожные и автобусные вокзалы. А если они вдвоем и у них своя машина... Неужели гастролерша?
– Ага, и у нее золотая фикса.
Рябинин оторвался от букв, задетый недоброй догадкой. Круглое и миловидное лицо свидетельницы, гипсовое ночью, теперь горело каким-то истошным жаром. Она радостно смотрела на следователя, готовая ответить на любой его вопрос.
– А не заметили, был ли у нее в рукаве кастет?
Она думала миг, она даже «ага» потеряла.
– Что-то там блеснуло...
– Под кофтой пистолета не заметили?
– Да-да, одежда топорщилась.
– А хвостик? – тихо выдохнул он.
– Какой хвостик? – понизила голос и она.
– Маленький, как у ведьмы.
Она замешкалась от необычности вопроса, но ее сознание работало. Рябинин видел, как она тужится, выискивая ответ. Он ждал, удивленный.
– Вы... в переносном смысле?
– Нет, в прямом.
– Хвостика не заметила...
Здравый смысл остановил ее. Но она не спохватилась, не рассмеялась и даже ответила уклончиво – не заметила; хвост, может быть, и торчал, но она не заметила.
– Иветта Семеновна, а вы все это выдумали.
– Ага... Что я выдумала?
– Внешность преступницы.
– Зачем мне это нужно? – удивилась она.
– Не знаю. Ну, например, чтобы загладить свою моральную вину, вы захотели угодить следствию.
Она приоткрыла рот и отпрянула от стола, от машинки, от следователя.
– Иветта Семеновна, тогда чем объяснить, что вчера вы ничего не знали, а сегодня описываете ее внешность до мелочей?
– Но я же вспоминала всю ночь! – крикнула она.
– И вспомнили и фиксу, и наколку? – тоже чуть повысил голос Рябинин.
– Вы же сами сказали, что это была преступница...
Он увидел, что сейчас она расплачется. Ее щеки безвольно обвисли, на глазах теряя свою краску. Носик дрогнул, и она, уже ничего не видя, полезла в сумку за платком.
– Сами сказали, что это преступница, – повторила она, удерживая слезы на последней грани.
И Рябинин вдруг понял: нет, она не выдумала, не обманула и не вспомнила. Вчера он сказал, что женщина, пославшая ее за ребенком, преступница. А у каждого, кто смотрит и читает детективы, сложился облик преступника – страшного, уродливого, нечеловеческого. Ночью свидетельница вспоминала эту женщину... А коли она преступница, то и должна походить на преступницу. Так появились блатная фикса, гробовая наколка и казенная стрижка.
Рябинин выдернул из каретки ненужный протокол и сдвинул машинку на край стола. В кабинете стало тихо: следователь бесшумно протирал очки, свидетельница мяла в ладони бесшумный платок.
– Ну вы хоть ее узнаете? – спросил он, как и на вчерашнем допросе.
– Узнаю, – с готовностью вспыхнула она, но, нарвавшись на угрюмый взгляд следователя, добавила утекающим голосом: – Может быть...
– Может быть, – повторил Рябинин. – А мать девочки не видит тихих снов.
Из дневника следователя. Как-то, когда Иринка капризничала, я в сердцах спросил ее:
– Ты что, пуп земли?
Новые слова и обороты ее завораживают. Она смолкла, уставившись на меня округленными глазенками. Я знаю, что сказанное мною отложилось в ее головке, как там откладывается все новое.
У них в классе есть Валя Сердитникова, которая убеждена, что Бетховен жив. Ее безуспешно разубеждает весь класс. Сегодня она позвонила Иринке и, как я понял, сообщила, что Бетховен только что выступал по телевидению. Иринка охала, ахала, спорила, а потом спросила:
– Валя, ты октябренок или попа земли?
Девять высоких зданий стояли так, что прогалы меж ними издали не виделись – каждый дом какой-то своей частью набегал на фон другого дома, образуя все вместе единый, скалистый массив. Их стены облицевали синей плиткой, которая в осеннем белесом воздухе посветлела. И казалось, что посреди поля встал голубой замок и ждет своих рыцарей и своих принцесс. Они, рыцари и принцессы, обремененные зонтиками, сумками, портфелями и авоськами, торопливо шли по асфальтовой дорожке – кто к замку, кто к троллейбусной остановке.
Скамейка из широких реек стояла у тополька, который по молодости растерял почти всю листву. Третий вечер инспектора сидели тут с Иветтой Максимовой и бездельно разглядывали прохожих. Место казалось удачным: с одной стороны дорожки навалены трубы и плиты, с другой стояла вода, походившая на необозримую лужу или на обозримое озеро. Правда, к домам кое-где были проложены деревянные мостки, но лишь для пешеходов к соседним улицам. Путь же к транспорту и в город лежал тут, мимо их широкореечной скамейки.
Они много говорили, чтобы выглядеть неприкаянной компанией, осевшей в этом местечке.
– Товарищ капитан, дежурного райотдела обижают странные звонки.
– Какие звонки?
– Некая женщина настырно просит выслать оперативника для ремонта паровой батареи.
– А дежурный что?
– Само собой, не выражается.
– Ну, а женщина?
– Говорит, не обманывайте. Уже, мол, чинили.
Петельников неожиданно вздохнул, спрашивая уже неизвестно кого:
– Неужели у нее течет батарея?
– Все течет, все изменяется, товарищ капитан.
Если из домов шли одинокие пешеходы, то к домам текла долгая и нетерпеливая людская лента, выплеснутая транспортом. Каждая женщина вызывала у свидетельницы какое-то тихое обмирание – она безмерно расширяла глаза и вроде бы неслышно ахала. Сперва Петельников вполголоса спрашивал: «Ага?» – но потом только переглядывался с Леденцовым. Если она когда-то и могла опознать преступницу, то теперь ее память, размытая потоком женских лиц, вряд ли была на это способна. Но инспектора упорно сидели, надеясь на ее проблески, на случай, на свою интуицию, – и на все то, на что надеются, когда больше надеяться не на что.
Когда схлынула очередная толпа, свидетельница взяла на колени свою опухшую сумку и вынула шуршащий сверток с доброй дюжиной бутербродов.
– Ешьте, товарищи...
Леденцов воспрял:
– Мы не сэры и не паны, не нужны нам рестораны.
После трех часов напряженного сиденья, да на осеннем воздухе, пахнувшем водой и остатками полыни, бутерброды с подсохшим сыром казались изысканной едой. Себе она взяла один, тоненький.
– Это почему же? – удивился Петельников.
– Без чая не могу, изжога.
– Гастрит, – заключил Леденцов. – Картофельным соком со спиртом лечить не пробовали?
– Нет. Помогает?
– А чистым спиртом?
– Что вы...
– А пыльцой орхидеи с медом и со спиртом?
– Впервые слышу.
– А точеными когтями летучей мыши?
– На спирту? – засмеялась она.
– Спасибо, Иветта, – сказал Петельников, доев бутерброды. – Население нас подкармливает, а мы... Батарею починить не можем.
В конце концов, они не знали, зачем приходил сюда Катунцев. Может быть, квартиру ему дают в этом голубом массиве. Жена тут первая живет... Любовница... Родственники, знакомые, приятели – все те, кому он хотел бы рассказать о своем горе, да не решался. И как им пришло в голову связать преступницу с Катунцевым? Не проще ли допросить его, зачем и почему он сюда ходил? И теперь уж Петельникову мысль о проверке легковых автомобилей не показалась столь невыполнимой – чем сидеть у этой лужи. Да ведь Иветта и с машиной могла ошибиться.
– Как вам показалась оперативная работа? – спросил ее Леденцов.
– Упаси боже.
– А оперативные работники?
– Ага... Вы про себя?
– Я про товарища капитана.
– В себе-то он не сомневается, – вставил Петельников.
С погодой им повезло. Дождя не было, но сырой воздух – наверное, от этой лужи – пронизывал плащи, как бумажные. Мешало другое – ранняя темнота. От неонового фонаря, высокого и яркого, посвинцовела лужа, морозно побелел асфальт и помертвели их лица. Иветте приходилось всматриваться из последних зрячих сил.
– Расскажите что-нибудь, – попросила она Леденцова в очередное безделье.
– Значит, так: граф убил графиню, само собой, графином по голове...
– Нет, вы про вашу работу...
– Можно. Брал я однажды в «Европейской» Веру-Лошадь...
Он умолк, пропуская человек десять с пришедшего трамвая.
Иветта тихо обмерла и успокоилась, никого не узнав.
У последней женщины была под мышкой крупная и длинная коробка.
Петельникову показалось, что об этой женщине он что-то знает. Нет, видит ее впервые. Его память столько вместила мужчин и женщин, что могла вытолкнуть на свою поверхность что-нибудь далекое и похожее. В коробке что – кукла? И белый плащ – много ли женщин в белых плащах...
Видимо, он сделал какое-то движение в ее сторону, потому что Леденцов вскочил и мгновенно оказался рядом с женщиной:
– Скажите, который час?'
– Двадцать минут десятого, – сердито буркнула она, обходя инспектора.
Но Леденцов уже вновь стоял перед ней, приветливо улыбаясь:
– Закурить не найдется?
Петельников тоже подошел, но ему мешала тень от леденцовской головы, павшая на ее лицо. И когда она шагнула вбок, отрываясь от неожиданного препятствия, Петельников ее увидел. Крупные скулы... Крупные зубы хорошо видны, потому что она приоткрыла рот, намереваясь сказать или закричать. В ушах серьги... И белый плащ... Он видел эту женщину. Да нет, не видел. Читал: ее приметы написаны рукой Рябинина на бумажке, которая лежит у инспектора в кармане. Женщина из сна потерпевшей...
– Ребята, не хулиганьте.
И тут она увидела Иветту Максимову, немо стоявшую у фонарного столба. Гримаса, похожая на оборванную улыбку, метнулась от губ женщины к скулам. Она еще сделала шаг вбок, к луже, но вдруг бросила коробку на асфальт и побежала к голубым домам. Она неслась, оглашая холодный воздух цокотом каблуков. А рядом шел Петельников своими полутораметровыми шагами.
Из дневника следователя. Иринка, как дочь юриста, иногда задает социально-юридические вопросы. Как-то спросила, что такое налог за бездетность...
Налог за бездетность – это денежное наказание супругов за обездоливание самих себя, за добровольный отказ от счастья. Разумеется, так я подумал, – не могу же сказать, что есть люди, которые не любят детей. Поэтому начинаю говорить про таких теть... Но она, уже имея кое-какие представления о деторождении, поняла сразу:
– А-а, это такие тети, у которых в животе все перебурчилось.
И тут же другой вопрос про отпущение грехов. Тут уж я попотел. Попробуй-ка объясни ребенку, что такое грех, исповедь, духовник...
Она терпеливо выслушала.
– Пап, а теперь юридические консультации?
И опять горела поздняя лампа – только без Петельникова, который после обыска ринулся по адресам знакомых этой женщины. Рябинин смотрел в ее лицо прищуренными и злыми глазами, стараясь этой злости не выказывать, да и понять стараясь, откуда она, злость-то, которой у следователя не должно быть даже к убийце. Злость из-за ребенка – не нашли его в квартире... И Рябинину хотелось не допрос вести, а оглушить ее криком: «Где девочка? Где?»
– Ваша фамилия, имя, отчество?
– Дыкина Валентина Петровна.
– Год рождения?
– Тридцать четыре мне.
– Образование.
– Восемь.
– Кем работаете?
– Кладовщицей.
– Судимы?
– Нет.
В белом плаще, скуластая, крупные зубы, серьги... Все по сну. Нет, не все. Губы не тонкие. Но сейчас они броско накрашены, а без помады могли сойти и за узкие. Хорошая фигура, сильное тело – в кабинетике медленно устанавливался запах духов с легким привнесением женского пота, ничуть не портящего запаха духов. Темные глаза смотрят неотводимо. Это с чего же?
Любой допрос требует обстоятельности. Да ведь придешь к человеку по делу и то начинаешь с погоды. Поэтому Рябинин говорил с воришкой сперва о его жизни, с хулиганом – о его детстве, с убийцей – о его родителях... Ну а с чего начинать допрос женщины, укравшей ребенка? С любви, с мужчины, с ее здоровья?
– Ваше семейное положение?
– Одинокая.
– Замужем были?
Она улыбнулась – видимо, она считала, что улыбнулась. Ее лицо, почти круглое, странным образом заострилось и на миг как бы все ушло в редкие и крупные зубы. Так бы ухмыльнулась щука, умей она ухмыляться. И Рябинин понял – была замужем.
– Ну, была.
– Неудачно?
– Неужели удачно? Придет ночью пьяный и пересыпает брань сплошной нецензурщиной. А то заявит: «Всех ночью перережу». Не знаешь, как его и понимать.
– Развелись?
– Милиция развела.
– Почему милиция?
– Прихожу домой, а вещей нет. Следователь протоколы снимает, обокрали нас. Якобы. Муженек все вещи увез к приятелю, чтобы по суду со мной не делиться. И сам вызвал милицию.
– Так... Детей не было? – спросил Рябинин, вглядываясь в ее лицо.
– Какие дети от пьяницы? – спокойно ответила она.
– Давно развелись?
– Лет десять...
– Больше в брак не вступали?
– Я эта... неудачница.
И он потерялся, следя за убегающей мыслью...
...Удачник и неудачник. Значит, поймал удачу или упустил. Но разве жизнь и счастье меряются удачей?..
Допрос требует обстоятельности. Можно не спешить, когда говоришь с вором, грабителем, хулиганом... Даже с убийцей, ибо потерпевшему уже не помочь. Но сейчас Рябинину чудилось, что за ее стулом, за ее фигурой, за ее лицом тает и никак не может растаять туманный образ матери девочки. Не мог он быть обстоятельным. Да и она вроде бы разговорчива.
– Теперь рассказывайте, – покладисто предложил он.
– О чем?
– А вы не знаете?
– Не знаю.
– Рассказывайте о том, за что вас задержали.
– С точки зрения закона такое нарушение неправильно.
– Как?
– За что задержали-то?
Не знает, почему задержана... Но взгляд неотводим и готов к обороне – взгляд ждет вопросов. А ведь она должна бы ждать извинений, коли задержана ни за что.
– Валентина Петровна, что вы делали вечером третьего сентября?
– Не знаю, – сразу ответила она.
– Почему же не знаете?
– Да не помню.
– Я вижу, вы и не пытаетесь вспомнить.
– Чего пытаться... Память-то не бухгалтерская.
Рябинин вдруг заметил, что он придерживает очки, словно они, заряженные нетерпением, могут улететь с его лица. Но полетели не очки – полетели те вопросы, которые он берег на конец допроса, на крайний случай.
– Значит, вы не знаете, почему задержаны?
– Откуда же?
– А почему вы побежали от инспекторов?
– Побежишь... Два парня да девка, похожи на шайку.
– А зачем вы купили куклу?
– На сервант посадить, красиво.
– А зачем вы храните в холодильнике разное детское питание?
– Сама ем, оно натуральное.
Его припасенные вопросы кончились. Она ответила наивно и неубедительно. У Рябинина имелись десятки других хитрых вопросов, приемов и ловушек, но что-то мешало их задать и применить. Похищенная девочка... Преступление было настолько бесчеловечным, что все эти психологические ловушки казались ему мелкими и неуместными.
– Где девочка? – негромко спросил он, не отрывая пальцев от дужки очков.
– Какая девочка? – спросила и она, стараясь произнести слова повеселее.
– Неужели вы думаете, что ребенка можно спрятать?
– Чего мне думать-то...
– Вот что я сделаю, – сказал он с тихим жаром. – Сведу вас с матерью. Чтобы глаза в глаза.
– А я не боюсь! – вдруг крикнула она, разъедая его неотводимым взглядом.
И Рябинин в ее голосе, в этих темных глазах, в крепких скулах увидел столько силы, что понял – она не призна́ется.
Меж ними вклинился телефонный звонок. Нервной до дрожи рукой снял он трубку:
– Да...
– Она у тебя? – спросил Петельников.
– Да.
– Ее муж давно на Севере.
– Да.
– Мы нашли сожителя с машиной.
– Да.
– Ребенка у него нет, и он ничего не знает.
– Да.
– Она не признается?
– Да.
– Значит, доказательств веских нет?
– Да..
– Но ведь она украла!
– Да.
– Ты ее арестуешь?
– Нет.
– Отпустишь?
– Да.
Из дневника следователя. Бывает, что вечерами я читаю Иринке вслух. Она любит – приткнется где-нибудь рядом в самой неудобной позе и затихает. И слушает, не пропуская ни единого слова.
Стараюсь читать классику. Сегодня взялся за «Дубровского». Иринка слушала молча, насупившись, не выказывая никаких эмоций. Но вот мы дошли до того, как Дубровский пригласил Машу на свиданье.
– И она пойдет? – изумилась Иринка.
– А почему бы не пойти?
– Он же ограбит!
Лето спохватилось, словно кого-то недогрело – в середине сентября, после ветров, дождей и холодов вдруг опустило на город двадцатиградусную дымку.
Петельников распахнул окно, скинул пиджак, расшатал узел галстука и неопределенно прошелся по кабинету. Он ждал сожителя Дыкиной, с которым вчера из-за позднего времени поговорил кратко.
Взгляд, обежав заоконные просторы, притянулся к сейфу. Пока инспектор работал по делу, бумаги копились: жалобы, ответы учреждений, письма, копии приказов... Он взял пространное заявление с резолюцией начальника уголовного розыска и стал читать, сразу запутавшись в женском почерке, женских чувствах и женской логике...
Значит, так. Гражданка Цвелодубова жаловалась. На ее день рождения пришел свекор с вазой, Николай с Марией, тетя Тася, а деверь Илья обиделся. Деверь – это кто же? И почему он обиделся?
Последние дни он замечал в себе некоторую странность. Чаще всего дома, чаще всего вечером. Его охватывало подозрительное состояние, ни на что не похожее. Нет, похожее – на скуку. Пожалуй, на ожидание чего-то или кого-то. Вернее, на то чувство, которое остается на вокзале после проводов. Или после утраты близкого человека. Но инспектор не скучал – когда? Никого не ждал, не провожал и не хоронил. Может быть, это возрастное: как перевалит за тридцать пять, так и не по себе?
Петельников разгладил тетрадочные листки и принялся читать заявление гражданки Цвелодубовой сначала.
Значит, так. На ее день рождения пришли свекор с вазой, Николай с Марией и тетя Тася. А деверь Илья обиделся. Ага, обиделся на Валю. Откуда взялась Валя? Ага, свекор пришел не с вазой, а с Валей. А нужно было наоборот: прийти с вазой, а не с Валей. Вот деверь и обиделся. Чего же хочет Цвелодубова?
Мещанская чепуха. И на это уходили человеческие жизни. Он вспомнил свою однокомнатную квартиру...
Инспектор почему-то вспомнил свою однокомнатную квартиру, только что им лично отремонтированную: деревянные панели, притушенные светильники, белая тахта, хрустальный бар, хорошие книги, стереофоническая музыка... Теперь не стыдно и человеку зайти. У него бывал Рябинин, с которым они долго и сложно беседовали. Бывали инспектора уголовного розыска, много курившие во вред себе и квартире и обсуждавшие, как лучше взять Мишку-Кибера или как поставить на путь истинный Верку-Тынду. Приходили и женщины – иногда, редко...
Петельникова вдруг поразило странное желание, павшее на него ниоткуда и неожиданно, как дурь. Чепуха, мещанская чепуха с деверями и золовками... Этой чепухи ему и захотелось в своей квартире, похожей на гостиничный номер-люкс. Ну, без свекров и золовок, без этой Вали-вазы и обидчивого деверя Ильи. А просто чепухи, нелогичности, мелочи, может даже легкой глупости...
Например, котенка в передней, сидящего в тапке. Запаха с кухни, к которому он всегда принюхивался в квартире Рябинина. Веселой телефонной болтовни ни о чем. Брошенных вещей – например, женского халата – на белую тахту. Прихода соседки за луком или за этой... сокоотжималкой. Голоса на кухне, смеха в комнате, разговора в передней...
Петельников усмехнулся, в третий раз принимаясь за жалобу гражданки Цвелодубовой.
В дверь постучали. Это сожитель, Семенихин. Он вошел с неохотой и садился на стул долго, укрепляясь:
– Инспектор, у меня время не казенное.
– А у меня казенное.
На Семенихине был сносный костюм и вроде бы серая рубашка, но Петельникову казалось, что под пиджаком одна майка. Видимо, и бритвой он сегодня поработал, но щеки землисто темнели, как у людей, которые бреются от случая к случаю. Наверняка он сегодня не пил, но далекий запах спиртов витал где-то рядом.
– Семенихин, что-то не верится, что у тебя своя машина...
– Из-за внешнего вида?
– Хотя бы.
– А я все машине и отдаю. И деньги, и время.
– Ну, а детям? Трое ведь.
– Моих только двое.
– А чей же третий?
– Аист принес.
– Какой аист?
– Петька, водопроводчик из жилконторы.
– Ну, это с женой разбирайся, а воспитывать обязан всех.
– Что ж... У меня к ним отношение матерное.
– Это к детям-то?
– Вроде как у матери, – объяснил Семенихин, оглядывая куртку, рубашку и галстук инспектора.
Петельникову хотелось спросить этого тусклого мужчину, для чего он завел троих детей. От любви к ним, по требованию жены, для увеличения народонаселения, или они сами завелись? Но для интересных разговоров времени не было – инспектор ждал звонка Леденцова, идущего по городу своими оперативными путями.
– Семенихин, третьего сентября возил Дыкину?
– Говорит, довези последний раз до перекрестка и прощай.
– Как прощай?
– Все, любовь накрылась.
– Ну, и?..
– Довез. С того дня не виделись.
– А почему именно с третьего?
– Еёная блажь.
Нет, не «еёная блажь». Третьего сентября она украла ребенка, и этот потрепанный Семенихин стал ей не нужен.
– Свидетель говорит, что ты ее ждал?
– Постоял маленько. Вижу, она на той стороне улицы топчется, тоже вроде бы кого-то ждет. Я и уехал.
Второй день пустопорожних разговоров. Нет, кое-что из этого разговора добыто: третьего сентября Дыкина была на перекрестке и третьего сентября Дыкина прогнала любовника. Доказательства? Тонкие, как паутинка.
– А почему у нее нет детей?
– От кого ж?
– Ну, хотя бы от тебя.
– Так бы я и допустил. У меня своих хватает.
– Она хоть о детях говорила, думала, мечтала?
– Откуда мне знать, о чем она мечтала...
Инспектор обескураженно умолк. Ему захотелось вцепиться в шиворот Семенихина и трясти его до тех пор, пока не вытрясутся емкие слова о том человеке, которого этот автолюбитель знал три года. Да он, наверное, и жену-то свою не знает, и детей-то толком не помнит.
– С кем она дружит?
– Говорил уже, с Катюхой.
Катюху инспектор проверил. Наверняка у Дыкиной есть хорошая приятельница. Может быть, теперь весь розыск сводится к ее отысканию, потому что там спрятан ребенок. Но Семенихин ничего не знал.
– Инспектор, жена про Дыкину не узнает?
– Нет, но у меня есть совет.
– Какой?
– Семенихин, продай ты к черту свою машину, а? Купи себе галстук, своди детей в кино, вымой жене посуду, а?
– Не-е...
– Да ведь тебе и ездить некуда.
– «Жигуль» меня от напитков бережет.
Телефон прервал инспекторские проекты. Он схватил трубку, не сомневаясь, что звонит Леденцов.
– Да-да...
– Это ноль два? – спросил тихий, но ясный женский голос.
– Не ноль два, но милиция, – нетерпеливо ответил инспектор, намереваясь положить трубку.
– А у меня батарея не греет, – сообщил голос с грустной надеждой.
– Вызовите мастера, – улыбнулся инспектор, надеясь, что она услышит его улыбку.
– Но вы же сказали звонить по ноль два...
– Я мог и пошутить...
– Вы могли... А дочка утром спросила, кто нам исправил свет и кран. Я сказала, что волшебник, которого звать Ноль Два.
– Странное имя для волшебника.
– А я дочке объяснила. У него два крупных уха, как ноли. Два глаза, как ноли. Две овальные щеки, как ноли. А когда он улыбается, то губы складываются в два нолика...
– Вылитый я.
– Дочка теперь только о нем и говорит. «Мама, позови волшебника из двух ноликов, пусть сделает батарею тепленькой...»
Ненужная фигура Семенихина отстранилась, словно он отъехал на своем стуле к горизонту. То странное чувство, которое охватывало инспектора домашними вечерами, явилось вдруг с иным, теплым привкусом неожиданной радости. Что ж, все его дурные мысли о луке, соковыжималке, тапочке и котенке – к этому разговору? Он улыбнулся далекому Семенихину, и далекий Семенихин ответил всепонимающей ухмылкой.
– Как звать вашу дочку? – тихохонько спросил инспектор, точно мог ее разбудить.
– Самое простое имя.
– Маша.
– Нет, Катя.
– Передайте Кате, что волшебник Ноль Два очень занят – он ловит злую ведьму, ворующую детей.
– А когда поймает?
– Тогда он придет.
Из дневника следователя. Детский мир настолько своеобразен и загадочен, что мы о нем только догадываемся. Ребята все видят и слышат иначе, чем мы.
Иринка вдруг спрашивает:
– Пап, в филармонии лошади есть?
– Разумеется, нет.
– А зачем им ковбой?
– Да не нужен им ковбой.
– Не-ет, один нужен. По радио говорили...
На следующее утро я услышал объявление: в филармонии начинался конкурс в оркестр, в том числе требовался один гобой. Я Иринке, и объяснил. Но у нее уже готов новый вопрос, теперь из газеты, которую она держит, по-моему, вверх ногами.
– Пап, ослов куда принимают?
– Никуда не принимают, – лакирую я действительность.
– А тут написано: «Прием осла...»
Я смотрю газету, где, разумеется, напечатано: «Состоялся прием посла...»
Леденцов почти не таился. Казалось, что осенняя теплота сделала ненужными все оглядки и предосторожности. Он шел, распахнув пиджак и насвистывая, и его рыжая голова пылала, как осенний клен. Но открытым шел инспектор не из-за погоды – на общем совете решили Катунцева задержать и допросить, как только он подойдет к дому подозреваемой. Выходило, что инспектор висел на его хвосте последний раз.
Катунцев – тот уж определенно из-за снизошедшего солнышка – двигался скоро, точно боялся, что оно передумает и закроется уместными сентябрьскими тучами. Его шаги, похожие на спортивную ходьбу, удивляли инспектора – куда мужик спешит? Ведь дом Валентины Дыкиной не уехал, стоит себе на крепком фундаменте. Нет, солнышко тут ни при чем.
Через два квартала инспектор понял, что маршрут сегодня иной – Катунцев шел не к голубому жилмассиву. Тогда задуманная операция может измениться. И Леденцов стал увядать на глазах – застегнул пиджак, прекратил свист, сгорбился, юркнул в тень стен и натянул на голову беретик от плаща «болонья», словно погасил желтый фонарь.
Катунцев шел прямо, рассекая теплый воздух несгибаемой шляпой. Сказочный голубой массив остался в другой стороне. Высотное здание «Гидропроекта»... Сюда? Нет, миновал. Возможно, идет себе мужик по делам, а инспектор тащится сзади хвостиком. Станция автообслуживания. Конечно, сюда. Машина, небось, сломалась. Но прошел мимо, не притормозив. Ресторан «Садко»... Неужели сюда? Нет, свернул за угол и отмахал еще два квартала шагом, которому позавидовал бы ломовой конь...
Но вдруг его ход замедлился. Катунцев оглядел улицу и остановился, будто у него иссяк завод. Здесь, сюда? Здесь – он привалился к оголенной березе и закурил медленно, теперь уже никуда не спеша.
Леденцов забегал, как высвеченная мышь, – тихая и голая улица, где ни спрятаться, ни притвориться. Если свернуть за выступающий угол дома, то ничего не увидишь, а воровато выглядывать не годится; если перейти на другую сторону, то тебя видно, как ту самую высвеченную мышь. Оставались автоматы с газированной водой, которые забытой парочкой прислонились к стене. Лишь бы работали.
Инспектор подошел. Автоматы работали, и он облегченно нащупал в кармане горсть мелочи. И сделал первую глупость, выпив стакан залпом, еще не зная, сколько ему придется тут стоять. Второй стакан пил уже мелкими глотками – смаковал, как вино из подвальной бутылки.
Катунцев темнел под березой, вжимаясь в нее широкой спиной. Он рассеянно курил. Ждал. Но кого?
Четвертый стакан инспектор пил особенно долго. Хотя бы сиропы залили разные. Апельсиновый, сладкий, противный. Лучше чередовать – стакан с сиропом, стакан чистой. Пятый стакан он еще одолел, но шестым начал захлебываться, решив, что в его образовании есть пробел: в школе милиции учили криминалистике, праву, стрельбе, приемам борьбы, но не научили влить в себя пару литров газированной воды с апельсиновым сиропом. С пивом было бы легче, с пивом было бы проще.
Когда автомат нафыркал седьмой стакан, инспектор услышал нудный голосок:
– Парень, ты не лопнешь?
Пожилая дворничиха мела березовые листья.
– А что – жалко?
– Тут один тоже воду пил, а потом вошел в булочную перед закрытием и вопросик кассиру: «Закурить есть?»
Инспектор воспрял, надеясь на разговор, который заменил бы пытку водой.
– Мамаша, с похмелья я.
– И чего мужикам нравится в этой водке...
– Букет, мамаша.
– Говорят, сторож в каком-то музее весь спирт из-под уродов вылакал.
– Интересно, как же он его называл? Младенцо́вочка?
Дворничиха ему ответила, но он уже не слышал. Катунцев отвалился от березы и сделал шаг вперед. К нему подошла женщина в белом плаще. Дыкина, это Валентина Дыкина. Сейчас она увидит его, Леденцова, и побежит. Нужно что-то сделать – быстрое и точное...
– Тебя мутит, что ли? – дошел голос дворничихи.
Инспектор посмотрел на нее, а когда вернулся взглядом под березу, то увидел в руках Дыкиной белый пакет. У Леденцова осталось несколько мгновений. Нужно сделать что-то быстрое и точное – потом ведь ничего не докажешь.
Он распрямился, сдернул с головы берет и, полыхнув огненной шевелюрой, сунул под нос отпрянувшей дворничихе удостоверение:
– Гражданка, прошу быть свидетелем.
Она не успела ответить, как инспектор с раскрытым удостоверением прыгнул к идущему парню:
– Гражданин, прошу быть понятым.
Под березой ничего не изменилось – только пакет теперь был у Катунцева...
– Уголовный розыск, – представился Леденцов и цепкими, коршунскими пальцами впился в пакет.
Растерянность так обессилила Катунцева, что пакета он не удержал. Леденцов раскрыл его, емкий незаклеенный конверт, и показал понятым. Там зеленела пачка пятидесятирублевых купюр. Под скрещенными взглядами инспектор заправски пересчитал двадцать бумажек:
– Тыща рублей. Гражданин Катунцев и гражданка Дыкина, вы задержаны.
На всю операцию не ушло и пяти минут – даже слова никто не проронил.
Из дневника следователя. Иринку я считаю тишайшим ребенком. Но после родительского собрания ко мне подошла учительница и сообщила, что зовут ее Антониной Петровной, что преподает она математику и что она никогда не лазала в окно. Последние ее слова меня смутили, но я лишь вежливо улыбнулся.
– Вам известно, что Ирочка пишет стихи? – перешла она, как мне показалось, на другую тему.
– Не знал, но приятно слышать.
– Я вам их прочту, – обидчиво предложила она. – «Дано: Антонина лезет в окно. Предположим, что все окна заложим. Доказать, как Антонина будет вылезать...»
После у меня с Иринкой был разговор о назначении поэзии. Уверяет, что сочинила не она, а пятиклассники, и стих общий, давно всем известный. Так сказать, фольклор.
Катунцев, пожилая женщина, Дыкина, какой-то паренек и Леденцов заполнили кабинет, вытеснив из него почти весь воздух. И хотя Петельников об этом нашествии предупредил по телефону, Рябинин не успел внутренне собраться и встретил их вяло, как встречают нежданных гостей. Они молча толпились на свободном пространстве и почему-то громко дышали, словно за ними гнались до самой прокуратуры. Ничего важного для следствия Рябинин от них не ждал – так, какая-нибудь деталь, какой-нибудь нюанс, имеющий значение для дела косвенное, вроде ходьбы Катунцева к дому подозреваемой. Леденцов, уловивший его сомнение, звонко доложил от дверей: