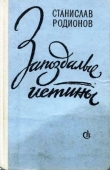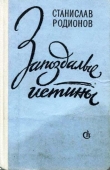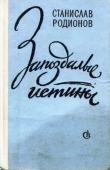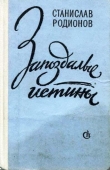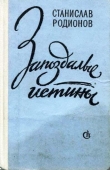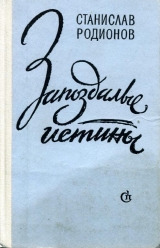
Текст книги "Запоздалые истины"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
17
Впервые за время этого следствия Рябинин пропустил день и не побывал в избушке. Поэтому утром он бросил все дела, избежал всех вопросов, что-то буркнул Петельникову и в шляпе, севшей набекрень, воровато выскользнул из клуба. На улице, отцентрировав шляпу, он удивился – почему, отчего? Зачем таится? Что таить?
Известно, что расследование уголовного преступления есть непростой клубок психологической борьбы не только следователя с преступником, но и со свидетелями; и свидетелей с преступником; и следователя с инспектором; и инспектора со следователем; и преступника – со всеми. Но была и еще одна странная борьба.
Следователь прокуратуры, юрист первого класса Сергей Георгиевич Рябинин, человек логичный, не верящий ничему без доказательств, бескомпромиссный, с укоряющими глазами – вот этот человек боролся с Сережей Рябининым, с мягким парнем, у которого взъерошенные волосы, близоруко прищуренные глаза за сильными стеклами очков, неутверждающая речь, бесконечные сомнения и тихая жалость, приходящая часто и ненужно. Борьба этих двух людей не имела победителя и не имела конца. И расследование уголовного преступления заканчивалось, когда эти двое находили общий язык, сливались в единого, как и должны бы сливаться сердце с разумом в личности цельного человека...
Рябинину показалось, что в избушке что-то не так. Или слишком долго он тут не был, целый день? В избушке изменилось – холодный чайник стоял на далеком краю плиты, на теплых боковых кирпичах. И Слежевский не сдвинул его на горячую середину.
– Долго вас не было, – буркнул он.
Рябинин тускло улыбнулся. Слежевский заскучал? Или его томило одиночество? Или пришлось день молчать, а ему нестерпимо хотелось выговориться? Но вулканическая мощь слов разрывает обычно преступника... Слежевский потерпевший – Рябинин признал его потерпевшим.
– Как жизнь, Олег Семенович?
– Шутите...
– Не забывайте про детей.
– В романах пишут о прекрасной смерти супругов. Умерли в один день... А если есть дети? Им-то каково потерять сразу обоих родителей?
– Ваши обоих не потеряли, – Рябинин поправил очки, вздыбя стекла под таким углом, чтобы они усилили его зоркость до биноклевой.
– Не потеряли, – ответил Слежевский с невероятной тоской.
Рябинин вдруг подумал про обман и про обманы, которые ему всегда претили. И не только по моральным запретам – он страдал бы от брезгливости, если бы опустился до трусоватой лжи, именуемой обманом. Но была ложь почти святая, придуманная слабым человеком, – когда обманываешь самого себя. И Рябинин – не тот, не юрист первого класса – тоже бессознательно прибегал к ней, как и все смертные. Потому что... Потому что проще всего обмануть себя.
– Я не сплю, – сказал Слежевский.
– Почему? – зряшно спросил Рябинин.
Слежевский и не ответил.
– Сергей Георгиевич, бог есть?
– У каждого свой бог, – сказал Рябинин опять зряшно, потому что Слежевский мог спросить, какой бог у него, у следователя.
– Нужен общий.
– Зачем он вам, Олег Семенович?
– Кто-то должен нас с Анной рассудить...
– Люди.
– Кто – вы?
– Я не могу.
– Почему же? Вы юрист... Фемида...
– Я не выслушал вторую сторону.
– А мне... не верите?
– Ваши факты... – начал было Рябинин.
Слежевский ринулся через стол – лег грудью на столешницу, разбросал руки и вскинул голову. Как упавшая птица. Его вороненые волосы оказались так рядом, что в стеклах очков следователя потемнело.
– А я добавлю фактов! Если жена зовет беременным мужиком, при детях, а?
– Да... – нашел Рябинин самое нейтральное слово.
– А если спрашивает при детях, не потратил ли я недостающую трешку на бабу?
– Да...
– А где я ночую, если приду после двенадцати? Дом закрыт на ключ, эта избушка на замок. Сплю на земле, в кустах смородины. А?
– Да...
– А когда возвращаюсь из командировки, то моя одежда обыскивается и просматривается, как у шпиона.
– Да...
– А если тарелка супа летит мне в лицо, при детях?
– Вы ее ненавидите... даже мертвую, – удивленно перебил Рябинин его поток.
– Мертвые – самые страшные. Им даже отомстить нельзя.
Слежевский оттолкнулся от стола и выпрямил сухощавое тело. Его черные глаза вдруг засветились кровавым непроходящим огнем, таким сильным – особенно правый глаз, – что от него окровавилась и правая щека. Рябинин беспомощно огляделся – что?.. Печка приоткрылась, бросая из щели адскую полоску.
– Олег Семенович, вы говорили, что любви научились в детстве, в семье... А где вы научились ненависти?
– У Анны, – не задумался он.
– Чем вы ее ударили? – буднично спросил Рябинин.
– Поленом.
– Когда же?
– Мы пошли с Геной... А я на минутку вернулся, забыл попросить денег на обед. И тогда...
– За что ударили?
– За все.
– Так, внезапно?
– Она сказала, что деньги я истратил на баб. Не утерпел. Накопилось. Но убивать не хотел, честное слово!
– А беспорядок в комнате?
– Раскидал все...
– Шофера?
– Придумал. Хотел остаться с ребятами...
– Раньше ей угрожали?
– Да.
– Говорили, что ударите по голове, – утвердил Рябинин.
– Говорил. Ударю по голове и сам повешусь.
Слежевский деловито прикрыл дверцу плиты. Его глаза сразу потемнели. И, лишившись этого красного блеска, словно лишившись дикой силы, он мешком сел на лавку, схватил лицо руками, пригнулся чуть не под стол – и заплакал стонущим мужским плачем.
Рябинин смотрел на пучок мяты, стебли которой тихо колыхались от воспарявшего жара. Почему не стыдно на людях смеяться? Почему никто не скрывает радости? Но почему хоронят от стороннего глаза свое горе? И почему стыдятся принародных слез? Разве не равны все человеческие состояния? Равны. Да нет, не равны – у горя больше прав идти на люди.
– Зря вы думаете, что я Анну теперь ненавижу, – Слежевский открыл перекошенное лицо.
– Да, теперь вы ее жалеете, – согласился Рябинин.
– Нет, я ее люблю...
– Мы любим того, кого нет рядом.
– Я ненавижу не Анну, а свою жизнь.
– Жизнь тут ни при чем. Она может быть прекрасной и может быть никчемной – это как ею распорядиться.
Слежевский поднялся через силу, словно его набили дробью. Он подошел к стене и взялся за пальто:
– Я собираюсь...
Рябинин кивнул рассеянно.
Зло... Он изучал и прослеживал по своим уголовным делам его мрачное зарождение где-нибудь в детстве, в неустойчивой психике, в искромсанной жизни... Рябинин знал, как это зло приходит на белый свет. Но куда оно девается? Улетает в космос? Тогда бы он потемнел тучами. Зарывается в землю? Тогда бы она не плодоносила. Переходит в продукцию? Тогда бы от этой продукции народ шарахался. Не рассеивается ли зло меж людей? Но от соприкосновения со злобой человек не становится злым, как и не глупеет от встречи с глупостью...
Очищается. Человечество самоочищается, как мировой океан.
Слежевский стоял у порога серым привидением и, видимо, прощался с избушкой.
Догадливая печка прогорела и затихла. Чайник, будто давно предупрежденный, сегодня вовсе не грелся. На стенах почти невидимо покачивались травы. Негромко треснуло пересохшее полено.
Попрощался с избушкой и Рябинин. Жизнь течет во времени, которое распадается на куски и кусочки, оставляемые человеком на своем пути. И он тут оставил кусочек своей жизни – провел несколько дней, выслушал исповедь убийцы и выпил много чашек вкусного чая.
– Олег Семенович...
– Что? – испуганно отозвался Слежевский, уже к чему-то готовый.
– Цветы на окнах... поливались?
– Да, Анна их любила.
– Почему же они вяли?
– Я в них кипятку плеснул...
– Назло жене?
Слежевский не ответил. И Рябинин не переспросил.
18
Клуб походил на театр, уезжающий на гастроли.
Под окнами гудели прогреваемые моторы. Захлопали двери, и деревянно загрохало в разных углах здания. По зрительному залу загулял обнаглевший ветер. На полу забегали бумажки – эти вечные знаки переездов. Инспектора очищали сцену, разнося по комнатам табуретки и столы. В танцклассе Леденцов убирал раскладушки. Повар кому-то сдавал намытую и начищенную посуду.
Черный кот, мистический, как ему и положено, сразу пропал. А рыжий, чувствуя перемену в своей жизни к худшему, как бы потерял пространственную ориентацию и ошалело полез к потолку по занавесу. Фомин взял у повара недоеденную тушенку и пошел в поселок искать сердобольную душу, которая приютила бы Рыжика.
Рябинин бродил по коридорам и комнатам. Теперь он прощался с клубом. Жизнь течет во времени, которое распадается на куски и кусочки, оставляемые человеком на своем пути. С годами Рябинин все острее чувствовал это течение и все чаще прислушивался к его неумолимому шороху.
В коридоре он столкнулся с Петельниковым, и они пошли вместе.
– Преступник века отправлен в город, – сказал инспектор с усмешкой.
– А разве не преступник? – насторожился Рябинин.
– Что он – банк ограбил?
– Человека убил...
– Жену.
– Человека.
– Жену. Человека он никогда бы не убил и банка бы не ограбил.
– Как будто твой банк дороже человеческой жизни, – насупился Рябинин.
– Любой юрист тебе скажет, что ограбление банка более опасное преступление, чем убийство жены.
– А я не поверю любому юристу.
– Тогда загляни в кодекс.
– А я и кодексу не поверю, – уже разозлился Рябинин. – Для меня тот, кто не ценит чужую жизнь, есть самый опасный преступник.
Они спорили не только о юриспруденции. Та черная кошка, которая пробежала меж ними, была еще где-то недалеко. Не тот ли мистический кот, который теперь исчез? Тогда не пора ли исчезнуть и этой размолвке...
Они вышли на уже пустую сцену и остановились у рампы, как неразлучная пара артистов-сатириков – один высокий, красивый, строгий; другой маленький, мешковатый, в очках... Первый, Петельников, кашлянул в пустой зал, отозвавшийся простуженным эхом. Второй, Рябинин, поправил очки, которые мгновенно сползали, стоило чуть заволноваться.
– Я того... как бы это, вообще... – начал второй в духе жанра.
– Понятно, – перебил инспектор и улыбнулся своей широкоэкранной улыбкой, от которой млели девушки и мягчали бюрократы.
– Мне хотелось дать ему выговориться, – просто объяснил Рябинин.
– Думаешь, я не знал, что Слежевский убийца?
– Знал?
– С первого взгляда.
– Откуда же? – усомнился Рябинин.
– Убили ее на кухне. Значит, впустила в дом своего человека...
– Не обязательно.
– Слежевский на работе был рассеян...
– Ну, это бывает.
– Не мог съесть столовского обеда...
– Мало ли почему.
– После работы купил бутылку водки, хотя не пьет...
– Так.
– Ни разу не спросил, пойман ли преступник...
– Так.
– И к нему не ходят дети.
– Все? – спросил Рябинин.
– Достаточно для подозрения.
– Ты забыл еще одно.
– Что?
– У них на окнах вяли цветы.
ОТПУСК
Начальник уголовного розыска повертел в руках финку с деревянным черенком, искусно вырезанным из просушенного можжевельника:
– Устал, что ли?
– Устал, – согласился Петельников решительно, чтобы не осталось никаких сомнений: он устал.
– А вид у тебя свеженький, выбритый, как у этого... у персика.
– Я устал внутри, – уточнил инспектор.
– Сердечко?
– Глубже.
Начальник не полез за очередным ножом, полминуты размышляя, что может быть глубже сердца, ибо даже такой разговор требовал логики.
– Неужели почечуй?
– Душа, товарищ майор.
– Ах, душа... Когда устает душа, то не берут отпуск, а увольняются из уголовного розыска.
– Она за недельку отдохнет.
– Сколько без отпуска? – полюбопытствовал начальник, хотя знал это не хуже подчиненного.
– Фактически два года.
– И только-то? – поморщился майор от мизерности срока: два года – не двадцать лет.
– Нарушение Конституции, – вздохнул Петельников.
Начальник уголовного розыска нагнулся и достал из нижнего ящика стола вторую финку с наборной пластмассовой ручкой. Этих ножей скопился у него полон стол. Лежали они и в сейфе вместе с кастетами, ломиками, заточенными напильниками, свинцовыми перчатками... Собирали их давно, много лет, для своего райотдельского музея, о котором мечтали тоже давно и пока впустую.
– Человек устать может, допускаю, – обратился майор к очередному ножу, вроде бы надеясь, что тот поймет его скорее. – Но Петельников не только человек, он ведь и мужчина. Допускаю, что и мужчины устают. Случаются хлипкие. Но ведь он не только мужчина – он старший инспектор уголовного розыска. Какая может быть усталость!
– Всего одну неделю, – монотонно выдавил Петельников. – За прошлый год...
– А работать кто будет? – спросил начальник уголовного розыска вдруг непохожим, чуть надрывным голосом, потому что никогда никого об этом не спрашивал.
Инспектор не ответил – он этого не знал. Этого никто не знает. Но разговор, видимо, переходил на иной уровень, коли была упомянута работа.
На столе появился очередной экспонат будущего музея – с длинной ручкой из белого металла, отлитой в форме еловой шишки, отчего нож походил на блестящую хищную рыбу. Для чего он их вытаскивает? Любуется?
– А как обстоит дело с нападением на гражданина Совкова? – пожестче спросил майор.
– Раскрыто.
– Угон мотоцикла у гражданина Колчицкого?
– Он сам его потерял в лесу, будучи в состоянии.
– Бешеная собака на Спортивной улице?
– Изловлена, обезврежена.
Тогда начальник пригнулся еще раз и положил перед собой нож, сделав вид, что тот попался ему случайно.
– Ну, а владелец этого холодного оружия?
Петельников пошевелился в кресле, как поежился, вдруг почувствовав, что у него слишком длинные ноги для современной мебели: владелец этого холодного оружия гулял на свободе, а гулять ему было никак нельзя.
– Пока им Леденцов займется...
Указательным пальцем левой руки начальник коснулся своих белесых, начавших седеть усиков, словно проверяя, на месте ли они. Они были на месте. Тогда он сгреб ножи в ящик и поинтересовался уже другим, безразличным голосом:
– И куда собираешься?
– Махну на юг.
Начальник поморщился: морщиться ему было просто, потому что усики двигались как живые – сейчас они брезгливо хотели бы съехать вниз по опустившимся уголкам губ.
– Юг... Какая банальщина.
– Погреться...
– Там сорок пять градусов в тени!
– А я в море.
– Там вот такие здоровенные медузы.
– А я выползу на бережок.
– Там женщины в купальниках.
– А я уйду гулять по городу.
– Где на каждом шагу цистерны с дешевым вином...
Инспектор поднялся, шумно вздыхая от долгого сиденья и бесполезности разговора. Он понимал начальника уголовного розыска, но он понимал и другое: не получи отпуска сейчас – не получит еще год.
– Борис Михалыч, всего одну неделю...
– Черт с тобой, – сказал начальник и негромко спросил, разглаживая ладонями белые, вялые щеки: – Вадим, а моя душа не устала?
– Конечно, устала, – вздохнул инспектор, готовый отдать половину своего отпуска: три дня.
– Возьми маску и ласты. Крем от загара возьми... Или лучше ничего не бери, а возьми побольше денег...
Шесть дней получились чистыми, без дороги. Начальник уголовного розыска заверил, что на юге дольше не выдержать – одуреешь от солнца и воды. Но Петельников и ехал одуреть, что значило загореть до синеватого отлива и накупаться до легкой свежепросоленности. В райотделе ему завидовали – в июле не каждый вырвется на юг; ему так завидовали, что потихоньку он начал завидовать сам себе.
Инспектор прилетел ночью, а в восемь утра уже спустился под скалы на узкую полоску прибрежной гальки. Народу тут было поменьше. Он высмотрел свободный прямоугольник южной территории и пузатым портфелем застолбил место рядом с двумя девушками, уже впавшими в нирвану. Петельников разделся и осел на горячую твердь. И тоже впал.
Сначала он еще прикрывал от солнца спину рубашкой, но потом свободно разметался на гальке. Петельников знал, что сгорит. Но он был на юге, у моря, и ему было отпущено ровно шесть дней, из которых один уже шел.
Камни, воздух и тело накалялись. Во рту постоянно держался горьковато-соленый вкус моря, в нос шел глинистый запах окатанного песчаника, в ушах стоял беспрерывный и спокойный плеск волн. Когда становилось невмоготу, Петельников забегал в воду. И плыл в зеленовато-бирюзовой прохладе, отталкивая медуз. И опять ложился на почти шипящую от влаги гальку.
Наконец инспектор огляделся... Он увидел жадных потребителей, каким сделался и сам; все жглись на солнце так, словно оно больше не взойдет; сидели в море, будто завтра оно высохнет.
Он обратил взгляд на соседок и понял, что тоже замечен. Девушки поглядывали на него, но вскользь, куда-то вдаль, якобы в море. Первая полненькая, в синем купальнике, с распущенными черными волосами, вторая, наоборот, худенькая, стройненькая, в бледно-зеленом купальнике. Похожа на медузу. Медузочка. Впрочем, слишком жарко...
После часу дня от солнца пришлось все-таки спасаться. Он намочил сорочку и натянул ее на розовевшую спину, а голову обмотал влажным полотенцем. Его сразу охватила приятная истома. От негромкого ли клекота моря, перегрелся ли, но Петельников начал дремать той дремой, сквозь которую все слышишь. Недалеко брызгались мальчишки, вскрикивали картежники, бессвязно бормотал транзистор, постукивала и шипела под волнами галька, гудела за скалами машина... Он заснул окончательно.
Проснулся инспектор от подземных толчков, ритмичных, словно под толщами пород стучал великанский метроном. Он поднял голову с портфеля и понял, что так стучит его сердце, отдаваясь болью в висках. Врачи правы: на солнце спать нельзя.
Инспектор сел. Жары уже не было. Поубавилось отдыхающих. Петельников поднялся и сбросил рубашку. Плыл он брассом, инстинктивно вздрагивая, когда наезжал лицом на медуз. Ему нравилось делать рывок и стрелой распрямлять тело. Нравилось кожей, всеми ее клетками впитывать прохладу, как утром нравилось впитывать солнечный жар. Нравилось ощущать во рту соленую горечь и свежесть. Когда же уставал, то безвольно погружался в зеленые глубины.
На берег он вышел минут через сорок. Девушки еще плескались в мелкой воде, которая у берега теряла глубокий тон и становилась белесой. Петельников начал осторожно водить полотенцем по горячей спине – наверное, кожа слезет.
Девушки тоже вышли. В руке у Черненькой была бутылка. Видимо, охлаждали в море. Он усмехнулся: прав был начальник уголовного розыска – в море медузы, а на берегу женщины. Уже с бутылкой.
– Нам никак не открыть, – произнес женский голосок якобы в пространство.
Прав был начальник уголовного розыска.
– Разрешите помочь, – галантно сказал Петельников и подошел, хрустя галькой.
Вблизи девушки оказались еще симпатичнее. Особенно Медузочка. У нее были огромные и удивленные глаза, которыми она смотрела на мир, не моргая.
Петельников взял бутылку. Она была пустой – сквозь темное стекло лишь белела какая-то бумажка.
– Понятно. Море, волны, запечатанная бутылка... Вам записку достать?
– Конечно, – хитровато подтвердила Черненькая.
– А вдруг там написано: «Кто прочел, тот осел»?
– А вдруг там стихи? – спросила Медузочка томным, оплавленным голоском.
– В такую-то жару? – усмехнулся он.
Горлышко оказалось плотно закупоренным зеленоватой глиной. Петельников расковырял ее и прутиком извлек клочок бумаги.
Медузочка взяла его, прочла, неопределенно хлопнула ресницами и отдала подруге. Та хихикнула:
– Мы вас не понимаем...
– Меня? – удивился Петельников.
– Вас, – подтвердила Медузочка.
Он взял бумажку: кусок тетрадного листа, с неровным отрывом, грязный, мятый, мокрый... Написано карандашом, буквы тусклые и какие-то ползущие друг на друга.
«Кто найдет бутылку. Помогите мне ради Христа. Со мной все могут сделать. Я заточен в доме на обрыве. Помогите...»
– Ну и что? – спросил Петельников.
– Мы тоже так подумали, – скромно улыбнулась Черненькая.
– Отдыхающие развлекаются, – разъяснил он.
– А разве не вы? – прямо спросила Медузочка.
Петельников чуть опешил: они полагали, что при помощи этой бутылки он хотел с ними познакомиться.
– Девушки, у меня куча способов законтачить с прекрасным полом, но только не такой средневековый.
– Например? – поинтересовалась Черненькая.
– Например, спросить, нет ли у вас крема от ожогов.
– Есть. – Медузочка протянула тюбик.
– Спасибо. Верну завтра на этом же месте. А теперь, дорогие красавицы, если хотите, чтобы я остался жив, гоните меня с пляжа...
Инспектор поселился на Виноградной улице в белом крохотном строении, видимо бывшем сарайчике, который стоял в саду за хозяйским домом. Перед дверью росла старая яблоня с громадными крепкими плодами: яблоко на прилавке – это просто яблоко, а яблоко на дереве – это чудо. В окно упиралась яблоневая ветка и ждала, когда распахнут его, чтобы просунуть в комнату широкие, аккуратно вырезанные листья. За домиком лежала большая деревянная бочка. В ней, как Диоген, жил каштановый песик Букет, ненавидевший всех курортников. Инспектор с ним поладил, как только съели вместе килограмм молочной колбасы.
– Чай пить будете? – спросила хозяйка.
Петельников ей понравился, потому что еще в шесть утра, когда снимал домик, обещал не варить, не стирать и ничего не просить. Вот только чай.
– А то приехала одна, – сообщила хозяйка, – пропела «Солнышко», вещи побросала и бегом на пляж. А к вечеру ее в больницу увезли всю в пузырях да волдырях.
У хозяйки была интересная, привычка связывать мысли, хотя одна не вытекала из другой. Но когда Петельников увидел в электрическом самоваре свою обваренную физиономию, то сразу все понял. И, отхлебнув из очередной, третьей, чашки, вдруг задал вопрос, тоже вроде бы ниоткуда не вытекающий:
– Где тут у вас дом над обрывом?
– А ты замокаешь? – живо отозвалась хозяйка, тоже отхлебывая из очередной, пятой, чашки.
– Бывает, – на всякий случай признался он, не очень ее понимая.
– Люди-то зовут его по-разному. Бормотушник, Тиходурка, Поддавальник, Сайгон... А государственное ему название «Шашлычная».
Петельников улыбнулся – все правильно: посидел мужик в Тиходурке, выпил пива, чиркнул записку, запечатал ее в бутылку и бросил в море. На то и Бормотушник.
– Спасибо.
Он встал и направился было к себе в беленький сарайчик.
– И еще над обрывом стоит домишко. Вода берег-то все целовала-целовала да и подкопалась. Хозяева штраховку получили и привет, укатили в Россию.
– Где этот дом? – спросил Петельников, приостанавливаясь.
– Километра два берегом к маяку. На глинах стоит...
– На зеленых?
– Ага.
Он прошел к себе и сел на кровать. Солнце уже опустилось за горы. В саду сразу потемнело. Запахло какими-то травами и землей, которую хозяйка поливала из резинового шланга. Поскуливал Букет, натомившись за день в жаркой бочке. Затихали отдыхающие. На столике в изголовье почти неслышно пел транзистор.
Петельников сидел с открытым ртом, уставившись в пол, – он избегал смотреть на белую простынь, на белые стены и даже на чистый лист бумаги. Ему казалось, что неумолимое солнце продолжает гореть над головой, заливая комнатенку своим огненным расплавом. Жгло кожу, внутри все сохло, словно солнечные лучи доставали его сквозь земной шар. И не было сквозняка – виноградные листья висели не шелохнувшись. Сна тоже не было.
От жары ли, от розыскной ли привычки, но в нагретом мозгу опять мелькнула мысль о бутылочной записке...
Допустим, ее писали в «Шашлычной», что стояла на выступе скалы! Вряд ли: пьяный загнул бы позабористей, да и глины у него под рукой нет. Допустим, писали отдыхающие. Но они бы расцветили записку пляжным колоритом, на хорошей бумаге, шариковой ручкой. Дети? Текст не детский. Шутка? Но шутят весело, да и пишут тогда поспокойнее, а тут буквы лезли, как волны. А язык? «Заточен, ради Христа...» И, главное, тревога, неподдельная тревога в этих старомодных словах. Но ведь чепуха: кого и за что можно заточить в наше время?
На сон не было и намека. Лучше гулять по пляжу, чем сидеть в душной комнате. Петельников передернул плечами от неожиданного холодка, шмыгнувшего по перегретой спине, и вышел в сад... Он спустился к пляжу, непривычно пустому, почти черному, блестевшему, похожему на кусок луны. Но этот кусок соприкасался с бескрайним простором – дивным, живым и каким-то нереальным для земного мира. Почему отдыхающие бывают здесь только днем? Ведь ночью тут не хуже. Ах да, нельзя загорать...
Он медленно пошел в сторону маяка. Чтобы не мешали камешки, двинулся вдоль берега, горками. Идти было хорошо. Духота пропала, словно осталась в поселке. Внизу слабо плескалось море, донося прохладу. Дорога была плотной, слитой из десятков тропинок в сухой, колючей траве. По краям чернели дубки. Изредка из-под ноги срывался к морю камень, и тогда Петельников останавливался и ждал, пока тот не затихнет под обрывом.
Видимо, минут через сорок – он не смотрел на часы – в дальней темноте берега зажелтело пятно. Петельников подошел ближе. Заброшенный дом...
Стены его светились не так, как в поселковых домах; может быть, потому, что за ними не было жизни. Окна заколочены досками. Шифера на крыше почти не осталось. Сад зарос низким плотным кустарником. От изгороди уцелели лишь бетонные столбики. И стояла особая тишина – даже цикады не стрекотали.
Петельникову стало весело. Но лучше по-дурацки стоять среди ночи у этой свалки, чем маяться с обожженной спиной на кровати. И уж надо его обойти, коли пришел.
Он начал осторожно пробираться к стене. Колючки, какая-то проволока, битые кирпичи и консервные банки цеплялись за него в темноте, как живые. Добравшись, он потрогал обшарпанную, неожиданно теплую стену, словно для того и пришел. Затем подергал доску на окне – держится. Дверь тоже оказалась наглухо забитой. Дом как дом, только заброшенный. Он еще простоит лет двадцать, потому что выстроен на хорошем бутовом фундаменте...
Ему вдруг послышался звук, похожий на стон, который шел вроде бы не из дома, а откуда-то с сопок, из дубняка. Петельников замер, словно его сковал лунный свет. Тихо. Лишь море хлюпало под обрывом. Показалось... Ночью, у заброшенного дома, в безлюдье может почудиться все, что угодно.
Он подтянул джинсы и мягко шагнул от стены. Ему захотелось поскорее убраться. Петельников сделал второй шаг и мгновенно понял, что дальше ему не идти, не переступить ногами из-за страха, который навалился на спину и вцепился в затылок. Он резко обернулся...
Сквозь широкую щель в оконных досках на Петельникова смотрели один большой глаз и крупная плоская скула, мертвенно освещенные луной. После секундного оцепенения инспектор переступил через бревно, чтобы сорваться и бежать, не разбирая ни дороги, ни направления. Но глаз и скула пропали. И пропал тот дикий страх, который испытал он впервые: на розыскной работе его подопечные употребляли пистолеты, ножи, железки и кулаки, но не мистику.
Петельников присел и описал рукой дугу по земле, как циркулем. Попался кусок, с полметра, стальной трубы. Он схватил ее и прыгнул к входу. Доски, поддетые трубой-ломиком, отлетели играючи. Петельников ударил в дверь ногой и спрятался за стену, опасаясь выстрела или булыжника. Тихо. Лишь проскрипели ржавые петли. Теперь нужно войти, а у него ни фонаря, ни спичек. Он на мгновение высунулся, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. По крайней мере, теперь знал, что у порога никто не стоит и что в доме можно видеть – лунный свет попадал через крупные щели в оконных досках. Он решился: бросил себя на землю и лег за порог, как за бруствер. И стал вглядываться...
Комнат в доме не было; видимо, деревянные перегородки разобрали на дрова. В доме ничего и никого. Он поднялся и бесшумно вошел. Никого и ничего – лишь грязная бумага, стружки да колючки сухой травы шуршали под ботинками. Петельников еще раз пересек дом и вышел на лунный свет.
– Перегрелся я, – сказал он громко, швырнул трубу в кусты и зашагал к поселку.
Он проспал до полудня. Хозяйка даже заглянула в окно – жив ли постоялец. Постоялец дышал и даже открыл глаза. Первая его мысль была о кошмарном сне, который привиделся от вчерашней лоры, – луна, заброшенный дом, большой глаз... Но на стуле лежали джинсы, испачканные мелом и увешанные колечками стружки.
В комнате нагнеталась духота. О загаре сегодня нечего и думать. Ему казалось, что он похож на того человека без кожи, рисунок которого он видел в медицинской книге – лишь красные мускулы. Загорать нельзя, но купаться можно. В конце концов, уже осталось пять дней.
Он встал, почистил зубы, побрился, взял полотенце и пошел к морю...
Солнце прошило лучами его рубашку, словно та была из сетки. Жара стояла ошалелая – даже не хотелось переставлять ноги. Капризничали маленькие дети. Отпускники сидели в воде или под тентами. Лишь самые бодрые стояли на солнцепеке, как приговоренные.
Петельников кивнул девушкам, которые лежали там же, словно и не уходили. Он разделся. Солнце мгновенно село своим раскаленным жаром ему на спину. И он понесся к воде – там было его спасение. И поплыл.
Море смыло жжение. Мускулы сразу ощутили сами себя, свою энергию и силу. Эта сила, видимо, передалась голове, которая вдруг заработала как свеженькая...
Допустим, глаз и скула почудились от перегрева. Это у него-то? Да он терял под ударами сознание, но лица бандитов запоминал. А если мистика? Он не верил в сны, в гадания, в приметы, в телекинез, в летающие тарелки... – вот только в интуицию. Значит, глаз был. Может быть, отпускник, не отыскавший комнаты в поселке. Почему же он забит досками? И не спит по ночам? А если это автор записки, «заточенный», то почему же он не закричал?
В освеженном мозгу появилась и свежая мысль: пойти в милицию, к коллегам. Глупости. Что он им скажет – про глаз и скулу? Ну, дадут ему в помощь, как не знающему местных условий, молоденького инспектора, у которого свои дела, заявления, жалобы... Да он сам старший инспектор уголовного розыска – нужно сходить туда засветло и тщательно осмотреть дом.
Петельников вышел из воды и опустился рядом с девушками:
– А вы солнышка не боитесь?
– А мы местные.
– Как местные?
– Работаем вон в том санатории...
Черненькая махнула головой, и крылья-волосы закачались над галькой, показывая направление: наверху, на горе белел санаторий.
– Но вы же весь день загораете?
– У нас вечерние смены.
Медузочка безмолвствовала.
– И как там кормят? – вдруг спросил Петельников, вспомнив, что еще ничего не ел.
Черненькая оживилась:
– Исключительно калорийно.
– Это значит как?.
– Много витаминов, белков, вкусовые качества...
– Понятно. А что на первое, второе, третье?
– Меню очень разнообразно.
– А пельмени есть? – поинтересовался он своим любимым блюдом.
– В рационе номер три.
Медузочка так и молчала, что-то рассматривая в море, на самом его горизонте. Видимо, умница – только умные люди умеют умно молчать.
– Вы нам даже не представились, – обидчиво сказала Черненькая, двигая к нему полиэтиленовый мешочек с вишнями.
– Спасибо, – он взял вишенку, потом вторую и сразу набил оскомину. – Разрешите, я буду вас звать Негритянкой, а вас – Медузочкой?
– А мы вас Индейцем, – наконец-то подала голос Медузочка.
– Неплохо, – заметил Петельников.