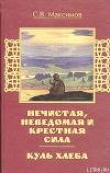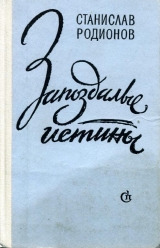
Текст книги "Запоздалые истины"
Автор книги: Станислав Родионов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Запоздалые истины
Широко известный ленинградский писатель Станислав Родионов в своих новых остросюжетных повестях возвращается к давно волнующей его теме: расследованию преступлений. Причем нарушение закона автор исследует прежде всего как следствие нарушения нравственных, этических норм.
Автора интересуют глубинные корни как общественных явлений, так и поступков каждого отдельного человека.
МЫШИНОЕ СЧАСТЬЕ
Рябинин ждал, что машина вот-вот сбросит скорость и приткнется к дому или въедет в ворота. Но она неукротимо неслась на предельно дозволенной скорости по мокрому черному асфальту – казалось, что улицы залиты жидким варом. От воды ли они почернели, темные ли тучи в них отражались...
– Куда хоть едем?
– Увидишь, – ответил Петельников.
Что-нибудь необычное, коли инспектору захотелось удивить. Да разве следователя удивишь? Чем? Изощренной кражей, обезображенным трупом, автомобильной катастрофой?.. Одно бы Рябинина удивило: приедь они, а никакого преступления нет, и вернулся бы он к брошенным делам и прерванным допросам.
Машина уже ехала районами новостроек, оставив позади сутолоку центра. Когда массив чистеньких пятнадцатиэтажных домов разом оборвался и дорога пошла меж заложенных фундаментов, Рябинин спросил:
– За городом, что ли?
– Угу.
– Труп?
– Нет.
– Магазин ограблен?
– Нет.
– Сберкасса?
– Нет.
– Пожар, что ли?
– Не угадаешь.
– Ну, тогда села летающая тарелка...
– Ага, – не улыбнулся Петельников.
Его профиль, словно выведенный черной тушью на сером фоне окна, виделся следователю медальным, чеканным. Даже губы не шевелились; впрочем, нечто среднее между «ага» и «угу» можно говорить и без губ.
Рябинин не любил бессюжетной литературы, полагая, что она неточно отражает законы бытия. Все имеет свое начало, свой расцвет и свой конец, будь то работа, дружба или любовь. Да и у жизни нашей есть начало и есть конец. Место происшествия – это начало, ибо от него потекут плотные дни следствия. Начало для него, для Рябинина. А для виновника происшествия? Наоборот, потому что преступление есть конец какой-то социальной истории. На какую же историю он едет?
Машина повернула с асфальта на проселочную дорогу и заколыхалась на рытвинах и корневищах. Темные от дождя стволы сосен закрыли темное небо – хоть фары включай. Песок под колесами шипел тихо и недовольно. Рябинин прижал к груди тяжелый следственный портфель, который норовил вырваться и ударить инспектора[1] 1
Действие всех повестей, вошедших в настоящий сборник, происходит до 1984 года, и поэтому работники милиции именуются по существовавшим тогда должностным званиям.
[Закрыть] по ногам.
Сосны помельчали. Через километр они незаметно сменились тонкими сероствольными березами, скоро перешедшими в ольшаник. Тот долго тянулся мокрым однородным массивом. Оборвался кустарник сразу, за дренажной канавкой. Машина уткнулась в нее бессильно. Инспектор и следователь вышли, переступая занемевшими ногами.
У канавки стоял наскоро собранный шалашик. Из него вылез инспектор Леденцов, за которым появились понятые, эксперт, участковый... Они выжидательно окружили приехавших.
– Намокли? – весело спросил Петельников, который сбросил таинственность и стал самим собой.
– А у нас только что заморосило, – ответил Леденцов.
– Тогда идем.
За кустарником лежало бескрайнее кочковатое поле, поросшее рыжей травой. Они пошли его краем, ступая друг за другом, чтобы меньше намочить ноги. Рябинин шел вторым, за инспектором, и вдыхал сырой воздух, настоянный на багульнике. Земля под ногами была гулкой, словно в ней залегли пустоты. Торф, толщи сухого торфа, еще не промоченные осенними дождями. Осушенное болото.
Теперь Рябинин не сомневался, что идут они к трупу. Ничего иного тут быть не могло. В старой воронке, или под вывороченным кустом, или в плоской яме, или меж кочками... Закиданный наспех ветками... Насмотрелся он за следственные годы.
Вдруг посветлело, как рассвело. Рябинин вскинул голову, но плотные, точно уезженные катком тучи, не потоньшали. Тогда он глянул вперед, за плечо инспектора... Озеро. Кругленькое небольшое озерцо, сумевшее каким-то чудом принять свет из-за туч и высветить окрестную землю.
– Здесь, – сказал участковый.
Они стояли там, где сходились поле, ольховый кустарник и недвижное озеро.
– Смотри! – выдохнул Петельников.
Рябинин глянул на торфяной берег, выискивая плоские ямы и маскировочные ветки. Он обежал взглядом высокие кочки с султанами красноватых трав. Посмотрел на ольшаник, потемневший, словно его уже ошпарил первый мороз. И тогда он увидел...
К зеленой стене, подмяв несколько кустов, привалилась странная гора, высотой с человека. Какие-то крупные бруски серого и черного цвета... Здесь, среди воды, трав и болот, эта гора смотрелась так, будто ее насыпал отчаливший инопланетный корабль. Не собрались ли они официально запротоколировать место приземления летающей тарелки?
Рябинин обернулся к инспектору, ожидая каких-то поясняющих слов, но Вадим лишь показал взглядом на космическую горку – мол, смотри. Молчали инспектора, молчал эксперт-криминалист и молчали понятые. Тогда Рябинин подошел к странной горе и взял один брусок.
Черный, крепкий, легкий, сажистый... Из чего он? Вроде бы из чистого углерода. Рябинин осторожно положил углеродистый брусок в груду и взял другой, серый. И прежде чем пальцы ощутили то, что они знали с первого года жизни, слабый запах свободно отстранил другие сильные запахи – багульника, трав, озерной воды и вошел в его душу удивленным толчком.
– Хлеб, – растерянно сказал Рябинин.
– Хлеб, – подтвердил Петельников.
Буханка была нормальной, даже мягкой, даже еще не промокшей. Рябинин разломил ее, обдав себя душистой волной, – хлеб. Да их тут, серых и мягких, большинство; сгорело до угля, а вернее, до углистой корки, лишь несколько буханок.
– Хлеб-то хороший, – опять растерянно сказал Рябинин, оглядывая всех.
– Найти бы его в войну, – сказал понятой.
– Да-а, подороже золота, – отозвался эксперт, уже распахивая свои сумки.
– Кто обнаружил? – спросил Рябинин.
– Мальчишки, – ответил Леденцов, взял у следователя половину буханки, выщипнул ком мякиша и начал есть.
– Как? – усмехнулся Петельников.
– Хлеб как хлеб, товарищ капитан.
– Привозили на самосвале, – Петельников махнул рукой на свежую и глубокую колею.
На месте происшествия у Рябинина бывали разные состояния. Его охватывала жалость к потерпевшему, злость к попустительству, ненависть к преступнику; он сожалел о чьей-то испорченной жизни, о чьем-то пропавшем добре, о поруганном чьем-то имени... Но сейчас он не понимал себя – казалось, что промозглый осенний день припал к его груди стынущей влагой и вливает туда свой тоскливый холод.
Рябинин глянул на озерцо. От частых капель оно тихо позванивало. Тот берег зарос елями и какими-то темно-ствольными деревьями – насупленная черная грива. Но кое-где белели стволы берез и, перекошенные дрожащей сеткой дождя, казались струйками белого дыма.
Видимо, какой-то хлебозавод испортил хлеб и тайком вывез. Обида. Рябинина заполонила обида – такого с ним на месте происшествия не случалось. Но почему? На кого обиделся? Какое дело ему, городскому человеку, до того самого хлеба, который он не сеял, не жал и не молол?
Все уже работали. Эксперт фотографировал хлеб и заливал пастой следы протектора, Леденцов ему помогал, понятые смотрели. Рябинин расстегнул портфель и подошел к Петельникову:
– Вадим, сколько у нас хлебозаводов?
– Да штук десять.
– А ближайший?
– Вон за тем поселком...
Инспектор показал вдаль, за озеро, но Рябинин уже ничего не видел – частые капли на стеклах очков сливались в струйки и застили и без того хмурый день. Он вытащил платок и протер стекла. Но струйки, словно перепрыгнув с очков, уже бежали по шее за шиворот, где-то по плечам, где-то в ботинки.
На том краю озера он смутно разглядел белесые домики.
– Без доказательств на завод соваться нечего.
– Поищем самосвал.
– В этот поселок надо заглянуть...
Услышав последние слова, эксперт почти радостно поманил их. Петельников нагнулся, Рябинин близоруко присел – они смотрели на конец указующей линейки, который лег на кофейные ромбы и квадраты следа автомобильной покрышки.
– Тут была пробуксовочка, – объяснил эксперт. – Дерн сорвало. На мокром торфе остался четкий отпечаток. А вот характерный скол. Протектор прекрасно идентифицируется...
– Тогда найдем, – заверил Петельников.
– Как печенье, – сказал Рябинин про торфяные ромбы, доставая папку с бланками протоколов.
– Писать на дожде? – удивился инспектор, – Сейчас пригоню машину.
Он уже отошел шагов десять, но вернулся и навис над рябининскими очками, словно закрывая их от дождя.
– Сергей, после твоих сложных это дело о горелом хлебе, наверное, покажется неинтересным?
– Неинтересных дел не бывает.
– Ну уж?
Рябинин хотел ответить позлее, чтобы сбить Вадимову уверенность, но вспомнил, что про его странную обиду инспектор не знает.
– Вадим, нет неинтересных дел, а есть неинтересные следователи.
– Это ты про себя? – усмехнулся Петельников.
– Это я про нас, – хотел усмехнуться и Рябинин, но добрый стакан воды скатился на него со шляпы инспектора и хлестнул по очкам.
И Рябинин задумался, вспоминая и запоминая, чтобы потом записать в дневник...
Я знал старика, берущего заскорузлыми пальцами буханку хлеба осторожно, как спеленутого младенца. Старик говорил... В жизни сперва идет главное, а за ним второстепенное; сперва мужик, потом баба; сперва щи, потом каша; сперва сталь, цветные металлы погодя... А впереди того, что идет сперва, будет хлеб, потому что он всему голова, а остальное лишь головочки. Кто первооснову хлебную не понимает, тот дурак, прости господи...
Я знал старуху, пережившую ленинградскую блокаду, которая ничего не говорила, но все послевоенные годы, каждый день, каждый раз, до самой смерти, отрезав кусок привольного хлеба, тихо плакала незаметными слезами...
Рябинин уже не мог думать о других делах – гора хлеба стояла перед глазами, как стоит перед ними ослепившее их солнце. И, кончив писать протокол осмотра, он поехал с инспекторами в заозерный Поселок...
Леденцова с машиной они оставили у водопроводной колонки и теперь бродили по Поселку уже не боясь ни луж, ни грязи, потому что в ботинках свободно хлюпала жидкая земля.
Это называлось «работать по горячим следам», или, как шутил Петельников, «по горелым следам». Они расспрашивали прохожих, заходили в дома, разглядывали на мокрой земле отпечатки протекторов... Но самосвала никто не приметил, хлеба горелого никто не видел и вроде бы никто ничего не знал.
Петельников поежился от пригоршни брызг, брошенных в лицо ветром с шиферной крыши:
– Не хотел бы тут жить.
– Что так?
– Я люблю определенность.
Рябинин его понял. Ни деревня, ни город. На центральной улице асфальт, а рядом грязь непролазная. Дома просторные, высокие, кирпичные или шлакоблочные – городские дома, но позади сарайчики и огороды. Водопровод есть, но до квартир не доведен – стоят на улицах колонки...
– Сергей, ты вроде бы расстроился? – спросил инспектор, отыскивая в луже место помельче.
– Разве?
– Из-за хлеба?
– Конечно, из-за хлеба.
– Ну, а если бы свалили, допустим, цветные телевизоры? Тоже загрустил бы?
– Нет, – сразу ответил Рябинин, не думая.
– А они подороже хлеба.
– Подороже...
– Сделать их потрудней, чем буханку хлеба.
– Потрудней...
– Ущерб государству был бы покрупней.
– Покрупней...
– Так к чему расстройство?
– Когда найдем преступника, я арестую его.
– Не убийца же.
– Хуже, – убежденно выдохнул Рябинин.
Инспектор хотел возразить, но полоса злого ветра чуть не сдернула его шляпу. Рябинин схватился за очки, удерживая их на мокром скользком лице. Листья, еще зеленые, отяжелевшие от воды, легко плясали в коротком вихре. Когда секущий ветер ослаб, они огляделись – куда идти? В какие дома стучаться?
– В магазин, – сказал Рябинин. – Прежде чем хлеб вывалить, его могли предложить туда...
Но магазин оказался закрытым. Они потоптались у зеленых деревянных ставен и двух тяжелых замков, висевших былинно, как на сундуках с добром. Петельников обошел магазин и повлек следователя к холмикам колейной грязи:
– Смотри, покрышки самосвала.
– Тут разные...
– Самосвал ехал последним.
– Может, слепок снять? – неуверенно спросил Рябинин у самого себя, разглядывая путаницу следов.
– Нужно узнать, почему закрыт магазин, – решил инспектор.
– Так по случаю выходного дня, – проскрипел сзади какой-то механический голосок.
Старик взялся ниоткуда, может быть, из плоской желтой лужи. Он стоял, затерявшись тщедушным телом в широченной спортивной куртке, видимо с плеч внука. Его серое лицо – от годов ли, от темных ли туч – ничего не выражало, но глаза не поддались ни летам, ни тучам и светились живо.
– Вы самосвала с хлебом не видели? – взял на себя разговор Петельников.
– Тут их в день прогудит сто, а то и двести. И всяк что-либо везет.
– Продавщица местная?
– Сантанеиха-то? Последний дом по этой вот улице.
– Сантанеиха – это правильно как? – спросил Рябинин.
– Сантанеева Клавка, вот как...
Возможно, что добывать руды и плавить из них сталь и цветные металлы труднее, чем растить хлеб. Возможно, что делать из этих металлов цветные телевизоры сложнее, чем молоть муку и печь хлеб. Возможно. И все-таки уничтожать цветные телевизоры – это только уничтожать цветные телевизоры. А уничтожать хлеб – это плевать в душу народную...
Леденцов слегка обиделся – его, оперативного работника, оставили сторожем при машине. Он постучал ногой по скатам, опробовал водопроводную колонку и огляделся...
Дома смотрели слезливыми окнами насупленно. Все кругом почернело и потемнело – земля, крыши, заборы; даже салатные стены, при солнышке веселенькие, теперь казались закоптелыми.
Леденцов выбрал бугорок посуше и тоже насупился, как и слезливый дом. Он бы сюда не поехал, а сделал бы иначе: явился в управление, доложил руководству, образовал оперативную группу, инспектора рассыпались бы по хлебозаводам... Нашли бы.
Он зевнул – не от холода, не от сырости, не от одиночества; зевнул от того преступления, которым предстояло заниматься. Буханки хлеба высыпали в траву... Даже не булку. А в соседнем райотделе ребята ловят инопланетянина, показывающего за деньги складную летающую тарелку, которую он носит в чемоданчике-дипломате. В другом районе ребята занимаются аспирантом, взломавшим квартиру своего научного руководителя и укравшим чужую диссертацию. В третьем районе шайка дельцов ворует собак и дерет шкуры на шапки...
Старик, которого дождь шатал, никак не мог справиться с пружинящей ручкой колонки. Леденцов подошел, прижал металлический штырь, и вода брызнула несильной простуженной струей.
– Дедуль, сколько годков? – громко спросил Леденцов.
– Что кричишь, как дитю или идиоту?
– Гражданин, сколько вам лет? – понизил голос инспектор.
– Если для ровного счету, то семь десятков.
– А если не для ровного?
– То прибавь годок.
– Ого!
– Чтоб это узнать, и приехал?
– Дедуля, мы интересуемся машиной с хлебом...
– Твои корешки уже пытали....
– Ну, так не видели?
– Тут этих машин шныряет, глаз не хватит...
– Дедуля, а самосвал?
– Подходил вчерась какой-то под брезентом к магазину.
– А что под брезентом?
– Я ж не акробат, по кузовам не лазаю. Но хлебом от него попахивало.
От неожиданной удачи Леденцов позабыл заготовленные вопросы. Но старик помог сам:
– Про хлебный дух и старуха моя подтвердит.
– Номера машины не запомнили?
– Числа-то нонешнего не помню, – буркнул дед.
– Моим товарищам про это сказали?
– В момент не сообразил. А за ведра взялся – и память как осветило.
Леденцова тоже осветило радостью – у него у первого появилась информация, которой не было ни у старшего инспектора, ни у следователя. Его позабыли у машины, им пренебрегли, но он и тут, не отходя, добыл оперативные сведения.
Леденцов схватил полные ведра и понес их почти бегом, не разбирая дороги. О старике он вспомнил лишь потому, что не знал, куда нести воду.
– Здоров ты, – дед отдышался и ткнул пальцем в сторону маленького домика, ветхого, как и хозяин.
Леденцов поднял ведра на крыльцо, до самых дверей, и птицей слетел на землю.
– Твои пошедши к продавщице, к Сантанеихе, – угадал его желание старик.
– Еще раз спасибо, дедуля.
– А на добавку будет тебе совет...
Старик даже сошел с крыльца и своими живыми глазками въелся в глаза инспектора. Леденцов нетерпеливо чавкнул ботинком:
– Какой совет, дедуля?
– Вам надобно пойти по хрюку.
– По какому хрюку?
– По поросячьему.
– Дедуля не понял... Мы интересуемся самосвалом с хлебом.
– Дедуля все понял.
– Тогда зачем по этому... по хрюку?
– Хрюшки бы чего и шепнули.
– Дедуля, мы есть орган власти, а вы поросячьи шутки отпускаете.
– Молод ты еще для органа, – озлился старик и пошел в дом, глухо топая по сырым ступенькам.
И Леденцов подумал, что семьдесят один есть семьдесят один.
Я шел за хлебом. У булочной остановился, как инопланетный корабль, бесконечно длинный сияющий автобус с интуристами. Распахнулась его дверь, и люди с сумками, сетками и мешками ринулись в магазин. Операция длилась минут десять... Когда автобус победно отъехал, я вошел в булочную – полки были пусты. Ни буханки, ни батончика, ни бубличка. Как голодом все вымело...
Пусть иностранцы поедят нашего хлеба.
Они ожидали найти усадьбу: двухэтажный дом, пристройки, стога, скотину... Дом Сантанеихи, небольшой и приземистый, как амбар с окнами, стоял на отшибе, у подступающих сосен – можно было подъехать из лесу по проселочной дороге к самым воротам, не показываясь в Поселке. Вокруг ни деревьев, ни строений – лишь кусты да сиротливый сарайчик за домом.
Рябинин никому не признавался, что стесняется вот так, вроде бы ни с того ни с сего, вламываться в чужой дом. И не хотел искать причину этого чувства и расслаивать свои переживания на волоконца логики – зачем? Ведь стеснение не пройдет. Пока инспектор дергал за деревяшку звонка, похожую на ручку детской скакалки, Рябинин одним мигом представил, что там, за дверью, – спят, читают, вяжут, целуются или ждут гостей, да не их, а званых... Представил. Все-таки расслаивал переживания на волоконца.
Дверь открылась. Следователь с инспектором ожидали увидеть красноликую тетку в сумрачном платке – Сантанеиху они ждали. Перед ними стояла женщина лет сорока, в брючках, в красной кофточке, с крашеными желтостружечными волосами, и обдавала их широким и непугливым взглядом.
– Клавдия Ивановна Сантанеева? Я следователь прокуратуры Рябинин. Разрешите войти?
– Господи, чем это я проштрафилась, – почти радостно, почти запела она. – Проходите.
Гости прошествовали в дом...
Сперва они увидели дворцовую люстру, которую Петельников мог задеть головой. Потом их как бы обступили кресла, диваны, пуфы, торшеры... Широченную тахту устилали разномерные плоские подушки и подушечки. Большая вытянутая комната венчалась длинным сервантом, густо уставленным крупными вазами. Электричество не горело, а дневному плаксивому свету из окошек не хватало силы зажечь хрусталь – он невнятно мерцал, как начищенная жесть. И этот сервант казался иконостасом, перед которым хоть лампаду зажигай.
Раздвинутый стол они увидели чуть позже. Он был накрыт и тоже обилен, как и дом. Рябинин разглядел его сельско-городскую разносолость – тут и соленые огурцы с капустой, тут и колбасы с паштетами, тут и казенная водка с домашними наливками.
– Мы не вовремя, – буркнул он.
– Жду своих товарок, выходной у меня. Я ведь баба одинокая.
– Мы на минутку, – извинился Рябинин.
– Садитесь, пожалуйста...
Инспектор не сел на предложенную тахту, а стал прохаживаться по комнате, разглядывая все с музейным интересом; особенно влек его накрытый стол. Рябинин приспособился к маленькому столику, где разложил свои вечные протоколы.
– Клавдия Ивановна, вы в магазине работаете одна? – начал следователь.
– Он же крохотный, для местного населения.
– Хлеб откуда получаете?
– Из райцентра. Мы ведь уже областные. Да что случилось?
Но следователь попросил ее паспорт, чтобы заполнить первую страницу протокола, – уголовное дело возбуждено, поэтому любая беседа превращалась в допрос.
– Клавдия Ивановна, самосвал к магазину подходил? – спросил Рябинин.
– Их десять за день подъезжает насчет спиртного.
– С хлебом, Клавдия Ивановна...
– Бог с вами! С каким хлебом?
– Мы же не сами придумали, люди говорят, – уверенно бросил инспектор, располагая сведениями Леденцова.
Сантанеева удивленно задумалась, легонько взбивая рукой желтые, шелестящие в тишине волосы.
– Вчера, что ли?
– Вчера, – подтвердил Рябинин.
– Зашел мужик, спросил, не надо ли хлеба...
– Какой мужик, откуда хлеб?
– Да не спрашивала я ничего. Хлеб мне его до лампочки – и привет.
– Какая машина?
– Я и на улицу не выходила.
– Опишите его.
– Мужик как мужик. Мне покупатель весь на одно лицо.
– Во что одет?
– Вроде бы в спецовку.
– Узна́ете его?
– Вы шутите...
– Ну, и чем кончилось? – спросил Петельников, видя, что рябининские вопросы вроде бы иссякли.
– Взял бутылку и ушел.
– Что ж... Спасибо, – Рябинин уткнулся в протокол, записывая скудные показания.
Инспектор стал у книжной полки, разглядывая одинаковые переплеты: «Женщина в белом», восемь штук.
– Клавдия Ивановна, зачем столько «Женщин в белом»?
– Моя любимая книжка, на макулатуру выменяла.
Рябинин придвинул ей короткий протокол, который Сантанеева прочла одним брошенным взглядом.
– Не хотите ли закусить? Все готово...
– Нет-нет, спасибо, – Рябинин торопливо закрыл портфель.
Но Петельников хищно воззрился на стол:
– Огурчики своего посола, Клавдия Ивановна?
– А как же! Попробуйте, попробуйте...
Она кокетливо тряхнула прической, прошлась по комнате, включила широкую люстру и села в отдалении, забросив руки за голову. Рябинин сощурился – от блесткого хрусталя, от яркой кофты, от желтизны волос, от ее груди, которая выкатилась двумя солнцами.
– Спасибо, – Петельников одной вилкой поддел два огурца и двинулся за Рябининым, похрустывая...
На улице они вздохнули одновременно – от сделанного дела, от холодного воздуха, от облегчения, обдавшего их вместе с мокрым ветерком.
– Найди этого шоферюгу, – сказал Рябинин.
– По протектору отыщем.
– С какого-нибудь ближайшего завода...
– А Клавдия Ивановна нас обманула, – усмехнулся инспектор.
– В чем?
– Огурцы не своего посола, а кооперативного.
Я знаю множество подвигов во имя спасения народного добра. Спасают трактора, лес, горючее, стройматериалы... Но чаще всего спасают хлеб – ради хлеба чаще всего рискуют жизнью. Почему?
Директор хлебозавода, лысеющий полноватый мужчина в сером, словно присыпанном мукой костюме, страдальчески думал: «Ну зачем она пришла?» Безвозрастная женщина с невыразительным лицом, с продуктовой сумкой на коленях тоскливо думала: «Ну зачем я пришла?»
Каждый смотрел изучающе. Что-то их отпугивало друг в друге. Может быть, какая-то зеркальная похожесть, которая не всегда сближает?
– Ну, а что конкретно, что? – спросил директор почти нетерпеливо.
– Всего не перечислить...
– Например.
– Подам обед, а он только усмехнется и зло отодвинет тарелку.
– А что подаете?
– Обычное... Щи, котлеты... Компот...
Директор увидел, что из ее сумки торчит рыбий хвост – острый, колкий, замороженный. Женщина перехватила его взгляд и добавила с чуть заметным вызовом:
– Кормлю разнообразно.
– Может, у него аппетита нет? – натужно улыбнулся директор.
– Окинет квартиру таким едким взглядом и усмехнется. Мол, убожество. Любимое теперь его слово – убожество. Галстук купила ему... Опять убожество.
– А что все-таки по существу?
– От него пахнет алкоголем...
– Ну, это с мужчинами случается.
– Не водкой пахнет...
– А чем? – с подступившим интересом отозвался директор.
– Винами какими-то, на духи похожими.
– Ликерами.
Директор ждал подробностей про эти ликеры. Но, женщина, засомневавшись в их нужности, вдруг стала ожесточенно проталкивать рыбий хвост в сумку. То ли там не было места, то ли хвост еще не оттаял, то ли рыбина попалась упрямая, но у женщины ничего не выходило. Покраснев от смущения, она зло бросила:
– От него духами пахнет, французскими.
– Что ж, он душится французскими духами?
– Не он душится.
– Ага, понимаю...
Директор догадливо поправил галстук, серый, похожий цветом на рыбий хвост.
– Я ее не видела, но чувствую.
– Как чувствуете?
– Как женщина женщину.
– А вы не преувеличиваете?
– Юрий Никифорович, человек катится под гору.
Теперь женщина ожила. Легкий румянец придал лицу девичью силу. Спина распрямилась, плечи вскинулись, грудь поднялась, и ее громадная сумка как-то сразу умалилась.
– Ну уж и катится...
– Он говорит, что человек – дитя наслаждений.
– Дорогая, что же вы от меня-то хотите?
– Он ваш подчиненный!
Директор, точно вспомнив об этом, осанисто выпрямился и теперь подтянул галстук строго, туго... Его взгляд уже лег на телефон, который выручал в таких вот туманных положениях – стоило лишь вызвать секретаршу. Но взгляд безвольно ушел от аппарата, ибо секретаршу вызывать по такому поводу как раз было нельзя. И тогда к директору пришло редкое раздражение: у него коллектив, у него завод, у него план... А эта обиженная жена сидит и смотрит глазами коровы, которой не дают сена.
– Ну что я могу сделать? Заставить его есть ваши котлеты? Заставить пить водку, а не ликеры? Вызвать и спросить: «Почему, дорогой друг, от тебя пахнет французскими духами, а не «шипром»?»
Женщина повела рукой, неся ее к груди, к сердцу. И задела рыбий хвост, который вдруг пропал, точно испуганная рыба нырнула в глубины. Иногда бывает, что в трудный момент, когда надо бы бросить все силы на главное, они, эти силы, вопреки всякой воле, уцепятся за пустяк, как за спасительную соломинку. Этот нырнувший рыбий хвост лишил женщину приготовленных слов и слез, и она сказала, может быть, самое главное:
– Юрий Никифорович, у нас двое детей...
– Да-да... Я с ним поговорю.
Человека, отвоевавшего всю войну и прошедшего, считай, половину земного шара; человека, после войны прожившего сорок лет... Я спросил его о довоенном времени, в котором он прожил двадцать шесть лет. Человек задумался. Потом рассказал, как до войны он видел на мостовой кем-то оброненную буханку хлеба. Мимо бежали люди, не поднимая. И он не поднял...
В войну, в осажденном Ленинграде, в полях и окопах, в походах и привалах жгуче вспоминалась ему та буханка – почему не поднял... И вся мирная жизнь, все довоенные двадцать шесть лет вместились для него в эту неподнятую буханку...
Ночью Петельников дежурил по райотделу. И хотя особых происшествий не было, прилег он только на часик, продремав его чутко, по-звериному...
В десять утра инспектор приехал домой, сам не зная зачем. Не снимая плаща, он прошел в комнату и стал посреди, прислушиваясь к нежилой своей тишине. Отяжелевшая рука поднялась сама и надавила кнопку проигрывателя – негромкая скрипичная музыка добавила одиночества этим брошенным стенам.
Петельников прошел на кухню и сварил ровно три чашки кофе. Пил их стоя, так и не сняв плаща и прислушиваясь к тянущему стону скрипки. Он бы с удовольствием съел трехблюдовый обед, поспал бы часиков шесть, сходил бы в кино или в бассейн; в конце концов мог бы в свой отгульный день завалиться с книгой на тахту; мог бы послать сейчас на этот хлебозавод Леденцова... Но глаза инспектора еще видели лицо Рябинина, обиженное и растерянное, словно его ударили. И почти в подсознании, без слов и без четкой мысли, Петельников тогда поклялся отыскать этого шоферюгу.
Допив кофе, он вернулся в комнату, выключил музыку и поехал на ближайший к Поселку хлебозавод.
По магазинам хлеб развозили машины специализированного автохозяйства. Среди них, разумеется, самосвалов быть не могло, поэтому задача усложнялась неимоверно – буханки мог скинуть в болото любой самосвал, из любого автопарка. Попробуй его найди. Сколько их в крупном городе – тысячи?
На хлебозаводе Петельников толкался до пяти вечера, представившись инспектором пожарного надзора. Эта таинственность скрывала его цель, но и не давала прямо спросить о хлебе. Не добыв ни крупицы информации, он уехал; впрочем, крупица была – хлебозаводы могли иметь свой автотранспорт для технических нужд. На этом хлебозаводе самосвалов не числилось...
В половине шестого Петельников опять вошел в свою квартиру и задумчиво глянул на кнопку стереопроигрывателя, которую стоило лишь нажать, и одинокая скрипка постарается развеять одиночество этих стен. Впереди был вечер. Переборенный сон отступил, но не настолько, чтобы инспектор смог заняться делами. Читать книгу? Смотреть телевизор? Или пить под музыку кофе?
Он снял плащ и прошел на кухню. Казалось, чашка еще не остыла от утренних трех порций. Инспектор открыл холодильник, безвкусно пожевал колбасы, запил ее томатным соком и опять взялся за волглый плащ. То, что намеревался он сделать, можно было перенести и на завтра. Но завтра нахлынут другие дела.
Инспектор поехал на другой хлебозавод, который был далековато от Поселка, но расположен на окраине города...
Уже стемнело. Вахтер глянул в удостоверение и сообщил, что администрация вся уехала. Но теперь Петельникова интересовала не администрация. Он стал прогуливаться по рабочему двору, приглядываясь к складам, мастерским и подсобным помещениям.
Бокс искать не пришлось – в распахнутую дверь инспектор увидел голубенький самосвал. Он подошел, втиснулся меж кабиной и стеной и глянул под машину. Заднего колеса не было. И в груди екнула радостная уверенность: видимо, его сознание в долю секунды прокрутило и соединило ряд фактов – самосвал, загородный хлебозавод, почему-то меняются покрышки...
Петельников огляделся в тесном и темном помещении – теперь все дело в этих покрышках. Два уже снятых ската прислонились к верстаку. Инспектор упал перед ними на колени и начал вертеть, вглядываясь в рисунок протектора. Вот он, характерный скол... А вот поперечный разрез, о котором говорил эксперт. Петельников вскочил – эту покрышку нужно было изъять с понятыми...
Узкий проход, и без того темный, закупорила плечистая неясная фигура.
– Домкрат пришел свистнуть или к аккумулятору ноги приделать, а? – хрипло спросила фигура. – А ну вали отсюда!
– Не вали, а здравствуйте.
– Тебе повторить?
– Да, пожалуйста, – вежливо попросил Петельников.
Щелкнул выключатель. Свет пыльной лампочки осветил бокс. Рассмотрев высокую фигуру инспектора, хриплый мужчина замешкался.
– Ваша машина? – спросил Петельников голосом, от которого мигнула пыльная лампочка.
– Моя, а что?
– Вот почему нервишки задергались, дядя...
– А ты кто?
– Уголовный розыск. Переодевайся-ка, да поехали.
Один бывалый человек спросил, знаю ли я, что такое бус. Я лишь пожал плечами. Он кого-то еще спросил. Никто не знал.
Бус – это мучная пыль, которая оседает на стенах и балках мельниц. В голодные годы ее сметают и пекут хлеб. Липкий и черный.
Леонид Харитонович Башаев, насупленный крупный мужчина, поглядывал на следователя исподлобья, хотя лоб у него был узок, как ремешок; поглядывал он из-под курчаво-путаной шевелюры, нечесанной со дня рождения. Лицо краснело, словно всю жизнь он простоял у сильного огня. Большой нос, который на широких скулах казался одиноким, туго сопел. Во взгляде тлели как бы две заботы: одна о том разговоре, который предстоял, а вторая, далекая и страждущая, ждала своего дня, часа, чтобы утолиться.