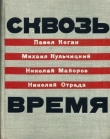Текст книги "Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Простаки и циники
Сегодня, может быть, странно, что этот фильм – забавный, лирический, элегический, эксцентрический и бесконечно далекий от того рода искусства, который мы с почтительным трепетом именуем сатирой, – при появлении в 1982 году был встречен начальственной яростью.
Режиссер Михаил Козаков по горячему следу записал, чтó ему было сказано тогдашним телевладыкой Сергеем Лапиным (чье могущество опиралось на личную близость к Брежневу):
«Такие картины делают только люди, сбежавшие в Тель-Авив или Америку! Вы с Зориным не можете сказать: „Долой красный Кремль!“ и делаете такие картины. Это гадость! Я посмотрел эту мерзость: вы извратили образ фронтовика! (Имелся в виду, комментирует Козаков, милейший Савва в исполнении Вити Борцова.) Это все ужасающая пошлость».
И так далее в том же духе.
Я иногда вставлял вопросы. Он: «Это какой-то Зощенко!» Я: «Почему „какой-то“?» – «Ну, я имею в виду, что, по-вашему, со времен Зощенко ничего не изменилось!»
Казалось бы, странно…
Персонажи «Покровских ворот» – совсем не из тех, чье комическое изображение должно вызывать у властей обиду. Уж на что долго роман «Золотой теленок» числился по разряду клеветы на нашу родную действительность, но не было случая, чтобы Ильф или Петров получили тычок свыше: зачем, дескать, оскорбили интеллигенцию образом Васисуалия Лоханкина?
Сами интеллигенты обижались, что было сущей глупостью. Способность к самоиронии – непременное свойство настоящего интеллигента. Обижаются только выскочки и перерожденцы.
А тут… Если в знаменитой Вороньей слободке в компанию бывшего князя, бывшего камергера, черносотенца и прочих лиц непролетарского профиля затесался лишь один гнилой интеллигент, то здесь они сплошь таковы.
Напомню: в первую голову Лев Евгеньевич Хоботов, редактор поэтических переводов с романских языков (вы слыхали о менее общеполезной профессии?), у которого, в точности как у Лоханкина, с уст не сходят стихи. Безграничная недотепистость, воплощенная неприспособленность к жизни плюс сомнительное происхождение. Правда, «Лев Евгеньевич» – вроде бы не совсем ловится, но играющий Хоботова актер по фамилии Равикович не оставляет сомнений насчет пятого пункта.
А куплетист Велюров, этот полпред эстрады, пародия сразу на всех народных любимцев былых лет – Шурова и Рыкунина, Нечаева и Рудакова, Илью Набатова? В общем, тоже не от станка.
А сочинитель его идиотских куплетов, «писатель» Соев?
А «медицинский работник» Людочка хоть не шагнувшая дальше среднего специального, но как-никак представляющая собою само милосердие?
А… И так далее. Все смешны – и все из той социальной сферы, над которой смеяться и даже глумиться разрешено было всегда.
Так что начальству как будто гневаться не на что, зато интеллигентам-шестидесятникам, пожалуй, можно бы и обидеться в виде исключения. Потому что – «над кем смеетесь?». И главное, над чем? Не слишком ли авторы зашутились?
Вопрос не совсем риторический, если вспомнить температурные перепады пресловутой «оттепели» – из жары да в холод (казалось, еще чуть-чуть, и в сибирский или мордовский. Да и не «казалось»: при Хрущеве за «политику» в лагеря шли косяками).
Вообще ведь приметы «оттепели» – не только реабилитация сотен тысяч гулаговских узников, но и разрушенные церкви. И хрущевский кулак, отнюдь не метафорически занесенный над головами интеллигентов. И поношения «обголенной фульки», как, говорят, Никита Сергеевич, учиняя в Манеже погром, перекрестил «Обнаженную» Фалька. И организованная охота на Виктора Некрасова. И неотвратимо грядущий крах «Нового мира», голубая книжка которого вложена режиссером в руки Хоботова как опознавательный знак «оттепельного» интеллигента. И газетные поношения «Вертинского для неуспевающих студентов», он же «сочинитель белогвардейских мелодий», которые и создают в «Покровских воротах» ностальгический фон…
Когда начальственный гнев поутих и фильм, кое-что потеряв по дороге к телеэкрану, все-таки увидел свет, Давид Самойлов послал своему другу Козакову из эстонского Пярну (где жил последние годы) домашние, шуточные стихи:
Я «Покровские ворота»
Видел, Миша Козаков.
И взгрустнулось мне чего-то,
Милый Миша Козаков.
Ностальгично-романтична
Эта лента, милый мой.
Все играют в ней отлично,
Лучше прочих – Броневой.
В этом фильме атмосфера
Непредвиденных потерь.
В нем живется не так серо,
Как живется нам теперь.
В этом фильме перспектива,
Та, которой нынче нет.
Есть в нем подлинность мотива,
Точность времени примет.
Ты сумел и в водевиле,
Милый Миша Козаков,
Показать года, где жили
Мы без нынешних оков.
Не пишу тебе рецензий,
Как Рассадин Станислав,
Но без всяческих претензий
Заявляю, что ты прав,
Создавая эту ленту
Не для прочих м…ков,
И тебе, интеллигенту,
Слава, Миша Козаков!
Очаровательный самойловский юмор, его грациозное ерничанье не очень-то и пытались скрыть печаль – по тем временам, по тем людям, даже по тем дурацким иллюзиям (к которым, при его мощном уме, Самойлов как раз был склонен меньше многих. Если не всех).
И ведь действительно – фильм, который я прагматично использую как наглядное средство, при всем комизме своем, а возможно, как раз благодаря комизму, выявил нечто весьма характерное для того времени. Для его настроений – в частности, литературных.
Что именно?
Тот же Хоботов, белый клоун, на которого валятся все шишки, – это словно бы оправданный Васисуалий Лоханкин. Вернее, его множественный прототип, российский интеллигент, которого именовали то «гнилым», то «размагниченным», то и вовсе «паршивым». А страх Хоботова перед жизнью, чему Зорин с Козаковым сочувствуют (и что не мешает им довести его до степени комического абсурда), – разве реальность этой вечной боязни не доказана постоянством репрессий и унижений?
И даже Велюров, эта пародия на артиста с его профессиональными слабостями (тщеславие, да и пристрастие к горячительному), – трогателен. Сами его куплеты, уморительно оглупленные по законам комедии, тем не менее не циничны. Как и он сам, они простодушны… Да, да, простодушие – вот что актер Броневой угадал в своем выпивохе-эстраднике, а режиссер – и во всей эпохе пятидесятых-шестидесятых.
Да и все исполнители, играя в «Покровских воротах» каждый свое, изобразили единое целое: общество простаков, каковые как раз по этой самой причине весьма симпатичны (в России всегда были снисходительны к безобидным придуркам).
Что касается режиссера, то ему его простаки настолько милы, что жаль с ними прощаться, не оставив памятных знаков. Потому – как бывает при расставании и во взаправдашней жизни: стоп! Стоп! Стоп! Вспышки магния – и навек застывают физиономии персонажей, всех, без разбору значения и достоинств, будто фото в домашний альбом. И: «Молодость, ты была или не была?» – спросит голос самого Козакова, который взялся изобразить постаревшего шестидесятника. Спросит с тоской и словно с сомнением: да была ли она взаправду? Не приснилась ли посреди воцарившейся собачьей старости?..
Но тут я, козаковский ровесник, самозвано встаю в ряд с персонажами фильма. Включаюсь в ритуал расставания.
Опять – вспышка магния, но на сей раз мое мгновенное фото. Моя молодая, двадцатипятилетняя физиономия – должен признаться, тоже наивная до глуповатости.
И текст – прошу прощения, тоже мой:
«Черты нынешнего молодого поколения…
Это – „неформализм“ души, трезвость, прекрасно сочетающаяся с честностью и бескорыстием. Это – умение и желание мыслить, размышлять о жизни и о ее сложностях. Это – стремление во всем, за каждым словом увидеть судьбу человека. Того человека, что обычно именуется „простым“ и пишется с самой обыкновенной, незаглавной буквы».
И т. п.
Приходится цитировать свою очень давнюю статью, напечатанную журналом «Юность» в конце 1960 года, аккурат накануне наступления самих по себе шестидесятых, – приходится хотя бы к потому, что статья называлась «Шестидесятники». И это от нее пошла кличка, прилипшая к поколению, вернее, к людям достаточно разного возраста, лишь бы они входили в литературу (как и в прочие сферы жизни) в те годы.
Что до автоцитаты, то, как легко убедиться, привел я ее отнюдь не тщеславия ради.
«Неформализм»… «Желание мыслить…» Наивно? О да! Абстрактно? Донельзя! Ну было еще что-то вроде «воспитания правдой». Ну написал я, что скепсис, мол, не так уж и страшен, даже наоборот… В общем, вожу ныне пальцем по забытой мною самим статье и пытаюсь понять: как всему этому удалось некогда вызвать грозовую реакцию?
Никак не менее грозовую, чем гневная отповедь, данная режиссеру «Покровских ворот».
Очень большие люди не обошли гневным вниманием. Шутка ли, сам Дмитрий Алексеевич Поликарпов, полумифический «дядя Митя», грозный куратор тогдашней словесности, стучал, говорят, кулаком в кабинете на Старой площади. А главный теоретик партийности Виталий Михайлович Озеров вылепил из меня в своей книге образ врага, способный польстить любому ниспровергателю власти.
И главное: что бесило в особенности?
Именно то, что я принужден зачислить в разряд безусловных слабостей: абстрактность наивных моих притязаний.
Между прочим, и выруган я был в печати впервые – потому лишь и памятно – не за что иное, как за «абстрактный гуманизм». Такое было тогда ругательство.
О «Шестидесятниках» же писали так:
«Семилетка? Выполнение и перевыполнение производственных планов? Борьба за технический прогресс? Всенародная борьба за подъем сельского хозяйства? – Так критик журнала „Молодая гвардия“ перечислял все то, чего не хватало моей фрондерской и (конечно!) „весьма абстрактной“ статье. – Полеты в космос? Комсомольская жизнь? Связь учебы с производством? Помощь отстающим? Бригады коммунистического труда?.. Увы!»
Действительно, чего в статье не было, того не было.
Впрочем, сегодня я, кажется, понимаю, почему они так разъярились, когда мы твердили «просто» о человечности, «просто» о нравственности, «просто» о правде. Такая абстрактность – неподнадзорна, неподотчетна привычным для них критериям. Ее не поставишь навытяжку перед красносуконным столом за конкретное невыполнение конкретного плана по «всенародной борьбе за подъем сельского хозяйства» или «связи учебы с производством».
Когда Сергей Лапин угрожал и нечаянно льстил Козакову, сравнивая его с «каким-то Зощенко», вряд ли его раздражили именно фиги в кармане, лукавые фразы-репризы, которыми авторы фильма словно подмигивали чуткому и понимающему зрителю.
Например:
«Нельзя осчастливить против желания. Это я вам говорю как историк».
Сказано ведь – всего лишь! – по поводу избавления Хоботова от опеки бывшей жены, но многозначительное «как историк» давало понять неизбалованной публике, что речь о насильственном осчастливливании совсем иного характера и масштаба.
Вообще-то таким обманом цензуры, иногда удававшимся, занимались и литература, и театр, и кино. Все были при деле. Цензоры вострили глаз, чтоб ничего такого не проскочило мимо них; авторы ликовали, когда удавалось-таки обмануть бдительных надсмотрщиков; зрители и читатели жадно ловили крамолу, замирали в счастливом испуге или разражались аплодисментами. Шла вынужденная и, в сущности, жалкая игра, к которой, однако, все три стороны относились более чем серьезно.
Рассказывали, как однажды первый секретарь Московского горкома партии, еще многими не забытый Виктор Васильевич Гришин, посетил один из столичных театров на предмет воспитательной беседы с творческим коллективом. И изложил некоторые свои взгляды на искусство.
Сперва он высказал мысль, что театру как таковому пора отмереть. То ли дело – клуб, приходя куда наши рабочие и трудовая интеллигенция могут сыграть в шахматы, в домино, посетить кружок и заодно посмотреть спектакль. Мысль эта, возникавшая время от времени в правительственно-партийных кругах, не поразила артистов своей новизной, но зато они вмиг навострили уши, едва Виктор Васильевич произнес:
– Главное в вашем искусстве – жест!
Жест? Любопытно. Неизвестно, чтó пробудило в памяти слушателей это слово – может быть, мейерхольдовскую биомеханику, – но Виктор Васильевич внес ясность:
– Да! Жест! Ведь знаете, как бывает? Иной артист говорит, не отступая от текста, правильные, идеологически выдержанные слова – и вдруг, понимаете, сделает такой жест, что все получается совсем наоборот!..
Так вот. Если говорить (и закончить) о «Покровских воротах», то чиновника Лапина рассердили, а поэта Самойлова ностальгически тронули не подобные жесты. Нет. Легкое дыхание, этот признак и привилегия внутренней свободы, – вот что самое лучшее в фильме, политически, в общем, совершенно невинном.
Борис Слуцкий, услышав, что кто-то написал даже не какую-нибудь полемическую статью, а стихотворение или повесть, обычно спрашивал:
– Против кого?
Это было понятно в атмосфере обостренной литературной, а по сути – идеологической борьбы, когда кочетовский журнал «Октябрь» наваливался на «Новый мир» Твардовского, доносил на него, уличал в антипартийности; но говорило и об ограниченности. Ограниченности возможностей, да и просто представлений об искусстве.
Но легкое дыхание все-таки было.
В самой эпохе пятидесятых – шестидесятых и в ее мыслящих людях, которых скопом именуют «шестидесятники», странным и любопытным образом сочетались сила и слабость. Причем слабость (допустим, хоть та же «абстрактность»), случалось, оборачивалась силой, которая со своим наивным упорством противостояла государственному насилию. А сила – или то, что казалось силой, что сулило победу, – оборачивалась слабостью.
Вот еще один наглядный – опять же в буквальном смысле – пример.
В театре «Современник» была поставлена пьеса Василия Аксенова «Всегда в продаже». Ее герой Женя Кисточкин (по совпадению сыгранный тем же Михаилом Козаковым) – законченный циник, негодяй, карьерист, полный, однако, обольстительного и опасного обаяния. Обаяния именно цинизма, который ведь тоже одна из форм свободы, раскрепощенности – только на сей раз от тех ограничений, которые ставят человеку совесть и мораль.
И Кисточкин был узнаваем стопроцентно – смышленое дитя своего времени, именно «оттепельной» поры (спектакль появился как раз на переломе от хрущевского «волюнтаризма» к брежневскому «застою», в 1965 году). Той поры, когда обаяние было еще неотмененным оружием власти, когда искусство верхов пудрить мозги и желанье низов, чтобы их мыслительный аппарат был запудрен с достаточной добросовестностью, еще не сменились абсолютнейшим безразличием. И тех, кто лжет, не заботясь о правдоподобии лжи, и тех, кому лгут и кто делает вид, будто верит, – да вид-то делает неохотно, отводя свою вольнолюбивую душу в анекдотах про знаменитые брови и в состязаниях, кто смешнее изобразит уникальную дикцию «Лёни»…
Словом, Кисточкин оказался и узнаваем, и типологически точен. Опасность этого типа была тем явственнее обнажена, что нам показали, как он обаятелен, – но…
Но тут-то и проявилась та самая сила, оборачивающаяся той самой слабостью.
Штука в том, что эта желанная, вожделенная – для театра и уж тем паче для публики – узнаваемость утешительна. Даже если мы в лицо узнаём, с презрением и сарказмом, не персону, а – именно тип. Слой. Аппарат. Класс. Их в целом.
Почему так?
Потому, что определенность адреса нашей ненависти невольно внушает иллюзию если еще не скорой, то все же грядущей победы. А как же иначе? Вот он, весь на ладони, и стоит нам только всем, сообща, сжать свои пальцы, обращая ладонь в кулак, как ему, им всем – крышка!
Если бы так!
Я с детства мечтал, что трубач затрубит
И город проснется под цокот копыт,
И все прояснится открытой борьбой:
Враги – пред тобой, а друзья – за тобой.
Так поэт Наум Коржавин, вошедший в литературу именно в шестидесятые годы (уже не мальчиком, после ареста и ссылки, после долгих лет непечатания), осознал, что «открытая борьба» – это иллюзия.
Осознал еще в 1955 году (когда эти стихи были написаны).
В 1965 году, на спектакле «Всегда в продаже», зал взрывался, когда слышал со сцены, как негодяй Кисточкин выражал свои негодяйские симпатии:
«Сталин это дело понимал прекрасно и Мао Цзэдун тоже знает!»
Зал верил в существование «открытой борьбы». Зал хотел верить в правду финала, когда антипод мягчайшего, словно кисточка, Кисточкина – человек с угловатой фамилией Треугольников обезоруживал циника – буквально, вырывая из его рук автомат:
«Исчезни! Изыди! Провались!»
И пусть себе Кисточкин, исчезнув, действительно провалившись (в сценический люк), вновь возникал – в эксцентрическом, дамском обличье, в образе ласковой продавщицы, начиная с нуля и готовясь проделать все тот же путь. Пусть эта эксцентрика не только задавалась стилем комедии, но и подстегивалась общим желанием драматурга, театра и зрителей одержать победу хотя бы за гранью реальности – ибо в самой по себе реальности наша победа над ними, чьим полпредом на сцене был Кисточкин, все почему-то откладывалась.
Пусть! Оптимизм шестидесятников основывался как раз на этой линейной, прямолинейной ясности: «Враги – пред тобой…» На том, что иллюзорно казалось первым – и уже сделанным – шагом к победе.
Простаки, простаки… Множественное число.
И тут я делаю заявление, которое может кого-то и удивить (а для автора той самой статьи в «Юности» 1960 года оно самокритично): множественное число в слове «простаки» значительно более уместно, чем в слове «шестидесятники».
Шестидесятников вообще – не было…
Не было как единого, духовно сплоченного поколения.
Поколения вообще если и складываются, то, скорее, в общей боли, в общей беде – таково, например, военное поколение нашей литературы. А эйфория, на короткое время обуявшая многих, входивших в жизнь – или хотя бы в литературу – в пятидесятые – шестидесятые годы, оказалась плохим крепежным материалом. Да, впрочем, и боль… Где теперь единение выжившей части тех, кто пришел в словесность с Великой Отечественной? Где друзья Юрий Бондарев и Григорий Бакланов, некогда спаянные войной, совместной учебой, практически одновременными писательскими дебютами? Вместо дружбы – вражда, политическая и личная, с той оговоркой, что в литературной области личное тоже публично. Гласно.
Впрочем, если и допустить (а давайте экспериментально допустим), что поколение шестидесятников было, что существовала поколенческая сплотка, то уж она-то тем более – до чего же быстро распалась!
И как печальны следы распада…
Дело даже не в том, что действительность предлагала жесткий выбор, где полюсами были – безоглядная служба партии или уж диссидентство. Этого выбора многим, кто не хотел ни туда, ни туда, удалось избежать: не говоря об уходе из поля зрения власти, в андеграунд, в литературное подполье, был вариант сравнительно благообразного компромисса. По словам одного из писателей, выбравших как раз такую уловку, наша свобода – в том, что мы имеем возможность не лгать. Увы, не имея возможности говорить всю правду.
Но я – не о распадении (на части, на группы, на единицы), а именно о распаде. А распадалось и вырождалось именно то, что казалось счастливейшим приобретением – и времени, и поколения.
Притом вырождение проходило в самой вульгарной из форм – сознательной, прагматической, хищной.
…Ностальгия – вещь не только душещипательная, но и коварная. Каждый знает, что, оборачиваясь назад, видишь прошлое куда более лучезарным, чем оно было на самом деле, – жаль только, что знает не по себе. Себя в таких случаях ставят особняком, считают исключением.
Совсем недавно Андрей Вознесенский ностальгически вспомнил свой поэтически-эстрадный триумф в Англии, в самой середине шестидесятых годов:
«Газеты тогда широко освещали каждый мой шаг. Целая толпа репортеров, людей с фотоаппаратами всюду следовала по пятам. Из-за них я не пошел на вручение оксфордской мантии Анне Андреевне Ахматовой. Там чинная публика, в основном эмигранты, и тут бы я ввалился с этой братией. А у меня в тот день был вечер в Манчестере, и я оттуда прислал ей розу. Вероятно, это было неправильно, я все-таки должен был прийти сам, потому что Анна Андреевна обиделась».
Анна Андреевна не обиделась – и заранее предупредила, что ничуть не обидится.
Л. К. Чуковская записала – 28 мая 1965 года – общий разговор с участием и при главенстве Ахматовой. Говорят о Евтушенко, Ахмадулиной и Вознесенском. О двух первых – и так и сяк, о Вознесенском же – с неприязнью.
«– „Мальчик Андрюшечка“, как называли его у Пастернаков, – сказала Анна Андреевна. – Вчера он мне позвонил. „Я лечу в Лондон… огорчительно, что у нас с вами разные маршруты… Я хотел бы присутствовать на церемонии в Оксфорде“. Вовсе незачем, ответила я. На этой церемонии должен присутствовать один-единственный человек: я. Свиданий ему не назначила: ни у Большого Бена, ни у Анти-Бена…»
Смысл этого «Анти» – в ироническом намеке на книгу Вознесенского «Антимиры».
И дальше:
«Разговор впал в обычную колею: вот мы сидим, недоумеваем, бранимся, а Вознесенский, Евтушенко и Ахмадулина имеют бешеный успех.
– Надо признать, – сказала Анна Андреевна, – что все трое – виртуозные эстрадники. Мы судим их меркой поэзии. Между тем эстрадничество тоже искусство, но другое, к поэзии прямого отношения не имеющее. Они держат аудиторию вот так – ни на секунду не отпуская. (Она туго сжала руку и поставила кулак на стол.) А поэзия – поэзией. Другой жанр. Меня принудили прочесть „Озу“ Вознесенского, какое это кощунство, какие выкрутасы…»