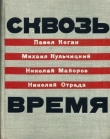Текст книги "Самоубийцы. Повесть о том, как мы жили и что читали"
Автор книги: Станислав Рассадин
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
А ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.
Инвалид – брык на пол и лежит. Скучает… И из башки кровь каплет».
Кто скажет, что по накалу страсти, по неотвратимости, по исходу кухонное сражение для Гаврилыча – не Ватерлоо?
Если шучу, то не чрезмерно. А героям Зощенко и совсем не до шуток.
Говорят, где-то за рубежом, чуть ли не в Латинской Америке, перевели зощенковские рассказы. И, не сумев, что понятно, передать своеобразие языка и не зная примет нашего быта, тех самых «реалий», были поражены:
– И это в России считают юмором? Но тут же сплошные трагедии, драмы! Совсем как у их Достоевского!
Конечно.
Вот та же повесть «Коза». Смешной Забежкин решает жениться, прельстившись, однако, не самой по себе «гранд-дамой», чудовищной бабой-домовладелицей Домной Павловной, а ее козой. И преуспел было, но оказалось, что коза принадлежит жильцу-квартиранту, а Забежкин, не сумевший скрыть разочарования, был изгнан. В результате чего впал в нищету, опустился, утратил вкус к жизни…
Законченный стяжатель, не так ли? Но вот тонкость: коза – сущий пустяк сравнительно с домом Домны и всем имуществом. Значит, одержим был Забежкин не жадностью (жадность расчетлива, она такой промашки не сделает), но истинной страстью, достойной названия страсти: устоять, утвердиться в мире. Он – не хитрец. Он – фанатик. Он – протопоп Аввакум единственно известной ему формы устойчивости: собственности. И страсть фанатична настолько, что превращает козу (!) из животины, стоящей столько-то, да просто всего ничего, в символ того, чего недостает этому бедняге. Домашнего тепла. Крова, защиты…
Смеясь и смеша, по собственной воле или помимо ее, Зощенко пожалел своего Забежкина – не меньше, чем Гоголь пожалел Башмачкина, а Достоевский – Девушкина, героев с такими же нелепо-забавными фамилиями.
Нельзя сказать, чтобы Зощенко был одинок в этом смысле и в современной ему литературе (Эрдман!), но общий пафос, звучавший все более авторитетно, был против него:
«Уже десятки раз воскрес в новых книгах старый знакомый Макар Девушкин и множество прочих „униженных и оскорбленных“, но страдающих не столько по Достоевскому, сколько потому, что „патоки – мало, яиц – мало, масла – мало“.
Повод, конечно, ничтожный и стыдный, выдающий всю мелкость души обывателя»…
Это – из статьи Горького. Кстати, относясь к Достоевскому с застарелой ненавистью, Михаила Зощенко Горький сердечно любил. Значит, художник, влюбленный в искусство, на этот раз побеждал в нем тенденциозного идеолога – хотя недаром он уговаривал Михаила Михайловича написать книгу, в которой тому надлежало «осмеять страдание, которое для множества людей было и остается любимой их профессией».
Нет сомнения, что во главе этого множества для Горького стоял Достоевский. И сам Алексей Максимович вспомнился здесь – именно здесь – не случайно. При нежнейшем горьковском отношении к младшему собрату, при благодарной ответной любви как раз между ними с особенной четкостью пролегла непримиримо разделительная черта.
В сущности, та самая, что и разделяет подлинно советскую литературу (куда все неуклонней врастал Горький) и русскую литературу советского периода (где место творчеству Зощенко). При его безусловной лояльности, которая подтверждалась то выступлением против «врагов народа», то участием в позорной пропагандистской поездке группы писателей по Беломорканалу, фасадному представительству архипелага ГУЛАГ.
Впрочем, что касается Горького, то его «врастание» было обусловлено не только усталостью, старостью, суетностью, тщеславием (а потом и страхом перед Сталиным). Не только тем, что слабел талант и утрачивалось мировое признание. Это причины невыдуманные, серьезные, но объясняющие не все.
Еще молодой Корней Чуковский писал в своей задорной фельетонной манере о еще не старом Горьком:
«Как хотите, а я не верю в его биографию.
– Сын мастерового? Босяк? Исходил Россию пешком? Не верю.
По-моему, Горький – сын консисторского чиновника; он окончил харьковский университет и теперь состоит – ну хотя бы кандидатом на судебные должности.
И до сих пор живет при родителях и в восемь часов пьет чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в семь обедает. От спиртных напитков воздерживается: вредно.
По воскресным дням посещает кинематограф».
Положим, и Иван Алексеевич Бунин тоже – «не верит»: «Молва твердит: „Босяк, поднявшийся со дна моря народного…“ А в словаре Брокгауза другое: „Горький-Пешков, Алексей Максимович. Родился в среде вполне буржуазной: отец – управляющий большой пароходной конторы, мать – дочь богатого купца-красильщика…“ Дальнейшее основано только на автобиографии Горького…»
Но Чуковский-то обосновывает свое насмешливое «не верю» не сомнением в фактической правдоподобности:
«…Такая аккуратная жизнь, натурально, отражается на его творениях.
Написав однажды „Песню о Соколе“, он ровненько и симметрично разделил все мироздание на Ужей и Соколов, да так всю жизнь, с монотонной аккуратностью во всех своих драмах, рассказах, повестях – и действовал в этом направлении.
Распря Ужа и Сокола повторяется в Бессеменове и Ниле („Мещане“), в Гавриле и Челкаше, в Максиме и Шакро („Мой спутник“), в Павлине и Черкуне („Варвары“), в Матрене и Орлове, в Полканове и Вареньке Олесовой, в Якове и Мальве, в Петунникове и Кувалде („Бывшие люди“), в Каине и Артеме.
Все эти имена – которые слева, те Ужи, а которые справа – Соколы. Будто жизнь – это большая приходно-расходная книга, где слева дебет, а справа кредит».
Зло. Остроумно. И при всей фельетонности – точно.
Да что там! Тот же Бунин, руководимый своей неприязнью к Горькому (возникшей, заметим, не сразу или уж очень надежно скрывавшейся), взявшись пересказать «Песню о Соколе» и от желчности или забывчивости кое-что переврав, – и он все же уловит одну изначальную горьковскую особенность.
Может быть, роковую, если иметь в виду позднюю эволюцию.
«Песня, – начнет свое изложение Иван Алексеевич, – о том, как „высоко в горы вполз уж и лег там“, а затем, ничуть не будучи от природы смертоносным гадом, все-таки ухитрился насмерть ужалить за что-то сокола, тоже почему-то очутившегося в горах…»
Никого там уж, конечно, не жалит, но вот что вполне очевидно: эта басенная аллегория, не считающаяся с законами природы (ибо равнинному ужу в горах действительно нечего делать), нечаянно и закономерно выразила пренебрежение Горького к сущей реальности.
Да, да, его, который, вопреки насмешкам Чуковского, исходил-таки Россию пешком.
То есть с аллегории какой спрос? Лебедя, Рака и Щуку тоже вряд ли кто видел в одной упряжке, – но важно, ради чего Горький жертвовал в пресловутой «Песне» не менее пресловутой «правдой жизни». Ради тенденции, непримиримо делящей сложный и пестрый мир на вдохновленных «безумством храбрых» и тех, кто к безумству склонности не имеет (не до того им, им лишь бы выжить и жить). На героических Соколов и на Ужей, виноватых лишь в том, что они – не Соколы.
Не то чтобы Горький непременно должен был прийти к социалистическому реализму и даже считаться его основоположником (чего ему никак не мог простить Федор Гладков, оспаривавший со своим «Цементом» это почетное звание). Но сам принцип странного реализма, задумавшего показать жизнь в ее революционном развитии, такой, какой она должна быть, – этот принцип не был чужд и молодому, раннему Горькому, автору ряда замечательных произведений.
Горький сопротивлялся реальности. Не желал смириться, что она такова, какая уж есть, – начиная с самого народа. Особенно – с мужика, крестьянина, самого массового человека России с его «зоологическим индивидуализмом».
«Я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы – в особенности… Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь (всю! – Ст. Р.) угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нем социальных эмоций».
Это – из горьковского очерка «В. И. Ленин», неотложно писавшегося вслед за смертью Владимира Ильича; но и редактируя очерк в 1930 году, многое в нем переиначив, этих слов Горький не вычеркнул. Не вычеркнул в страшную пору «великого перелома», когда «зоологический индивидуалист» загонялся в колхозную клетку.
Или уничтожался.
И вот еще что. Двумя годами позже, в 1932-м, Горький не менее жестко отзовется уже о другом общественном слое:
«Работа интеллигенции всегда сводилась – главным образом – к делу украшения бытия буржуазии, к делу утешения богатых в пошлых горестях их жизни. Нянька капиталистов – интеллигенция, – в большинстве своем занималась тем, что усердно штопала белыми нитками давно изношенное грязноватое, обильно испачканное кровью трудового народа философское и церковное облачение буржуазии».
А еще годом позже в ней же, в российской интеллигенции, он маниакально обнаружит – опять! – «зоологический, мещанский индивидуализм». Пуще того, одобрит расправу над интеллигентами. Оправдает спровоцированный большевиками судебный процесс – угрожающее начало тех, более знаменитых и страшных:
«Мы знаем, как быстро она (естественно, интеллигенция. – Ст. Р.) покрылась мещанской ржавчиной. Процесс „Промпартии“ показал нам, как глубоко эта ржавчина разъела инженеров… То же случилось с литераторами…»
Это говорит человек, который в том же очерке «В. И. Ленин» воспел интеллигенцию. Назвал главной, чуть не единственной движущей силой отечественной истории, ее «ломовой лошадью». И сделал это в прямой полемике с последователями Ленина, сказавшего, как широко известно, что эта сила – не мозг нации, а говно.
«Работа интеллигенции всегда сводилась…» Да как же всегда, если несколькими годами раньше утверждалось обратное? Но дело не в забывчивости.
У этой капризной изменчивости есть свое постоянство. Та самая нелюбовь к «зоологическому индивидуализму крестьянства».
В молодые годы Горький увидел очередного «ужа», крестьянина Гаврилу, презрительным взором люмпена, уголовника Челкаша, разделив с ним презрение к Гаврилиной жадности, – да, конечно, непривлекательной, как всякая жадность, но все-таки порожденной жаждой вложить деньги в хозяйство. В творчество, понимаемое по-крестьянски.
Именно в Челкаше, как и в карточном шулере Сатине, в воре Ваське Пепле, в этих «соколах», померещилась Горькому сила свободного человека – свободного прежде всего от уз собственности. Сила, для него обаятельная настолько, что и сопутствующий ей аморализм не казался существенным и опасным.
Горький был не с властью – что так естественно для российского литератора и так убедительно обосновывалось бездарностью этой власти. Не с народом, раздражающе темным, косным, «зоологическим». Тогда – с кем?
Так возникла трагическая безродность молодого Горького. Безродность общественная, духовная, о чем надобно говорить без осуждения, а с пониманием, потому что она-то и породила лучшие горьковские произведения, хотя бы ту же пьесу «На дне». И вот, как все, нуждаясь в опоре, Горький выбирает свободу и силу, во-первых, интеллигентов, к которым тянулся и на которых готов был молиться (писателей прежде всего). Но во-вторых, людей дна.
А может быть, их-то – в первую голову, потому что именно им отдает свой творческий интерес. То главное, что имеет.
Упрощением было бы утверждать, что автор прекрасной пьесы «На дне» неотвратимо шел к пьесе «Сомов и другие», где справедливость торжествует в облике агентов госбезопасности, а развязка сюжета выражена в словах, которые будут все чаще и чаще произноситься в СССР. «Вы арестованы», – скажет чекист кучке интеллигентов.
И все же заметим: в первой пьесе романтически приукрашались люди, не задетые «мещанской ржавчиной», в последней уничтожались морально (пока – морально) те, кого «глубоко эта ржавчина разъела».
Эволюция Горького не могла обойтись без воздействия той самой нелюбви его к наиболее массовому человеку страны. К человеку, свою всецелую принадлежность к которому ощущала русская литература. Даже сердясь на него, будучи крепко им недовольна, презирая его – все-таки ощущала. Как Толстой. Как Некрасов. Как Чехов.
И – как Зощенко?
Да. Независимо от того, что он сам сказал бы на этот счет.
Что касается Горького, самое печальное, что можно сказать о нем, это: у него с большевиками произошло полное совпадение антипатий. К интеллигенции, которую он некогда обожал, и к крестьянству, которого никогда не любил. (Большевики оказались последовательнее. Уж они-то с самого начала ощущали врагов в тех и в других, отчего и сломали «великим переломом», отняв у них столь различную, но равно необходимую свободу творчества.)
А вот симпатии у Алексея Максимовича поменялись. На место Сатиных-Челкашей, «соколов» старого полета, пришли «сталинские соколы», в ком он почувствовал обаяние силы, могущества, мощи. Даже если сознание этой обязательности сопровождалось холодком страха, пробегавшим по старческой коже. Даже если Алексей Максимович именовал Иосифа Виссарионовича «могучим человеком», «мощным вождем», а в придачу и «великим теоретиком» не совсем искренне.
Что же касается Зощенко, то он наверняка с полной искренностью писал Сталину, что никогда не был антисоветским человеком. И мог столь же искренне верить, что исполняет черную работу сатирика, искореняющего «родимые пятна капитализма».
Среди его персонажей, как сказано, немало крохотных кухонных Шейлоков, Гарпагонов, Гобсеков, готовых глотку перекусить тому, кто на полминуты возьмет их собственный ежик для чистки примуса, – можно ли сомневаться, кáк они ему отвратительны?
Или:
«Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала:
– Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?
На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:
– Жрать хочет, оттого и поет».
А это – зощенковский Вертер. Ленский. Ромео (тот ведь, помнится, у Шекспира тоже спорил с Джульеттой о соловье и жаворонке).
Тем более поразительна проницательность «короля смеха», чье сочувствие «среднему человеку» – быть может, не запланированное, а порою подчеркнуто отсутствующее – открыло нечто поистине замечательное. То, что вышеупомянутый автоматизм, с неудовольствием отмеченный Горьким в обывателе, не только смешон и досаден, а то даже совсем не досаден, пусть и смешон.
Он – средство самозащиты.
Вот один из рассказов. Человек потерял в трамвае галошу. Явился в «камеру потерянных вещей». Описал «специальные признаки»:
«Носок вроде бы начисто оторван, еле держится. И каблука, – говорю, – почти что нету. Сносился каблук. А бока, – говорю, – еще ничего пока что, удержались. Галоша, говорю, конечно, не новенькая, но дорога, как память о потраченных деньгах».
Прежде чем получить галошу обратно, измучился добыванием справок, подтверждающих факт потери, – однако доволен:
«Одно досадно, за эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее под мышкой в пакете – и не помню, в каком месте ее оставил.
…Но зато другая галоша у меня. Я ее на комод поставил. Другой раз станет скучно, – взглянешь на галошу, и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает».
Издевательская концовка?
Нет… То есть – да, автор опять смешит и смеется, но деликатное «нечто» не дает рассказу стать нормальной крокодильской сатирой на тему о бюрократизме среди управдомов, банщиков, продавцов и работников камеры потерянных вещей. Покорность героя – это шаг навстречу государству, власти, установившемуся порядку. Шаг, среди прочих подобных и помогающий ему выжить и сохраниться, а между делом, что же, действительно и обнажить абсурд ситуации и даже всего порядка вещей.
Обнажить неожиданно для самого героя. Незагаданно. Но бывает и по-другому.
В мировой литературе (да, раздвинем на миг границы отечественных забот) обычно сталкивались как психологические противоположности воплощения, так сказать, Духа и Брюха. Полета и приземленности. Сталкивались, даже если им приходилось дружить, как Дон Кихоту и Санчо Пансе, как Уленшпигелю и Ламме Гудзаку. Но двадцатый наш век ухитрился внести поправку.
Явился бравый солдат Швейк, грандиозное создание еще одного «короля смеха». Чешский мещанин, «средний человек» вдруг не оказался вторым номером при Рыцаре Печального Образа, а сам занял его место. Он – и. о. Дон Кихота.
И как того считали безумцем, так и Швейка признали – официально – идиотом. За что? За то, что автоматически исполняет приказы начальства. Нерассуждающим автоматизмом и доводя их до абсурда. До пародии.
Толстой и Ганди учили непротивлению. Швейк превратил непротивление в коварное, провокационное пособничество.
А может, и «средние люди» Зощенко – Швейки?
Нет.
Швейк эстетически и физически бессмертен. В мире, созданном Гашеком, невозможно представить его расстрелянным по приговору австро-венгерского трибунала или убитым русской пулей. Смешным, но и жалким героям Зощенко не подарена неуязвимость. Им не до швейковских провокаций. Не до жиру – быть бы живу. И иного в их смертной юдоли ждать не приходится.
Повесть «О чем пел соловей» заканчивается тем, что Вася Былинкин все же сумел перестроиться, отвечая в дальнейшем все на тот же вопрос своей барышни «более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни».
Сам автор повести как будто не прочь развеять Васин туман, на правах любителя-футуролога уточнить сроки прихода счастливого будущего – но его прогноз не намного радикальней, чем у чеховского полковника Вершинина. Тот мечтал, что «через двести – триста, наконец тысячу лет, – дело не в сроке, – настанет новая счастливая жизнь». Вот и здесь:
«Автор тоже именно так и думает: о будущей отличной жизни лет, скажем, через триста, а может, даже и меньше. Да, читатель, скорее бы уж наступили эти отличные времена»…
В стране, по плану строящей социализм, это звучало бы с сознательной швейковской пародийностью, если бы меланхолии не надоело прятаться за пародией:
«Ну, а если и там будет плохо, тогда автор с пустым и холодным сердцем согласится считать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.
Тогда можно и под трамвай».
Под трамвай – через триста лет? Снова ерничество?
Но «автор повести» – не совсем то же самое, что М. М. Зощенко, украинец, беспартийный, такого-то года рождения, паспорт номер такой-то. Как писатель Максудов, повествователь в «Записках покойника», сочинивший роман «Черный снег» и сделавший из него пьесу для Независимого театра, – не то же самое, что писатель Булгаков, автор романа «Белая гвардия», чью пьесу «Дни Турбиных» по мотивам романа поставил Художественный театр. И «под трамвай» – знак разочарования и отчаяния не в личной жизни Михаила Михайловича, а в той, которая протекает в куда более обширном пространстве и живет по другой хронологии. Отчего и тот же Булгаков счел возможным и даже неизбежным велеть своему двойнику Максудову броситься в Днепр с Цепного моста.
Хотя он, как Зощенко, и умер – сам, смертью мучительной, но своей. «До чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели», – как пишет, уже о Борисе Пастернаке, Александр Галич.
Себе самому он напророчит (шутя?): «Когда собьет меня машина…» – и почти угадает.
Акт третий: выпавший из гнезда
«Вчера сообщили: в результате несчастного случая скончался Александр Галич.
…Что там ни говори, но Саша спел свою песню. Ему сказочно повезло. Он был пижон, внешний человек, с блеском и обаянием, актер до мозга костей, эстрадник, а сыграть ему пришлось почти что короля Лира – предательство близких, гонения, изгнание… Он оказался на высоте и в этой роли. И получил славу, успех, деньги, репутацию печальника за страждущий народ, смелого борца, да и весь мир в придачу. Народа он не знал и не любил, борцом не был по всей своей слабой, изнеженной в пороках натуре, его вынесло наверх неутоленное тщеславие. Если б ему повезло с театром, если б его пьески шли, он плевал бы с высокой горы на всякие свободолюбивые затеи. Он прожил бы пошлую жизнь какого-нибудь Ласкина. Но ему сделали высокую судьбу. Все-таки это невероятно. Он запел от тщеславной обиды, а выпелся в мировые менестрели. А ведь песни его примечательны лишь интонацией и остроумием, музыкально они – ноль, исполнение однообразное и крайне бедное. А вот поди ж ты!.. И все же смелость была и упорство было – характер! – а ведь человек больной, надорванный пьянством, наркотиками, страшной Анькой. Он молодец, вышел на большую сцену и сыграл, не оробел».
Этот монолог зависти – из «Дневника» Юрия Нагибина. Запись сделана 27 декабря 1977 года.
Удивляюсь, как это начитанный Юрий Маркович не заметил коварного сходства своего монолога с другим, из «Мастера и Маргариты». Имею, конечно, в виду эпизод, где неудачливый и бездарный Сашка Рюхин, удрученный и неудачливостью и бездарностью, выплескивает свою горячечную обиду безвинному «металлическому человеку», стоящему на Страстной площади, – то есть пушкинскому монументу.
Почему-то считается, что рюхинский прототип – Маяковский; потому, вероятно, что у того есть стихотворение «Юбилейное» – тоже разговор с памятником Пушкину. Вряд ли. Скорей уж это тезка Рюхина Жаров, известный как автор песни «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы, пионеры, – дети рабочих». Недаром Иван Бездомный так аттестует «балбеса и бездарность Сашку»: «Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу! Хе-хе-хе… „Взвейтесь!“ да „развейтесь…“, а вы загляните к нему внутрь – что он там думает… вы ахнете!»
Нет. Маяковский с Булгаковым не любили друг друга, хоть и встречались за бильярдным столом, но как шарж на «Владим Владимыча» это никуда не годится. Балбес… Бездарность… Лицемер с постной физиономией… Если уж непременно искать прототип, то – Жаров. То есть, с булгаковской точки зрения, ниже упасть уже некуда. Оттого сама зависть Рюхина столь оголтело безумна:
«Вот пример настоящей удачливости… какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю… Что-нибудь особенное есть в этих словах: „Буря мглою…“? Не понимаю!.. Повезло, повезло!.. стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие…»
В точности как и еще с одним «Сашей», бабником и жуиром, слабовольным и тщеславным: «Ему сказочно повезло… Все шло ему на пользу…»
Разумеется, не равняю Александра Сергеевича с Александром Аркадьевичем. Сопоставима только ревнивая логика литературных счетов: почему он, а не я?
Однако какая-никакая, а логика. Тем более что судьба Галича, который и для меня, как для Нагибина, был Сашей и другом (вот только по времени мы не совпали с Юрием Марковичем: он дружил с ним в его «допесенный» период, я же возник в его жизни, когда знаменитые песни уже рождались, а репутация переставала устраивать власти), – эта судьба в самом деле способна по меньшей мере озадачить.
Издатели, публикующие ныне более или менее полного Галича, верят – или уверяют других, – что перелома и разрыва в его творческой жизни не было. Что он всегда был, в общем, один и тот же, пьесы столь же талантливы и смелы, как его песенная поэзия, – чье рождение хотя было, конечно, и не случайно, но тоже подстегнуто литераторской ревностью:
– Булат может, а я не могу?
И на свет явилась героиня городской современной сказки милиционерша Леночка, «шахиня Л. Потапова», – сразу удача, сразу шедевр. Сочинялось шутя, в ночной «Красной стреле» между Москвой и Ленинградом.
Но перелом был. Был и разрыв – в том числе со всей прежней жизнью.
Еще в 1964 году «Краткая литературная энциклопедия» могла сообщить только следующее:
«Галич Александр Аркадьевич (р. 19. X. 1918, Екатеринослав) – рус. сов. драматург. Автор пьес „Улица мальчиков“ (1946), „Вас вызывает Таймыр“ (в соавт. с К. Исаевым, 1948), „Пути, которые мы выбираем“ (1954; др. назв. „Под счастливой звездой“), „Походный марш“ („За час до рассвета“, 1957), „Пароход зовут „Орленок““ (1958) и др. Г. написал также сценарии кинофильмов „Верные друзья“ (совм. с К. Исаевым, режиссер М. Калатозов), „На семи ветрах“ (реж. С. Ростоцкий) и др. Комедиям Г. свойственны романтич. приподнятость, лиризм, юмор».
И в заключение – то, что сегодня выглядит именно юмором, только черным:
«Г. – автор популярных песен о молодежи».
Имеется в виду прежде всего весьма популярная некогда песня: «Протрубили трубачи тревоги… До свиданья, мама, не горюй, не грусти…» То, что сам Галич позже оценит с иронией и печалью:
Романтика, романтика
Небесных колеров!
Нехитрая грамматика
Небитых школяров.
И вот по одну сторону – благополучный в общем-то драматург; во всяком случае, так выглядело на поверхности, куда не доносились скрипы и стоны запрещенных спектаклей, изувеченных пьес, задушенных замыслов… Но это – где-то там, в неразличимой для публики глубине, а на виду: киношник, водевилист, чья пьеса «Вас вызывает Таймыр» в эпоху так называемой бесконфликтности была знаменитейшим из зрелищ, изрядно обогатившим соавторов. К тому же – светский щеголь и «шмоточник», баловень, бонвиван, острослов, без которого не обходились элитные сходки театральной, литературной, кинематографической Москвы.
А что по другую сторону?
Сочинитель мгновенно и опасно прославившихся песен, уже не тех, что отличались «романтич. приподнятостью». Отовсюду выпертый, поднадзорный диссидент, друг и сподвижник Андрея Сахарова. Наконец, эмигрант…
Верней, наконец – дурацкая гибель от электрошока, разумеется, породившая и дурацкие слухи: «там» уверяли, что это дело длинных рук КГБ, здесь все валили на ЦРУ, которому оказался уже не нужен этот жалкий предатель родины и клеветник на нее.
За смертью Галича последовала столь же нелепая гибель «Аньки», Нюши, как называл ее он, а за ним и мы все: бывшей эксцентричной красавицы Ангелины Николаевны, «Фанеры Милосской» (она охотно повторяла прозвище, данное ей за худобу). Она, обезножевшая к концу жизни, то ли сгорела, то ли задохнулась во время пожара своей парижской квартиры. Хотя и это не все. Погибнет и Галя, Нюшина дочь и Сашина падчерица, оставшаяся в СССР и, естественно, за порочащее родство выгнанная со службы в Музее изящных искусств…
Конечно, Галич имел право с достоинством ответить на ехидный вопрос, который ему задали еще до отъезда на Запад, на каком-то здешнем полулегальном сборище: не стыдится ль он, дескать, того, что писал до! Нет, сказал Александр Аркадьевич, не стыжусь. Работа есть работа, другой я не знаю, но ни в единой строке, которую я когда-либо написал, я не погрешил против Бога.
Правда, тот же вопрос, как видно, сидел в нем самом, и однажды в писательском Доме творчества, где показали фильм по его сценарию, Галич обеспокоенно спросил у друзей:
– Ребята, скажите честно: там нет подлости?
Обеспокоенность как будто имела резон. Фильм назывался «Государственный преступник», и в нем работники КГБ ловили… Нет, все же не внутреннего врага, а фашистского прихвостня, карателя из СС. Так что, слава Богу, мы имели возможность честно ответить:
– Успокойся, подлости нет. Фильм просто дерьмовый.
Прежний, «старый» Галич, драматург и сценарист, был нормальным советским писателем. Даже легендарная «Матросская тишина», пьеса, с которой собирался начать свой путь ефремовский «Современник», – даже она, запрещенная главным образом из-за «еврейской темы», есть, в сущности, образцово советское произведение. Образцово! Не софроновско-суровская стряпня, компрометирующая бездарностью самих своих заказчиков, а то, что представляет наш строй способным самокритически разобраться и с гулаговским прошлым, и с неизжитым антисемитизмом.
И когда Галич дал мне прочесть «Матросскую тишину» – уже годы спустя после несостоявшейся премьеры, – я, признаюсь, отозвался о ней довольно бесцеремонно:
– Это о том, что евреи любят советскую власть не меньше, чем все остальные.
Галич удивился, но не обиделся. Да и не на что было тут обижаться: сама моя прямолинейность могла даже польстить его авторскому честолюбию. Уже были великие песни. С уровня, на который поднялся их автор, на прежнее можно было смотреть снисходительно.
Поразительна перекличка судеб. Судьба Александра Галича, как кинолента, раскручиваемая в обратную сторону, оказалась противоположна судьбе обожаемого им Николая Эрдмана. Автор «Самоубийцы», заглушив в себе необыкновенный дар, перешел исключительно на поденную работу. Галич, занимавшийся поденщиной (или тем, что объективно приравнивается к ней), будто очнулся, ощутив в себе дарование, которое никак не соответствовало утвержденным нормам советской литературы. И, что уж совсем удивительно, даже если сквозь это случайное совпадение просвечивает жестокая закономерность, Галич и «попался» точно как Эрдман!
Вспомним: Николая Робертовича подкузьмил хмельной Качалов, вздумавший прочитать при Сталине неподцензурные басни, Александра Аркадьевича – молодой коллега Качалова, зять члена Политбюро, запустивший при тесте на собственной свадьбе записи песен Галича.
В общем:
Началось все дело с песенки,
А потом – пошла писать!
Хотя, конечно, началось все-таки раньше. Случайных пробуждений такого таланта не бывает. Судьба была, видимо, предопределена, и первый сигнал прозвучал как раз в связи с «Матросской тишиной».
В прозаической книге «Генеральная репетиция» Галич изложит эту историю, обнажив виртуозно задуманный и безотказно сработавший механизм запрета. Виртуозность была в том, что пьесу закрыли чисто, для внешней благопристойности использовав авторитет большого мастера сцены – а тот, может быть, убедил себя самого, что озабочен лишь высотой критериев своего искусства. Просто уж так получилось, что претензии его неподкупного вкуса случайно (ведь может такое быть?) совпали с начальственными претензиями совсем иного рода.
Если в словах моих есть ирония, то она только боком касается упомянутого мастера сцены, в данном случае – Георгия Александровича Товстоногова. Ситуация – многозначна, она коварна и по отношению к самому эксперту, а как прикажете быть, если в самом деле не нравится? Врать?
Как бы то ни было:
«Товстоногов, по-прежнему сидевший в стороне, неожиданно обернулся и через несколько пустых рядов, разделявших нас, сказал мне негромко, но внятно, так что слова эти были хорошо слышны всем:
– Нет, не потянут ребята!.. Им эта пьеса пока еще не по зубам! Понимаете?