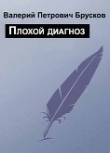Текст книги "Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному"
Автор книги: Сергей Сеничев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Предвосхитивший появление кибернетики и даже придумавший для нее название действительный член Академии наук по горячо нелюбимому им математическому отделению Андре Мари АМПЕР достатка не знал никогда. Он был вынужден читать лекции не по чему хотел и мотаться с бесконечными инспекциями по университетам Франции. Во время одной из них и умер – в Марселе, от воспаления легких. Там же и был похоронен. О том, как непроста была жизнь этого действительно великого ученого, говорит хотя бы надпись, которую бедняга попросил высечь на его надгробном камне – «Наконец счастлив»…
Получившая две Нобелевки Мария КЮРИ, жила с мужем в скудно обставленной квартирке. Конечно, прежде прочего потому как мадам Склодовская-Кюри терпеть не могла заниматься хозяйством (и слава богу, иначе кто бы еще нам радиоактивность открыл? и это, кажется, единственный случай, когда не приемлющий эмансипе-настроений автор приветствует нежелание женщины суетиться вокруг очага). Мадам Склодовская-Кюри не баловала мужа и стряпней: «лучшее, на что мог рассчитывать ученый – стакан горячего чая». Но сейчас не об этом – мы лишь констатируем: эти обеспеченные люди жили до нелепого бедно…
Больше того: попутно сделанное ими открытие целительных свойств радия моментально взвинтило цены на радиевые источники. Однако супруги наотрез отказались патентовать и использовать результаты своих исследований в коммерческих целях – по их мнению, это «не соответствовало духу науки, идее свободного доступа к знанию». Мария словно забыла, как когда-то они с сестрой пахали на возможность получить образование: сначала она пять лет давала частные уроки, чтобы Бронислава выучилась на врача, потом та пригласила Марию к себе в Париж и добывала средства на ее обучение…
Роберт ГУК – человек, чье имя должны бы носить ряд законов Ньютона и закон Бойля-Мариотта (Гук первым доказал его, а возможно, и сформулировал первым)…
Этот ученый, диапазон научных интересов которого сопоставим разве с универсальностью великого Леонардо, этот человек, написавший практический устав Королевского общества и служивший его мотором и душой, жил, по меньшей мере, весьма небогато. Сперва ему приходилось зарабатывать на учебу (для начала – певчим в церковном хоре). Потом он состоял натуральным негром при Фрэнсисе Бэконе и том же Бойле. Потом был платным сотрудником Королевского общества, которое проводило «одного из талантливейших людей старой Англии» в последний путь, задолжав ему колоссальную часть зарплаты…
Открытие Исааком НЬЮТОНОМ (пускай уж так и остается) фундаментальных законов мироздания не только не поправило его материального положения – оно вообще никак не повлияло на жизнь ученого: до пятидесяти трех лет Ньютон перебивался на скромное жалованье завкафедрой Кембриджа. Часть этих денег уходила на непрекращающиеся химические опыты, часть – на помощь родственникам. Доходы с издания знаменитых «Начал» получал не автор, а Королевское общество. Так что говорить о «стесненных обстоятельствах» можно безо всякого преувеличения. Он разбогател лишь после вступления в должность смотрителя Монетного двора – ему, как специалисту по металлам, было поручено наладить перечеканку всей английской монеты. То есть, гений зажил на широкую ногу, лишь сделавшись чиновником. И лишь через четыре года получил пожизненное высокооплачиваемое звание директора возглавляемого им заведения. Еще через два стал членом парламента. Еще через два – президентом Королевского общества, а еще двумя годами позже – сэром: Анна пожаловала-таки его в рыцарское достоинство. Богатый, прославленный, сильно располневший и впавший в свое последнее – старческое уже слабоумие Ньютон тихо умер в постели. Гроб с его телом несли на плечах в известное аббатство шесть пэров Англии.
Напомним, что студентом Тринити-колледжа он стал только в 22 года – до этого ходил в субсайзерах. Если кто-то не в курсе, субсайзерами называли бедняков, которым разрешалось посещать лекции за выполнение обязанностей слуг при своих обеспеченных однокашниках. Проще говоря, башмаки молодой Исаак богатеньким студентам чистил и т. п.
Ту же лакейскую школу, только в другом колледже – Дублинском (Святой и нераздельной Троицы) – прошел и родившийся через полтора года после его смерти Оливер ГОЛДСМИТ. В перерывах между занятиями парень тоже чистил обувь родовитым однокурсникам, таскал за ними учебники да мёл двор. Три года носил платье средневекового служки, питаясь объедками с преподавательского стола…
Этого непутевого, но необыкновенно обаятельного персонажа следовало бы поместить в предыдущую главу: карты были его пожизненной страстью. Но по нам – ему и в этой самое место.
Колледж Оливер закончил со степенью бакалавра искусств и получил право держать экзамен по любой из четырех «ученых профессий» – богословию, юриспруденции, медицине и музыке. Богословие он отверг сразу же, вызвался идти в правоведы, и родственники собрали ему денег на поездку в Лондон. Но, добравшись до Дублина, простак Оливер просадил подъемные в первом же кабаке и вернулся. Нет, сказал он, пойду на медицинский. Ему опять наскребли, и он убыл в Эдинбург – там готовили лучших медиков эпохи. Но пару лет спустя учиться Голдсмиту надоело в принципе, а жениться он пока не хотел (да так потом и не собрался). И тогда разнообразия ради наш герой решил смотаться на материк: с Вольтером и Дидро познакомиться, ну и вообще…
Сказано – сделано: сел на корабль, скорешился с какими-то милыми шотландцами, которые оказались чистокровными французами и по переплытию Ла-Манша сдали попутчика кому следует. И незадачливый вояжер две недели просидел на тюремной баланде, пока выясняли шпион он или просто шпана… Опуская целый ряд не менее забавных эпизодов, переходим к истории его путешествий по Европе. Вернее, скитаний. Потому что язык не поворачивается назвать путешествиями пешее блуждание из города в город с котомкой и расчетливо снятыми башмаками за плечьми.
Бакалавр искусств и будущая гордость английской словесности кормился тем, что в попадающихся на пути деревнях играл на флейте, а в городах – точно так же за харч и ночлег – участвовал в научных диспутах. Понабравшись таким образом впечатлений, четыре года спустя прибился к труппе бродячих актеров, с которыми и вернулся в Англию – гол как сокол: ни денег, ни друзей, ни профессии.
Решив взяться за ум, держал экзамен на должность судового врача – провалился с треском, и уже обещанное ему место лекаря в одной из факторий Ост-Индийской компании сделало Оливеру ручкой. Подвизался в аптеку – и оттуда прогнали. Даже учительствовать – казалось бы, чего уж проще-то? – не смог. С отчаяния пошел наниматься в типографию – корректором. И прокатило. Более того, хозяин открыл в нем писательский талант, и Голдсмит подрабатывал стишками для рекламных объявлений, так что Маяковский с окнами РОСТА на данной ниве не первопроходец. И тут Оливер твердо решил изменить свою жизнь. Он поселился у родственников, стал пописывать в газетки и… пытаться экономить.
Экономящий Голдсмит зрелище трагикомическое. Стену его комнатенки украшал самодельный плакат с чем-то вроде программы дальнейшей жизни: «Гляди в оба! Не упускай случая! Теперь деньги – это деньги! Если у тебя есть тысяча фунтов, ты можешь расхаживать, сунув руки в карманы, и говорить, что любой день в году ты стоишь тысячу фунтов. Но попробуй только истратить из ста фунтов хотя бы фартинг, и тогда это уже не будет сто фунтов».
Соорудите и повесьте над своей лежанкой что-нибудь подобное, и мы признаем, что цитата банальна…
Имелись ли у резко помудревшего молодого человека в те дни сто фунтов, неведомо (скорее всего, вряд ли), но именно тогда он и впрямь становится дьявольски бережливым. За ужином отказывается от горячего. Даже чай недослащивает. А тем временем дописывает и, что еще удивительней, вскоре успешно издает «Путника» – поэму о своем европейском анабасисе. И в одночасье превращается в культовую персону, а в некотором роде даже светского льва – этакого нового Дефо или Ричардсона, общества которого теперь ищут первые умы Лондона.
Вот только странный это был светский лев. Вечно нищий (треклятые карты) Голдсмит якшался преимущественно с отребьем (повторяем: карты). Он то дарил туфли – последние, прямо с ноги – случайному бродяге, то отдавал нуждающейся простолюдинке постельное белье, а сам несколько недель кряду спал в распоротой перине, зарывшись в перья.
Хозяйка то и дело грозилась выселением за неуплату. Он практически не выходил на улицу – страшился ареста за долги. Заколдованный, в общем, круг… И тут Оливера навещает приятель, а по совместительству видный литератор Сэм Джонсон и спрашивает между делом, не завалялось ли у него какой рукописи для публикации – ну, так, на первое время, концы с концами свести. И Голдсмит отвечает, что да, написал тут один романчик, но тот вряд ли чего стоит. А ты покажи, пристаёт Джонсон. И Оливер показывает… Это был принесший ему мировую славу «Векфилдский священник»…
Не станем утомлять вас перечислением остальных его перлов: он «вряд ли оставил какой-либо род литературы нетронутым и украшал всё, что затрагивал» (из эпитафии того самого Джонсона). Сразу мораль. Сын бедного ирландского священника Оливер Голдсмит, перу которого пели дифирамбы Гете и Вальтер Скотт (да кто только не пел), Голдсмит, чьи пьесы триумфально шли на подмостках Ковент Гардена, к тридцати пяти годам сделался респектабельным джентльменом и одним из самых уважаемых членов лондонского Литературного клуба. А через десять лет проиграл всё нажитое и скончался на сорок шестом году своей удивительно пестрой жизни от нервной горячки. Неумеренное мотовство – неважно, каких сумм: грошовых или завидных – было фамильной чертой всех Голдсмитов…
За несколько месяцев до кончины обанкротившийся поэт предложил владельцу одного из театров купить – оптом и за унизительно мизерную цену – исключительное право на постановку всех его пьес. Тот согласился. Но затребовал в нагрузку право переделывать их на свой вкус. И бог стиля Голдсмит, не позволявший прежде и буквы в строке поменять, сломался и – вспомним Моцарта – подписал бумагу… Голод не тетка. И племянников из числа наших героев бьет не только по брюху, но и по авторскому достоинству – их главному капиталу…
Угла в Вестминстерском аббатстве для него не нашлось. Место захоронения неизвестно по сей день. Правда, в том же Вестминстере стоит памятник одному из славнейших поэтов Англии по имени Оливер Голдсмит…
Мораль после морали: иным гениям деньги достаются не так уж и трудно, но счастья все одно не приносят.
Рискованное уточнение: не иным – большинству…
Едва ли не известнейшим из предпринимателей от писательства был внук лакея и горничной, выбившихся с годами в дворецкого и экономку, Чарльз ДИККЕНС. Литератора успешней (по-другому: богаче) в Англии не было со времен Скотта. Феномен этой машины по изготовлению романов, устраивавших всех – от полуграмотных домохозяек до утонченных ценителей типа Тургенева с Достоевским или Кафки с Фолкнером – не разгадан по сей день.
Раз на просьбу одного из биографов рассказать о детстве маститый уже Диккенс отмахнулся: не желаю касаться столь болезненных воспоминаний. Его детство не было сахаром. Он был сыном непутевого служащего, вынужденного кормить огромную семью (вместе с Чарльзом выжило восемь детей) на сто десять фунтов стерлингов в год. К концу карьеры Джон Диккенс утроил свои доходы, но это ничего не меняло: папаша тратил больше, чем получал, занимал чаще, чем мог расплатиться. Детей много, денег мало. Пришлось сменить приличную квартиру на халупу в Хэмпстэд-Роуд (специально для продвинутого читателя: это что-то вроде лондонского Южного Бутова). Положение пыталась спасти миссис Диккенс: она открыла «учебное заведение», и маленький Чарльз бегал по окрестным улицам с самопальными флаерами. Но идея лишь пшикнула: ученики не пришли.
Зато пришли лавочники-заимодавцы…
В общем, для Джона всё закончилось предельно логично – долговой тюрьмой Маршалси. Там же, во время одного из свиданий он дал сыну первый и последний урок политэкономии: «Если, получая двадцать фунтов в год, человек тратит девятнадцать фунтов девятнадцать шиллингов и шесть пенсов, ему будет сопутствовать счастье, но стоит ему истратить хоть на шиллинг больше, и беды не миновать».
Меж тем, снеся всё сколько-то ценное в ломбард (Чарльз и носил), семья вынуждена перебраться на новое место – в две комнатенки с «голым дощатым полом». Тогда же 12-летний Чарльз оставил школу и отправился трудиться. За шесть шиллингов в неделю он горбатился на гуталиновой фабрике одного из дальних родственников. Вскоре папина тюрьма сделалась домом для всех Диккенсов – по крайней мере, там кредиторы не могли достать семью…
В 1824-м умерла старая мать Джона и на оставленное ею наследство Диккенс с женой и детьми выкупились из застенка. Тогда же вчерашний арестант вышел на пенсию в сто сорок пять фунтов в год и обстоятельства их дальнейшего существования биографы иначе как стесненными не называют. Поканчивая с Джоном: через десять лет он снова угодит в тюрьму, из которой его будет выкупать уже самостоятельный сын… Чарльз вообще всю жизнь будет тащить на себе бедных родственников – кого частично, кого по полной программе…
В 15 лет его пристроили рассыльным в нотариальную контору, и полтора года спустя он зарабатывал уже 15 же шиллингов в неделю. Потом стал судебным репортером, потом парламентским стенографистом… Шустрый уже газетчик, Чарльз начал печататься в престижном «Мэнсли мэгэзин». Правда, первые полтора года анонимно. Тем не менее, он имеет уже семь гиней в неделю и даже решается приглядеть невесту.
Ему 33… Упорство и труд перетрут, как известно, что угодно. На следующий год вышли отдельным изданием и стали очень бойко раскупаться его «Очерки Боза» (Боз – первый псевдоним Диккенса; этим прозвищем младшего братишки подписывал свои ранние романы). И через пару дней фирма «Чэмпен и Холл» предложила Чарльзу заняться подписями к рисункам, или, как сказали бы теперь, попахать на комикс-индустрию. За 14 фунтов в неделю.
Чарльз закатал рукава и…
В общем, из этих комиксов получились Записки известного всем Клуба. К осени того же года Пиквик был популярней премьер-министра, а Чарльз Диккенс женат… Чэмпен с Холлом наварили на романе больше двадцати тысяч, две с половиной из которых достались Диккенсу. Все были счастливы. С того дня Диккенс только богател. Правда, в тот же день Чарльз раз и навсегда решил: больше никаких устных соглашений – только договора!..
Пожалуй, в истории всей мировой литературы не отыскать сутяги заметней. Хотя, сутяга – грубо. Диккенс всего лишь методично и с переменным успехом приучал издателей к той простой мысли, что писатель тоже считать умеет. И не только умеет, но и будет. И постепенно вышел на гонорары в размере трети дохода от издания.
Сначала Диккенс строил Британию, потом попытался учить и Америку, куда отправился, как говорят, только для того, чтобы посмотреть на Каир. Но не на египетский, а на американский, затерявшийся где-то у слияния Огайо и Миссисипи. В одну из оскандалившихся тамошних компаний у писателя были вложены денежки и немалые, и он якобы намеревался «взглянуть на могилу своих вложений»…
Так ли, нет – не суть. Суть в том, что встреченный читающими янки с вот разве только не королевскими почестями Диккенс моментально озвучил инициативу создания хотя бы подобия международного договора по защите авторских прав. Каждый его новый бестселлер обогащал тамошних издателей, автор же не имел с их барышей ни цента. «Несправедливо как-то! – заявил Диккенс, – Надо бы делиться. А мы, Англия, с вашими писателями точно так же обходиться будем. Идет?». «Да ну-ка!» – ответила предприимчивая и плохо воспитанная, как показалось путешественнику, Америка, сообразив, что делиться-то Англии у них особенно и не с кем. Кавычки тут появились от нашей безответственности, но дело обстояло именно так, и великая идея двусторонней борьбы с интеллектуальным пиратством погибла на корню. Миссия оказалась невыполнимой…
В Америке Диккенс познакомился с Лонгфелло и Ирвингом. В Филадельфии произошла его историческая встреча с едва вступившим на литературную стезю По (три года спустя тот разродится «Вороном», специалисты утверждают, что птичка перекочует в поэму прямиком из диккенсовского «Барнеби Раджа», пернатый персонаж которого в свою очередь был срисован Чарльзом со своего реально существовавшего любимца-ворона). По глянулся высокому гостю, и тот даже забрал что-то из его рукописей домой с обещанием пристроить. Но вирши заокеанского дебютанта английским книготорговцам не показались, вследствие чего и родилась расхожая ныне и знакомая каждому начинающему автору формулировка насчет отказа издателя печатать сборник «неизвестного автора»…
Тиражи же романов известного писателя Ч. Диккенса еще при его жизни доходили до 100 тысяч экземпляров. Это в то время, когда, по отзыву одного из критиков-современников, удачей считалось, если «самые прославленные сочинения, после полугодового триумфального шествия, разойдутся в количестве восьмисот экземпляров каждое».
То есть, г-н Диккенс был первым в истории английской литературы автором массового потребления и второй уже раз выражаясь грубее, чем должно – настоящим борзописцем. С тою разницей, что нынешние фандорины и гарри поттеры – явления, пардон, сезонного пошиба, а Оливер Твист с Дэвидом Коперфилдом живут и здравствуют и поныне…
В мае 1870-го, незадолго до смерти Диккенса королева Виктория вознамерилась возвести его в дворянское достоинство, но тот отказался, заявив, что «не собирается становиться ничем, кроме того, что он уже есть»…
Ханс Кристиан АНДЕРСЕН вспоминал как однажды Диккенс, в доме которого сказочник прогостил пять недель (показавшихся семье романиста вечностью – табличку с каковой надписью хозяин повесил на спальне докучливого коллеги сразу же после его убытия) поинтересовался, сколько ему заплатили за «Импровизатора» – роман до-сказочного периода.
– 19 фунтов стерлингов! – гордо ответствовал датчанин.
– За лист?
– Нет, за весь роман!
– Нет, мы, верно, не понимаем друг друга!.. Не могли же вы получить 19 фунтов за всю книгу! Вы получали столько за лист!..
Поняв же, что ошибки нет, Диккенс смешался: «Боже мой! Не поверил бы, если бы не услышал от вас самого!»
И резюме Андерсена: «Да, вероятно, и переводчица моя получила больше, чем я – автор. Ну, как бы там ни было – я существовал, хотя и с грехом пополам».
Боже мой! – повторю я за Диккенсом – как же понимаю я Ханса Кристиана…
После восстановления монархии Стюартов МИЛЬТОН «оказался на волоске от гибели». Его спасли. Но какой ценой: он вынужден был жить «вдали от общества на оставшиеся скромные средства и на небольшие литературные заработки». Проще говоря – жить, не высовываясь и не заикаясь. Под каковую лавочку за «Потерянный Рай» слепому поэту заплатили жалкие десять фунтов стерлингов…
Никогда не везло в денежных вопросах Марку ТВЕНУ. Том Сойер по натуре, он то и дело вкладывал заработанное в различные предприятия, и те прогорали одно за другим. Но Твен не сдавался. В 1884 году он основал собственную издательскую фирму «Чарльз Л. Уэбстер энд Компэни» – по имени одного дальнего родственника, любезно вызвавшегося возглавить ее – предельно бестолкового и беспечного малого. Попутно Твен профинансировал изобретателя новой типографской машины, сулившего ему золотые горы, после чего к Твену выстроилась целая очередь изобретателей с патентами паровых котлов и прочей ерунды. И Твен всё вкладывал и вкладывал… Короче, десять лет спустя его «Компэни» с треском обанкротилась, задолжав шестьдесят тысяч самому юмористу, шестьдесят пять его жене и примерно по тысяче еще девяносто шести кредиторам.
«Ну-с?» – спросили хмурые кредиторы. «Я расплачУсь, – совсем по-вальтерскоттски ответил Твен, – Только отсрочьте платеж». «Легко», – сказали кредиторы и включили счетчик.
«Из тех, кто становится банкротом в пятьдесят восемь лет, – заявил, оглянувшись, один из них, – только пяти процентам удается потом привести свои финансовые дела в порядок». Твена передернуло: ему было как раз пятьдесят восемь. «Пяти процентам? – хмыкнул другой, – Куда там! Это не удается никому из них». И Твена передернуло еще раз…
И, сгребя жену с дочерью в охапку, он отправился в «лекционный набег вокруг света» – Австралия, Новая Зеландия, Тасмания, Цейлон, Индия, Южная Африка… «Мы читали лекции, разбойничали и грабили в течение тринадцати месяцев», – вспоминал Твен о том мировом турне.
Потом он уединился где-то на окраине Лондона, где быстро-быстро написал книжку «По Экватору». Одним словом, к началу 1899-го всем кредиторам было выплачено «по сто центов за каждый доллар»…
В пересказе Твена эта история звучит как анекдот. Дочь же остряка вспоминала, что в те годы он писал «Беспрерывно, как никогда в жизни». Да и эпиграф к «Экватору» был не очень смешным: «Сокровенный источник юмора не радость, а горе. На небесах юмора нет»…
В июле 1901 года Уильям Сидни Портер вышел из ворот каторжной тюрьмы города Колумбус, штат Огайо, не только досрочно, но и в статусе популярного писателя О’ГЕНРИ. Его рассказы вот уже полтора года печатались в самых разных журналах страны, принося неплохой доход. То есть у вчерашнего заключенного № 30664 имелось достаточно средств, чтобы навсегда забыть о кормившем его когда-то, а потом упекшем за решетку банковском деле.
И покантовавшись с полгода у родных в Питтсбурге, он перебрался в Нью-Йорк, где тут же превратился в одного из ведущих американских новеллистов. И вскоре зажил на широкую ногу. При этом находился в вечном долгу перед издателями. Отчего был вынужден работать как проклятый.
Биографы не упускают случая подчеркнуть, что наиболее плодотворными для писателя были 1904 и 1905 года – пора, когда он «каждый день писал по рассказу для «Санди Уорлд».
Что вряд ли. Потому как в году минимум 364 дня, а от Уилла осталось немногим больше 280 рассказов, юморесок и скетчей, и это, сами понимаете, входит в некоторое противоречие с элементарной арифметикой. Но видит бог: не напиши он даже ничего, кроме истории Лопнувшего Треста, нам очень даже было бы, о чём вспоминать сегодня…
Раз один штатовский издатель предложил УАЙЛЬДУ несколько тысяч долларов в обмен на роман объемом в сто тысяч слов. Уайльд отказался. В свойственной ему одному манере: «Мне трудно удовлетворить Ваши желания по той простой причине, что в английском языке нет ста тысяч слов». При этом сказать, что ему не нужны были деньги – соврать, и соврать от души. Скромное отцово наследство было растрачено юным денди в мановение ока. Дальше пришлось работать. После ошеломительного (читательского; критика была гораздо сдержанней) успеха изданной за свой счет первой книги – она называлась не по-уайльдовски скромно и совсем как у Бернса: «Стихотворения» – начинающий 27-летний литератор понял, что может позволить себе зарабатывать обыкновенной болтологией. И отправился в Америку – читать лекции об искусстве. Проще говоря: мотался по стране и выступал. Приезжал, читал стихи, острил – в смысле, проповедовал, как казалось ему самому – получал на карман, участвовал в прощальном банкете и ехал дальше. К вопросу о властителях дум: вы можете представить себе ситуацию, позволяющую нынешнему поэту жить с публичных выступлений?..
Уайльду было, конечно, проще многих: записной пижон и чудила, он работал в манере гаера, представляясь просвещенному Новому Свету этаким молодым Уитменом из-за океана. Он появлялся перед аудиторией в коротких до колен штанишках, в длинных черных чулках и золотистом пиджаке, «украшенным огромным цветком, нередко подсолнечником». Плюс эти его непременные и неприемлемые тогда кудри до плеч. Не столько поэт, сколько манежный. В общем, Уайльду платили…
По возвращению из турне он начал редактировать – ну не символично ли? – журнал «Женский мир». Но с доходами было по-прежнему туго. Во всяком случае, поэму «Сфинкс» поэт планировал издать (шутил) всего в трех экземплярах: один для себя, другой для Британского музея, третий для неба. Уточняя: «Хотя относительно музея у меня есть некоторые сомнения»…
Богатым Уайльда сделали не «Кентервильское привидение» и даже не «Портрет Дориана Грея», а первая его пьеса «Веер леди Уиндермир». Пресса продолжала клеймить наглого вольнодумца позором, зато публика раскупила билеты на много спектаклей вперед.
Таким образом, до 36 лет Оскар Уайльд, скажем так, прозябал. А четыре года спустя оказался за решеткой. «…и ежегодный доход, превышающий в 1895 году – год катастрофы – 8000 фунтов, вдруг исчез, и поэт очутился в тюрьме без денег. Театральные дирекции мгновенно выбросили все его пьесы. Книжные торговцы сожгли экземпляры его книг» – читаем мы у Бальмонта… Из тюрьмы поэт вышел «больным, угнетенным, униженным, без всяких средств к существованию». То есть, человеку, кажущемуся нам теперь этаким рафинированным эстетом и снобом в кружевах и лайковых перчаточках, судьба отпустила всего четыре года материального благополучия…
Остаток жизни потрясатель общественных устоев провел в изгнании и нужде, умер в Париже в крайней бедности…
В зрелом уже возрасте пришел успех и к ШОУ.
Хотя зарабатывать на жизнь литературой он взялся довольно рано – в шестнадцать лет: ударился в поденный газетный труд, пытаясь пробиваться музыкальными и театральными рецензиями. В последующие девять лет ему удалось опубликовать всего одну статью. Джордж получил за нее пятнадцать шиллингов, и жил всё это время на средства матери. Потом плюнул на журналистику и рискнул попробоваться в прозе. Его первые пять романов были отвергнуты издателями как непригодные ни к чтению, ни, тем более, к напечатанию…
В 1925-м Шведская академия присудила-таки ему Нобелевскую премию. Шоу поблагодарил за оказанную честь, медальку принял, но от денег отказался, заявив, что расценивает награду как «спасательный круг, брошенный пловцу, который уже благополучно добрался до берега»…
А тринадцать лет спустя за сценарий «Пигмалиона» он получил «Оскара» и стал первым и до сей поры единственным на земле человеком, удостоившимся высших наград и в литературе, и в кинематографе.
Ох уж эти джентльмены писательской удачи!..
А вот КИПЛИНГ Нобелевку взял. Хотя к тому моменту тоже не бедствовал (за несколько лет до этого на гонорары с «Кима» он купил приличное имение в Сассексе). Вслед за премией сразу четыре университета – Оксфордский, Кембриджский, Эдинбургский и Даремский – избрали его в свои почетные доктора. Но главное: с этого момента каждое слово, выходившее из-под пера г-на Киплинга, стоило ровно шиллинг. И, стало быть, за любые его две строки издатели платили фунт – в тогдашнем эквиваленте пять наших рублей золотом. Диккенсу такое не снилось. Не говоря уже о Дойле, всего шестью годами ранее выторговывавшему себе у издателя по фунту за двести слов не чего-нибудь, а той самой «Собаки Баскервилей» – и это вдесятеро дешевле, если вам считать неохота…
И больше о Нобелевских стипендиатах – лауреатах, пардон – не будем. С ними все как-то более или менее ясно: бац однажды и миллион без малого. А мы вспомним писателя, обретшего материальную независимость не в виде награды за былые заслуги, но упорным, что называется, повседневным трудом. Хотя в стахановско-бальзаковском творческом энтузиазме он вроде бы никем прищучен не был. Речь о нелауреате Нобелевской премии НАБОКОВЕ…
Добрую треть века после бегства с родины Владимир Владимирович вел жизнь небогатого эмигранта. Очень небогатого. Настолько, что здравомыслящие родители его невесты едва не расторгли в свое время помолвку с непутевым «сочинителем стишков».
Нет, какие-то ценности Набоковым из России вывезти удалось. На них и жили первое время. На них же Лоди (так звали его домашние – на английский манер) даже выучился в Кембридже. А потом деньги кончились. А как на грех и отца убили – не то монархисты, не то фашисты какие-то стреляли в Милюкова, а Владимир Дмитриевич заслонил. Или просто оказался на линии огня. Но так или иначе дальше 22-летнему Володе пришлось заботиться о себе самостоятельно.
И «сочинитель» пошел в банковские служащие.
Его хватило всего на три дня…
Под псевдонимом «Сирин» он печатал в берлинских эмигрантских газетах – преимущественно в основанном еще его отцом «Руле» – что-то из стихов и переводов (например, кэрролловскую «Алису в Стране Чудес»). Составлял на продажу заковыристые шахматные задачки. Снимался в массовке кино. Занимался репетиторством (преподавал французский и свой блестящий английский). Давал уроки тенниса и бокса. Собирался ехать на юг Франции – наниматься в сезонные рабочие… Иначе говоря, речь шла об элементарном куске хлеба для себя и молодой жены.
Литературный труд – а именно: «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар», наконец – не могли обеспечить даже прокорма. И Набоков подрабатывал лекциями, выступлениями. А потом к власти в Германии пришли нацисты. Вера была еврейкой, пришлось убраться во Францию. Там дела пошли еще хуже. Там писателю не удалось получить даже разрешения на работу. И в 40-м Набоковы чудом наскребли на билеты в Штаты. Но и Америка долгое время не могла предложить одному из талантливейших русских писателей ничего, кроме случайных заработков. Потом чудом сыскалось место в «изумительной энтомологической лаборатории» Нью-Йоркского музея естественной истории, где он четыре дня в неделю просиживал за микроскопом, «исследую трогательнейшие органы» своих любимых чешуекрылых…
И тогда он стал сочинять по-английски.
Его вышедшая в 1949-м автобиографическая книга «Speak, Memory» была практически моментально признана шедевром. Писатель презентовал новой родине другой, свой Петербург (для Американцев город на Неве был картинкой из «Преступления и наказания»; Набокову пришлось доказывать, что свободы при царе было больше, чем при Ленине). И десяти лет не пройдет как «Speak, Memory» попадет в штатовские учебники по современной литературе, а ее автора «Нью-Йорк Таймс» объявит ВЕЛИЧАЙШИМ ЖИВУЩИМ ПИСАТЕЛЕМ МИРА.
Но не эта книга обогатила Владимира Владимировича. Его финансовые проблемы разрешила «Лолита». На «исповеди светлокожего вдовца» Набоков заработал около четверти миллиона долларов (экранизация романа принесла еще почти двести тысяч). Это произошло в 1955-м, когда писателю было уже 56. Вскоре он распрощался с Америкой и увез жену и сына в Швейцарию, снял этаж в притулившемся на берегу Женевского озера отеле «Палас», ставшем последним пристанищем великого русского, считавшего себя американцем.