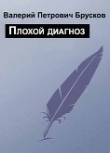Текст книги "Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному"
Автор книги: Сергей Сеничев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
А русский писатель Набоков умер нищим. В сорок с небольшим. Скорее всего, где-то на пути через Атлантику…
А Томас Манн, например, перебравшись в Штаты, заявил: «Немецкая изящная словесность там, где нахожусь я». И всей-то разницы – Нобелевская премия. С нею в кармане можно позволить себе быть эпицентром национальной культуры, без – пришлось отречься от родного языка…
Снискавший еще в 1930-м репутацию блестящего филолога (как выяснится, одного из лучших во всём XX веке) скромный оксфордский профессор ТОЛКИН обрел реальную славу и относительное богатство лишь в 62 года… Для сведения: авторские права на экранизацию «Властелина колец» были куплены у него всего за 16 тысяч долларов…
Ну и на минуточку в не приструненную Диккенсом беспредельную Америку… В 1851 году еженедельник «National Era» начал печатать некой БИЧЕР-СТОУ «Хижина дяди Тома». Через 10 месяцев публикация завершилась, и автор получила 300 баксов. В марте следующего года «Хижина» вышла отдельной книгой тиражом в 5000 экземпляров. Тираж разлетелся за неделю. Дважды в месяц писатели подписывали с миссис Стоу контракты о дополнительных тиражах. К началу войны в одной только Америке было продано более 3 миллионов экземпляров романа. Затем книгу напечатали в Англии, затем перевели на 37 языков мира (кто-то говорит – на 37, кто-то – на 20, велика ли разница?). Данных о доходах миссис Стоу почему-то не отыскивается, но представить их себе, думаю, можно.
Неспроста же ее дядя Том в книге «101 самая влиятельная несуществующая личность», посвященной литературным героям, сыгравшим значительную роль в истории человечества, занял почетное 11 место!.. Для справки: первым в том культовом списке значится небезызвестный Ковбой Мальборо…
А ПО за обессмертившую его поэму «Ворон» получил от редактора «Америкэн ревю» жалкие пять долларов. Практически все ведущие журналы страны незамедлительно перепечатали эту «безделушку». Разумеется, без разрешения автора и выплаты гонорара…
Тут, наверное, надо немножечко обстоятельней. Что такое пять тогдашних долларов? – это десять тогдашних рублей. Опять не слишком наглядно? Делаем наглядно: ПУШКИН, имевший к определенному моменту с «Онегина» по 25 рублей за СТРОКУ (а мы с вами его всё жалеем) на одном только отдельном издании романа заработал 12 тысяч…
При этом разницы между эдгаровыми пятью баксами и пушкинскими тысячами целковых – десять с небольшим лет, то есть, почти никакой.
Попробуем еще понятнее. Сверстник По (на два года старше его) ЛОНГФЕЛЛО, например, получал за стихотворение стандартные, то есть жестко установленные для него 50 баксов. Поэту-песеннику Джорджу Моррису (вы слышали когда-нибудь о каком-нибудь Джордже Моррисе? мы – нет; ну, наверное, что-то вроде тогдашнего и тамошнего Ильи Резника) полагалось столько же за любую песню. То есть, за три-четыре куплета, за два десятка строк, если грубо. Причем, на условии: «как бы плоха она ни оказалась»…
За «Ворона» было уплачено вдесятеро дешевле, чем за ЛЮБОЕ сколь угодно ПЛОХОЕ этому… ну, как его… чьей фамилии мы с вами отродясь не слыхали…
Да это еще что! В ту пору По редактировал «Грэхэм мэгэзин». Имея за это 800 долларов в год. И это с учетом того, что в течение года ему удалось увеличить тираж журнала в ВОСЕМЬ раз…
И это с учетом того, что иллюстраторы получали в том же журнале по 100–200 долларов за каждую гравюру (а с учетом расхода на краски – и все 500)…
И это с учетом того, что за опубликованный в этом журнале роман «Острова в заливе» Фенимору КУПЕРУ было выплачено 1800 долларов. Вы читали у него «Острова в заливе» (другое название «Джек Тайер»)? То-то. Эти самые «Острова» – во всяком случае, по отзыву владельца издания, мистера Грэхэма – не принесли ни единого подписчика.
А Эдгар Аллан По заработал на «Вороне» пять баксов…
Вообще, его жизнь можно писать как одну бесконечную историю нужды.
С одной стороны, конечно: кто он таков, этот их Эдгар Аллан рядом с нашим Александром Сергеевичем, да? А вы бы Бодлеру об этом сказали – тот чистил себя под По как Маяковский себя под Лениным не чистил!.. Поскольку господин По не только детектив породил – влияние его поэзии на всю европейскую уже полторы сотни лет никем не оспаривается. Символисты молились на него как на икону…
И вообще… Памятуя о том, что первым среди русских поэтов на Западе числится вовсе не Пушкин, а Некрасов (даже, несмотря на то, что ни у одного другого крупного поэта не отыскать столько откровенно плохих стихов – это не наша точка зрения, это многократно исследованный факт), приходится признать, что планетарный рейтинг нашего всего пониже эдгарова будет. Если уж позволить себе такой вульгарный подход к соразмерности значения поэтов…
ЛЕРМОНТОВ же, в отличие от Александра Сергеевича, за свои стихи платы не брал – аристократический гонор не позволял завидному жениху и наследнику нескольких имений (совокупно более двух тысяч крепостных) иметь с дара что-нибудь помимо удовольствия и имени в литературе…
ТУРГЕНЕВ бахвалился в «великосветских салончиках», что не берет с издателей ни копейки гонорара. Узнав о чем, Белинский чуть не измордовал его. «Да как вы решились сказать такую пошлость, вы, Тургенев! – неистовствовал Виссарион Григорьевич, – Да разве это постыдно – брать деньги за собственный труд? Или по вашим понятиям только тунеядец может быть порядочным человеком?»
И тут справедлива не только идейная подоплека. С 1846 года помещик (по сути) Иван Тургенев мог жить лишь с литературного заработка и нуждался так, что «обедать ему приходилось не каждый день». Потому как в один из наездов в родное Спасское молодой барин имел неосторожность рассориться с содержавшей его матушкой. По совершенно, кстати, ерундовому поводу. Большая любительница всячески церемониалов, Варвара Петровна подготовилась к встрече с сыном так изобретательно, как только смогла: выгнала и выстроила вдоль подъездной аллеи всех жизнеспособных мужиков и баб. Завидев хозяйского сына, они «громко и радостно» приветствовали его. Сын рассердился, повернул лошадей и укатил обратно. Маменька не простила ему этой выходки до самой смерти. Со всеми, разумеется, вытекающими…
И стать одним из самых высокооплачиваемых в истории русской литературы авторов Ивана Сергеевича вынудила обыкновенная нужда. Видимо, наставления Белинского пошли впрок: к финалу жизни Тургенев получал за свои творения эксклюзивные 500 рублей с листа…
Контраста ради: ДОСТОЕВСКОМУ за авторский лист «Преступления и наказания» (в частности) платили скромно: полторы сотни рублей. Каждым новым романом Федор Михайлович лишь латал очередную прореху в семейном бюджете… В 1873-м, уже через два года после того, как с рулеткой было покончено, он писал жене: «Тяжело нам будет с тобою, Аня. Ещё тяжелее моя работа, которая так мало даёт мне и убивает меня, так что я надолго не способен буду что-нибудь сделать, чтобы нажить хорошие деньги. А долги наши всё растут и растут»… Федор Михайлович и умер-то через два дня после очень серьезного разговора с сестрой: Вера Михайловна приехала «просить его отказаться от своей доли рязанского имения, доставшейся по наследству от тётки». Со слов дочери писателя «была бурная сцена с объяснениями и слезами», отчего у Достоевского горлом хлынула кровь.
Дальнейшее известно…
В четком соответствии со своей неумолимой доктриной «драть сколь можно больше» по принципиальной цене в 500 рублей за лист продал «Русскому вестнику» «Войну и мир» и ТОЛСТОЙ. Здесь заметим, что «Преступление и наказание» и «Война и мир» очутились на издательском рынке практически одновременно…
Больше того: Лев Николаевич лично занимался подготовкой издания эпопеи: вёл учет типографских затрат, контролировал процесс печати и финансовые операции как издателя, так и торговой сети, продажу книг и даже «движение на складах», под что вытребовал себе лишние 5 % с реалти – за «свое спокойствие». А вскоре заключил договор на издание своих сочинений в 11 томах, получив за это 25 тысяч – чистыми и авансом. В договорах и сделках граф был жесток и неуступчив: платить ему полагалось только вперед. Такой подход в нем воспитала одна давняя история…
Хорошо известно, что, опубликовав «Детство», Некрасов не дал молодому автору ни копейки. Ну просто правило такое было: первая публикация не предполагала гонорара. И 24-летний Толстой – владелец полутора тысяч гектаров земли и семи сотен живых душ – устроил Николаю Алексеевичу показательный скандал и зло ругал в письме – за небольшие поправки и за то, что НЕ ЗАПЛАТИЛИ…
И его можно было понять. Литературный труд изначально был для Льва Толстогоне барской прихотью, но способом заработка. И желавший привязать к журналу перспективного автора Некрасов обещал ему за последующие произведения «лучшую плату» – по 50 рублей серебром за лист. После «Записок маркера» он платил Толстому уже по 75, а после «Набега» и «Святочной ночи» по 100. Но Лев Николаевич всё усиливал прессинг, пока не добился прибавки в виде процентных отчислений от доходов «Современника». О выходе за рекордную для России планку в полтысячи целковых за лист мы уже говорили…
Толстой любил деньги и делал их всеми доступными ему средствами. На регулярные гонорары и приданое жены он привел в порядок расхристанное яснополянское хозяйство. И вскоре имение уже прилично обеспечивало его неуемно растущую семью. Три сотни свиней, десятки коров, сотни породистых овец, тьма-тьмущая птицы, пасека, винокурня, фруктовый сад, маслобойня (продукция с неё шла в Москве по 60 копеек за фунт)…
Параллельно граф принялся скупать окрестные земли. И вскоре чудом уцелевшие в недавних карточных баталиях 750 наследных десятин превратились четыре с половиной тысячи (шестикратное увеличение). Но преуспевающему писателю и этого было недостаточно. Он прикупил четыре с небольшим тысячи десятин земли на Волге. И еще 1800 в Самарской губернии. Засевал их пшеницей и умножал свое достояние…
К середине 80-х он устал от коммерции и подписал передачу всей недвижимости, оценивавшейся к тому моменту в 550 тысяч, жене и детям. Его личный ежегодный доход в последние годы жизни составлял не более 600-1200 рублей, получаемых с Императорских театров за шедшие на их сценах «Плоды просвещения». Ну и приберегал что-то около двух тысяч на черный день…
Тут вспомним Дюма с Бальзаком: выбившись из полной нищеты на гребень самый успеха, они обезумели от достатка и, бездарно растранжирив нажитое, вернулись на исходные позиции. Благополучный же по рождению Лев Николаевич, пройдя через разорение и вернув своё с лихвой, в конце концов, наплевал на деньги как таковые. Одни нашли и потеряли, другой ровно наоборот. Которая из жизненных позиций вам милее, нам совершенно безразлично. Тут внимание фокусируется на главном: трилогия о мушкетерах, вся «Человеческая комедия» и «Анна Каренина» родились из примитивного, в общем, желания авторов разбогатеть. Всё остальное – слова и материал для диссертаций на тему художественной значимости и психологических особенностей их чудесных авторов…
Первое крупное детище ГОНЧАРОВА – «Обыкновенная история», перекупленная и опубликованная Некрасовым за четыре года до толстовского «Детства» и почти за двадцать до «Войны и мира» с «Преступлением и наказанием» – принесло ему по 200 рублей за лист. Сразу же.
Дальше – больше. Создатель и владелец знаменитой «Нивы» Адольф Федорович Маркс не раз публиковал его труды, выплачивая по тысяче за лист. И при этом Иван Александрович, в отличие от того же Льва Николаевича, всю жизнь был вынужден зарабатывать на жизнь службою. В Петербургском цензурном комитете, в Совете по делам книгопечатания (он называл эту должность местом «с тремя тысячами рублей жалованья и десятью тысячами хлопот»).
То есть: писательство в чистом виде не могло обеспечить ДАЖЕ Гончарову с его умопомрачительными гонорарами ДАЖЕ скромного существования: за «уступку авторского права на свои сочинения» он получил всего ничего – 16 тысяч рублей…
Сравните: полтора десятка лет спустя ЧЕХОВ выручил у того же Маркса за права на все свои сочинения 75 тысяч, на которые и перебрался с матерью и сестрой из подмосковного Мелихова в спасительную, как думалось ему, Ялту. При этом все вокруг, да и сам писатель, были уверены, что с продажей он сильно продешевил…
Посредником в переговорах Маркса с Чеховым выступал Сергиенко – литераторишко, от докук которого зимой 1903-го Антон Павлович неостывшим еще выскочит из бани и простынет до такого обострения туберкулеза, что врачи велят ему срочно ехать в Баденвейлер, где писатель и испустит последний дух.
Из воспоминаний Сергиенко: «Чехов верхушечно относился к своему писательскому призванию. Гудя своим звучным баском и ухмыляясь улыбкой калужского мужичка, он говорил, что литературная слава для него на заднем плане. Пишет же он для заработка. "У меня, понимаешь, семья, – говорил он. – Ничего, брат, не поделаешь, нужно работать. Я и от медицины из-за этого отодвинулся, которую люблю больше, чем литературу. Ну что я как медик могу заработать? Сто, полтораста рублей в месяц. Да и то с трудностями. Спишь себе, понимаешь, ночью. Будят: "Пожалте к больному". Едешь за тридевять земель, на край света. Трясешься на извозчике, зябнешь, проклинаешь свою профессию. Приезжаешь, возишься с больными, получаешь три рубля и опять трясешься, и опять зябнешь. А тут присел к столу, посидел два-три часа, и готов очерк, т. е. 20–25 рублей почти в кармане".»
Того же Сергиенко Антон Павлович урезонивал:
– Не стоит, брат, писать больших пьес. То ли дело водевиль. Посидел вечер, и готово.
– Неужели ты «Медведя» написал в один вечер?
– В один. А знаешь, сколько мне дает «Медведь» каждый год?
И, назвав некую кругленькую сумму – Сергиенко якобы подзабыл, какую именно – добавил: «Брось писать стихи. Пиши водевили»…
И еще из Чехова: «Подвижники нужны, как солнце. Их личности – это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, развратничающих и лгущих ради куска хлеба, есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели». Очевидней очевидного, что говорил это Антон Павлович, если и не о себе исключительно, то, как минимум, о себе подобных…
И разве что для смягчения взятого по поводу Антона Павловича тона еще кусочек из его знаменитых записных книжек: «Она полюбила меня за деньги, т. е. за то, что я люблю в себе меньше всего»…
Как известно, Михаил Иванович ГЛИНКА считается отцом русской оперы. И опера эта – «Иван Сусанин». Правда, изначально он назвал ее иначе: «Смерть за царя». Его же Величество Николай Павлович подправили: «Жизнь за царя». Ну, это все хрестоматия… Чуть реже вспоминается о том, что, признанная ныне первой национальной, она попала в репертуар Петербургского Большого с огромным трудом.
Дело в том, что тогдашнему директору императорских театров г-ну Гедеонову опера г-на Глинки была абсолютно не интересна: у него вот уже двадцать лет как имелось произведение с тем же сюжетом и, что самое любопытное, с таким же названием – «Иван Сусанин», написанное и поставленное бессменным капельмейстером театра Катерино Альбертовичем Кавосом. И тут необходимо отдать должное мудрому Катерино Альбертовичу: ознакомившись с партитурой, предложенной г-ном Глинкой, он не только дал ей самый лестный отзыв, но и буквально настоял на замене его оперы на эту, новую. Гедеонов побрюзжал для порядку и согласился принять «Жизнь за царя» к постановке.
Вторая и последняя опера Глинки «Руслан и Людмила» традиционно же считается неудачей композитора. Началось с того, что все тот же Николай Павлович уехал с премьеры, не дождавшись финала. После чего зал устроил автору такое коллективное «фэ», что тот вышел кланяться, лишь повинуясь приказу сидевшего рядом Дубельта: «Иди, Христос страдал более тебя»…
В общем-то, всё правильно. Для современников Глинка был лишь амбициозным коротышкой-барчуком и пьяницей «с неизменным бокалом шампанского в руке». «Мерой всех вещей» и иконой икон Глинку сделал оценивший его главную идею (при помощи которой было так легко линчевать всех этих Шостаковичей с Прокофьевыми) новоявленный советский царь Иосиф. Поэтому ничего странного и в том, что первый антикоммунист на отечественном троне назначил автором гимна демократичной России упертого монархиста Глинку – Бориса Николаевича тоже ведь чуть не в глаза звали царем Борисом…
Ах да, мы забыли о главном: согласившись на постановку «Жизни за царя», г-н Гедеонов твердо-натвердо обязал Михаила Ивановича «НЕ ТРЕБОВАТЬ ЗА ОПЕРУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ».
И Михаил Иванович не требовал.
Ну это то же самое как если бы Эйфелю разрешили смастерить и установить известную башню безвозмездно, передвижникам запретили продавать свои картины, а Пушкин всю Болдинскую осень, скажем, марал бы бумагу исключительно заради развлечения…
Рассказывают, что за год до смерти, покидая Петербург и Россию уже навеки, композитор вышел у городской заставы из повозки и смачно плюнул на землю, не воздавшую должного его гению…
Никогда не имел достаточных средств – во всяком случае, достойных первого официального чемпиона мира по шахматам – СТЕЙНИЦ. И решал проблемы с наличностью самым простым из доступных ему способов: играл на деньги. Завсегдатаи лондонского кафе «Гамбит» не раз заставали знаменитого бородача за этим занятием.
Рассказывали, что однажды он нашел весьма выгодного постоянного партнера: тот платил гроссмейстеру за каждую партию по целому фунту. Разумеется, всегда проигрывал, несмотря даже на традиционно предоставлявшуюся ему Стейницем фору в размере коня.
Кто-то из друзей предприимчивого чемпиона подбросил ему разумную, как казалось, идею: дабы упёртый противник чего доброго не сорвался с крючка, неплохо как-нибудь и проиграть ему партейку. Стейниц поблагодарил мудрого советчика и, решив, что один фунт не деньги, однажды «случайно» подставил ферзя и добросовестно сдался.
«Моя мечта сбылась! – вскричал счастливчик, вскочив из-за стола – Я выиграл у самого Стейница!».
Больше его в «Гамбите» не видели…
Конечно, эта милая история сильно смахивает на анекдот. Но на наш взгляд мы имеем дело с тем самым случаем, когда анекдот возник не на пустом месте…
Гений гением, деньги деньгами.
Стейниц умер в нищете. В сумасшедшем доме, куда его отвезли, когда старику начало чудиться, что «исходит из него электрический ток, коим передвигаются фигуры на доске»…
Не знал достатка в средствах и ГЕЙНЕ, проведший последние восемь лет жизни в дешевой парижской квартирке на ложе из шести тюфячков, прозванном им «матрацной могилой»… В эту могилу автора «Книги песен» и «Зимней сказки» загнал не только сифилис, но и пожизненная боязнь стать жертвой чьих-нибудь шуток. Чего ради Гейне постоянно шутил на опережение. И чаще всего непростительно зло.
Однажды, в отзыве на какую-то комедию он заметил, что та могла бы получиться менее едкой, будь у автора больше еды. То же, наверное, могли бы сказать и о его, преисполненном не только чудесной лирики, но и редкостного сарказма творчестве. Впрочем, как-то раз поэт и сам признал это. Правда, в несколько более щадящей формулировке: «Весь человек (относительно не убеждений, принципов, а поступков) управляется "бюджетом"».
С бюджетом у Гейне тоже не ладилось всю жизнь…
Женившийся на молоденькой – всячески обаятельной, но крайне невежественной и, по правде-то говоря, глупой, как пробка, Эжени Кресценции Мира (он звал ее Матильдой – из книжки мадам де Сталь имечко украл, Эжени с удовольствием откликалась на него) поэт жил на семь тысяч франков в год. Четыре – от щедрот миллионера-дяди Соломона, три – с писательства. Вроде бы не так уж и мало. Но его «милая мотовка» Матильда тратила их с неслыханным безрассудством…
К четырем тысячам дядя прибавил еще восемьсот. Но и их катастрофически недоставало: сумма скопившихся долгов выросла до 20 тысяч франков. Чтобы покрыть их, Гейне на одиннадцать лет уступил права на издание всех своих произведений некоему гамбуржцу Кампе. За те самые двадцать тысяч… Расквитался с долгами, но передышка была недолгой. После смерти дяди великовозрастный племянник вместо обещанного пожизненного содержания получил единовременную подачку в восемь тысяч: прослышав о готовящихся мемуарах, где от едкого Гейне доставалось всем, включая и благодетеля-дядю, семья фактически отказалась от него. Но Гейне не сдавался. Он инспирировал в прессе плаксивые слухи о своем бедственном положении (это вообще довольно грязная история, ну и не будем о ней). Он подсовывал эти статьи через подставных лиц богатым родственникам – не помогало…
Нужда довела поэта до крайности: он принял от французского правительства ежегодное пособие в 4800 франков – из фонда поддержки политэмигрантов. Что крепко ударило по его репутации пламенного публициста, ибо было воспринято окружающими как подкуп. Но вскоре правительство лишило едкого поэта и этой поддержки – за ту самую пламенную публицистику… И Гейне продлил договор с Кемпе. Уже «на веки вечные». Теперь ему (а по смерти – вдове) причиталось по 2400 франков в год. Кемпе, как вы, наверное, уже догадались, сделал на стихах Гейне сотни тысяч (по другим данным – миллионы)…
Тогда же состоялось примирение с семьей: навестивший Генриха кузен Карл предложил небольшую пожизненную ренту в обмен на согласие уничтожить компрометирующую родственников часть тех самые мемуаров. Поэт согласился. Плод его семилетнего труда вычитывал и собственноручно жёг другой брат – Максимилиан…
Дальнейшее хорошо известно. Последние восемь лет Гейне не выходил из дому. Смерти он не боялся никогда, но растянувшееся на долгие годы умирание от прогрессивного паралича было мучительно. Поэт слаб, сох, окончательно слеп, но не бросал работы. Последними словами были: «Писать… бумагу, карандаш!..»
А так и не выучившая ни слова по-немецки Матильда получала от Карла неплохой пансион на том простом условии, что при ее жизни ни одна строка из остатков мемуаров не будет опубликована…
Деньги спасли Гейне лишь раз в жизни – во время стародавней дуэли: выпущенная соперником пуля застряла в кошельке, лежавшем в кармане поэта. На наше счастье, тогда он не был пуст…
И следом рассказец о жизни его безо всякой натяжки разлюбезного молодого друга по имени Карл МАРКС. Который, кстати, потом громче других бранил Гейне за правительственную субсидию – это он-то, скоротавший за чужой счет весь свой век…
Сначала Карл доил отца. Потом шиковал на приданое жены. Затем его содержали прогрессивно настроенные буржуа, которых угораздило углядеть в отважном молодом публицисте вот чуть ли не мессию. Пока, наконец, всех их не заменил один, привлекавший нашего героя, скорее всего не только толщиной своего кошелька. И тут мы искренне просим прощения у тех, кто искренне полагает, что нетрадиционная сексуальная ориентация – порождение масс-культуры XX века. На чем, собственно, можно и точку поставить.
Но специально для любопытствующих следующие несколько страниц (не верящие или хотящие верить, могут пропустить их и переходить к следующему персонажу)…
Первые двадцать лет «бухгалтер, с которым еще наплачется вся Европа» (по Бисмарку) и «самый популярный персонаж после Иисуса Христа» (по кому-то еще) был занят исключительно тем, что бессовестно продувал денежки отца, мечтавшего увидеть старшего сына выдающимся юристом. Особенно в бытность студентом Боннского, а затем и более престижного Берлинского университета.
«Ты ведешь себя так, как будто мы черпаем деньги из золотой жилы, – писал ему терпеливый папаша незадолго до смерти, – Мой дорогой сынок вопреки всем договоренностям и здравому смыслу ухитряется потратить за год 700 талеров, тогда как самые богатые студенты обходятся пятьюстами. Как же это получается?»
Ну как-как… Хорошая квартирка, дорогая еда, приличная выпивка, кубинские сигары… Друзья, опять же: он ведь худо-бедно председатель студенческого землячества, а на таком посту без пыли в глаза нельзя…
В общем, в ту пору Карл больше кутил с себе подобными, нежели предавался штудиям. Доверчивый же Генрих Маркс отошел в мир иной, искренне веря, что его «трудолюбивый и талантливый Карл проводит все ночи напролет серьезно занимаясь, подрывая свое умственное и физическое здоровье, отказываясь от всех удовольствий ради изучения абстрактных, возвышенных наук»…
Берлинского университета трудолюбивый и талантливый не закончил: не хватило смелости отправиться на выпускной экзамен. Степень доктора философии (а не юриспруденции, как желал отец) Карл получил тремя годами позже, экстерном – в Йенском университете, где вообще не имел чести учиться. Просто представил диссертацию – тогда такое допускалось…
За всю последующую жизнь он состоял на должностях – в смысле, имел постоянное место работы – всего дважды. В 1842-м начал печататься в рейнской газете. Полгода спустя стал одним из ее редакторов. Еще через полгода газету закрыли. А с июня 1848-го Маркс год без малого редактировал «Новую Рейнскую газету». Аллес.
Лишь еще раз в жизни могильщик мира капитала пытался трудоустроиться – уже в Англии, в 1862-м, на место секретаря в железнодорожном бюро. Но получил отказ. По причине отвратительного почерка, как сообщается…
Но пойдем по порядку. За полгода до разгрома «Рейнской газеты» Карл женился на первой красавице Трира Женни фон Вестфален. Он был влюблен в нее с шестнадцати лет. Она была старше него на четыре года. Пять лет спустя они тайно помолвились, и еще семь лет Женни отказывала куда более перспективным женихам: ждала своего «маленького черного дикаря». Отказывала, пока не умер ее папа – высокопоставленный прусский чиновник, слышать не желавший ни о каком «выкресте» Марксе.
Свадьба была сыграна на наследство невесты. На средства из той же кубышки прошел в разъездах по Швейцарии и долгий роскошный медовый месяц. Позже Женни рассказывала: тогда они попросту «раздавали деньги бедным» – сейф, в котором молодожены перевозили наличность, оставался в гостиницах незапертым, чтоб кому нужно брали, сколько охота. На женины (Женнины) же деньги супруги перебрались в Париж…
Карл, заметим, не работает – доктор философии окончательно встал на революционно-коммунистические рельсы, готовится потрясти мир чем-то большим и пишет время от времени радикального характера статьи в прогрессивного направления журналы. Громит Гегеля, младогегельянцев, Фейербаха, Прудона – всех. Сострадательные друзья собирают для него 1000 талеров. Вскоре – еще 800. На другой год он получает 4000 франков от кельнских либералов.
Это очень много. Для сравнения: силезский, скажем, ткач зарабатывал от силы 300 талеров в год. Из письма другого политбаламута Арнольда Руге: «Маркс живет в Париже на широкую ногу. Жена подарила ему хлыст для верховой езды, ценой в 100 франков, а он, бедняга, не только не умеет ездить верхом, у него и лошади-то нет. Ему хочется иметь все на свете – карету, модную одежду, цветник, новую мебель с выставки, разве только не луну…».
Копаться в чужих карманах, конечно, некрасиво, но специалисты подсчитали, и получилось, что в пересчете на современные расценки, Маркс с женой и маленькой дочкой растранжирили в тот парижский год сто с лишним тысяч нынешних долларов США – неплохо для безработного-то профессора, не так ли?..
В 1845-м его высылают из Парижа, и Марксы перебираются в Брюссель. На протяжении последующих трех лет Карл продолжает сидеть дома. Но деньги поступают и поступают. Теперь преимущественно от небезызвестного манчестерского предпринимателя немецкого происхождения Ф. Энгельса…
Тогда же, напомним, Карл возвращается в Кельн и рулит «Новой Рейнской газетой». В 49-м бежит во Францию, но его снова высылают, и семья находит приют в Лондоне. И следующие пять лет приносят не желающему работать Карлу репутацию по-настоящему бедного человека.
Вот одно из писем Маркса той поры: «Женни больна. Моя дочь Женни больна. У меня нет денег ни на врача, ни на лекарства. В течение 8-10 дней семья питалась только хлебом и картофелем. Диета не слишком подходящая в условиях здешнего климата. Мы задолжали за квартиру. Счета булочника, зеленщика, молочника, торговца чаем, мясника – все не оплачены».
Им неоднократно угрожало выселение за неуплату аренды и лишение имущества за долги. Даже на гроб для годовалой дочки Карлу пришлось занимать (троих детей из шести он, если уж называть вещи своими именами, буквально уморил голодом). Старшие чада были приучены отвечать приходящим кредиторам зазубренное «Господина Маркса нет дома»…
Раз он отправился продавать что-то из фамильного серебра фон Вестфаленов (отправился без пальто – оно было продано задолго до того). Его замели: бродяга пытается толкнуть краденое! Из кутузки мужа вытаскивала Женни (и поговаривают, вытаскивала не раз)…
А с 1856-го на Марксов вдруг посыпались наследства: одно за другим – минимум три только в названном году.
По-прежнему нигде не работающий Маркс живет теперь со смертей близких. На деньги, полученные после кончины тещи, Карл перевозит семью из их «вертепа» в приличный домик на северной окраине Лондона.
В 61-м его мать присылает 160 фунтов (доля отцова наследства за вычетом любезно погашенных ею сыновних долгов). В 63-м она умирает, а это еще около сотни фунтов привара (грубо – что-то в районе восьми тысяч нынешних американских долларов), и Марксы переселяются в настоящий «господский дом». Что, впрочем, не мешает безработному политэмигранту уже в январе следующего года писать щедрому Энгельсу: «Я на мели…». И заботливый Энгельс собирает – «из разных источников» – бедствующему Марксу еще 125 фунтов…
Годом позже умирает один из основателей «Союза справедливых» Вильгельм Вольф. Он тоже завещает всё (а именно – 824 фунта стерлингов; среднегодовой доход английского рабочего составлял в ту пору 45 фунтов) другу и учителю. Маркс не забудет этого – посвятит Вольфу свой «Капитал»…
Короче: многочисленными энтузиастами установлено, что доходы нигде не работающего Маркса в 1863-м, например, году легко позволяют отнести его в разряд 5 % самых обеспеченных жителей Англии! В следующем, 1864-м, Маркс был в ДВАДЦАТЬ раз богаче среднего английского рабочего. Помимо прочего он играет на бирже, о чем собственноручно хвалится в письме к дяде: эти «махинации» принесли ему 400 фунтов…
Но уже в 65-м Марксы снова бедствуют. В июле Карл пишет Фридриху и опять просит денег (жалуется на двухмесячный долг ростовщику).
Три месяца спустя история повторяется: «Мое материальное положение вследствие моей продолжительной болезни и крупных издержек, которых она потребовала, так ухудшилось, что мне в ближайшем будущем предстоит финансовый кризис, а это, помимо непосредственного влияния на меня и семью, было бы для меня губительным и в политическом отношении, так как здесь, в Лондоне, приходится поддерживать известный декорум»…