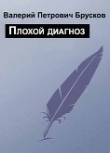Текст книги "Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному"
Автор книги: Сергей Сеничев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
В учебниках: «… его ЗАБОТАМ и ЛИШЕНИЯМ был положен конец лишь в 1869 году, когда Энгельс продал свою долю в хлопкопрядильной фабрике отца и начал выплачивать Марксу СКРОМНУЮ ежегодную пенсию».
Переведем с русского на русский. Продавший свою долю в семейном предприятии Энгельс совершенно как Остап Бендер Шуру Балаганова спрашивает Маркса, сколько тому нужно для полного счастья. Маркс отвечает, что его ткущие долги составляют 210 фунтов, «из которых примерно 75 фунтов должны быть уплачены за вещи, заложенные в ломбард, и проценты по займам». Широким жестом Фридрих назначает Карлу ежегодную «стипендию» в 350 фунтов. А это позволяет нашим энтузиастам причислить Маркса уже к 2 % наиболее благополучных людей Великобритании – самой богатой страны тогдашнего мира…
Но бедный Карл всё никак не может свести концы с концами.
«Куда деньги дел?» – так и рвется у нас с языка вслед за тенью отца героя.
Помните «господский дом»? Вот его описание, оставленное одним из современников: «Как и все лондонские дома с колоннами, он производил впечатление сытого достатка. Такой дом мог принадлежать доктору, мировому судье или бизнесмену, работающему в Сити». Вскоре после переезда туда Женни устроила в ознаменование новоселья шикарный костюмированный бал. Такие балы Марксы давали не раз. Это раз…
Второе: на бирже, как известно, можно не только выигрывать, хотя документальными данными о проигрышах Маркса мы и не располагаем…
Третье. Автор «Капитала» попросту не умер грамотно распоряжаться деньгами. Мировыми (в смысле, в масштабах планеты) – пожалуйста, личными – увы. Полученные в наследство колоссальные, в общем-то, суммы – будь они обращены в дело грамотно – кормили бы еще не одно поколение его потомков. Виднейший же теоретик политэкономии профукал их непонятно даже на что…
При этом хорошо известно, что Женни из мужниных рук перепадало нечасто и не по многу (до конца жизни она жила под угрозой финансового краха). Сохранился целый ряд писем Маркса, где он просит Энгельса в очередной раз переслать ему несколько фунтов – на то, чтобы к нему, к Энгельсу, приехать, да жене подкинуть «несколько шиллингов». Повторяем: таких писем достаточно, и из них явно следует, что возлюбленную супругу Карл в смысле наличности держал на довольно скромном содержании: ей редко перепадало больше десятой части очередной мужниной добычи.
Семейным бюджетом Марксов долгие годы распоряжалась некая Елена Демут, их домохозяйка-экономка. Еще в 1851-м она родила славного мальчугана. Примчавшийся на выручку Энгельс заявил, что ребеночек евойный. Фредди (малыша назвали в честь «папы») тут же отдали на воспитание каким-то посторонним людям. А в старости Фридрих-старший проговорился, что Фридрих-младший был сыном «мавра» (пожизненное прозвище смуглого Маркса)…
В 62-м новое несчастье: неожиданно умирает молодая и здоровая Марианна – сводная сестра Елены, а по совместительству и служанка Марксов (не многовато ли челяди у нищих политэмигрантов?). Причиной всюду значится сердечный приступ. Однако некоторые историки настаивают на том, что это был неудачный аборт. Не окончись всё трагически – бедный Энгельс всерьез рисковал превратиться в многодетного отца. Но это мы отвлеклись…
В том же 62-м Карл Маркс вчерне заканчивает первый том «Капитала». Еще через пять лет труд готов к печати. После выхода в свет книга оказывается до того непонятной даже специалистам, что Каутский, Лафарг и куча другого народа готовит к изданию свои, существенно облегченные версии «Капитала» – это их, а совсем не первоисточник назовут «библией рабочего класса»… Второй с третьим тома собирал уже Энгельс – из обрывочных черновиков. Уже после смерти друга. Он писал: «Я работаю над неструктурированными рукописями второго, третьего тома «Капитала», я почти ничего не понимаю, работаю с трудом»…
Не будет преувеличением сказать, что проживший без полутора месяцев 65 лет Маркс с 44-летнего возраста не написал практически ничего. Энгельс оставался неутомимым писакой до семидесяти пяти…
ВАН ГОГ, чьи полотна оцениваются теперь в десятки миллионов долларов (правда, в последние годы выяснилось, что больше половины проданного когда-либо на знаменитых аукционах либо откровенные подделки, либо т. н. повторы, гогеновские, например) подался в художники всего за десять лет до смерти. Из которых первые четыре занимался исключительно графикой. То есть на живопись у него осталось всего ничего – шесть лет…
А вот комиссионером в крупнейшей европейской художественно-торговой дядиной фирме «Гупиль» (Винсент Ван Гог – дядя, в честь которого художника и назвали, был совладельцем фирмы) он прослужил несколько дольше: с 1869-го по 1879-й. И на ниве торговли художественным антиквариатом и модерном сделал неплохую карьеру: из Антверпена его перевели в более престижный Гаагский филиал, затем в Лондон и наконец в святая святых – в Париж. И за эти семь лет Винсент приобрел не только очень неплохой опыт торговой деятельности, но и фундаментально ознакомился с историей и теорией искусства. По каковой причине, между прочим, в художники и пошел, а не, скажем, в моряки – по стопам другого дяди, адмирала и начальника Антверпенского порта…
Это к тому, что жили Ван Гоги по меньшей мере небедно, и умереть с голоду племяннику вовеки бы не дали. Во всяком случае, известно, что дяди-артдилеры активно снабжали молодого человека учебной литературой, а гаагский родственник – художник Антон Мауве – еще и ставил ему руку. Каковой факт автоматически дезавуирует миф о Винсенте-самоучке. Самоучкой и дилетантом был, например, его современник кондуктор Пиросмани. А Ван Гог учился, учился и учился. В Брюссельской Академии художеств. В Антверпенской. В Париже – в частной студии Фернана Кормона (тогдашней «кузнице кадров» молодых дарований). Изучал анатомию, рисовал с гипсов и т. п.
Идейным вдохновителем будущего гения выступил его младший брат Теодор. Тео был чрезвычайно хватким и прозорливым сотрудником «Гупиля». Это он уговорил руководство сделать ставку на непривлекательных до поры импрессионистов и раскручивал их до тех пор, пока не приучил Париж к мысли, что импрессионисты – это круто.
Это он надразумил Винсента отказаться от чернушной «крестьянской живописи» («Едоки картофеля» и т. п.) и обратиться к т. н. «светлой» – на манер Ренуара, Моне, Писсаро и иже с ними. Это он устраивал в своем монмартрском жилище экспозиции картин нового направления (прообразы элитных «квартиных выставок»), гвоздем которых постепенно становились работы брата. Это он в обмен на готовую продукцию обеспечивал начинающего Винсента всем необходимым для работы, приплачивая ежемесячно по 220 франков (примерно четверть заработка приличного врача или юриста), снабжал его одеждой, нужной литературой, оплачивал лечение…
У братьев имелся вполне амбициозный план: создать рынок авангардного искусства, делать ставку на которое «Гупиль» так не спешил. И давайте-ка заодно попрощаемся с мифом про то, что непризнанный при жизни Ван Гог продал всего одну картину, да и ту какому-то жалостливому булочнику. Это, извините, откровенная лажа. «Красные виноградники в Арле», поминаемые в этой байке, были просто ПЕРВОЙ из купленных у него работ. И ушли за не самые плохие деньги – за 400 франков (в то время как большинство гогеновских, например, картин продавались вдвое дешевле). Документально подтверждена реализация четырнадцати полотен Винсента, и это не самый плохой в сравнении даже с маститыми современниками показатель.
Обязанности между Ван Гогами были распределены четко: один творит, другой сбывает. Их переписка той поры (сохранилось свыше 600 писем художника к брату) изобилует уточнениями стратегии. Винсент то и дело советует и подсказывает: «Ничто не поможет нам продать наши картины лучше, чем их признание хорошим украшением для домов среднего класса». И для наглядности сам устраивает пару выставок – в кафе «Тамбурин» и ресторане «Ла Форш» – где, между прочим, лично пристраивает несколько полотен. А чего вы хотели: торговать он научился задолго до того как взялся за кисти…
«Искусство – долго, жизнь – коротка, и мы должны терпеливо ждать, пытаясь продать свою шкуру подороже». Это цитата из Винсента Ван Гога плохо коррелируется с образом безумного бессребреника, сидевшего на черном хлебе и кофе и писавшего порывно и от наития. Образ одержимого святого был вероломно сконструирован и изложен в ПЕРВОЙ книге о нашем герое под названием «Винсент» (с подзаголовком «Роман о Богоискателе») немецким галеристом Мейер-Грефе и оказался до того оригинальным и подкупающим, что его моментально растиражировали и увековечили. Проникшись трогательностью этого образа, Ирвинг Шоу разродился в 1934-м бестселлером «Жажда жизни», а Винсент Минелли снял в 56-м фильм о сумасшедшем неприкаянном художнике, пригласив на главную роль самого Керка Дугласа. И всё: не имеющий почти никакого отношения к реальному Ван Гогу миф о нём принялся жить собственной жизнью. Жизнью, превратившей в 1990 году (на долгих десять лет) обыкновенный, в общем-то, портрет лечившего некогда художника доктора Поля Гоше – ну не «Христос в пустыне»», как ни крути! не автопортрет Рафаэля даже – в самую дорогую картину на свете: один упрямый японец приобрел ее за 82 с чем-то миллиона долларов…
С этой, собственно, целью и сочинял рекламный портрет уникального товарного гения Мейер-Грефе: приобретя по случаю знаменитую теперь, но никакую тогда «Влюбленную пару», он сообразил, что навариться на ней будет проще с шокирующей биографией подмышкой. Садясь за жизнеописание Ван Гога, он даже предположить не мог, что пару лет спустя станет видным вангоговедом и авторитетнейшим экспертом по его творчеству, в буквальном смысле слова раздающим (продающим, конечно) лицензии на организацию подпольных фабрик дорогих фальшивок…
Что же касается душевной болезни Ван Гога, она, конечно, имела место. В противном случае он ни за что не застрелил бы себя на самом взлете признания. Впрочем, не так давно появилась и другая версия гибели: «Ван Гог был подстрелен одним из подростков, которые регулярно составляли ему компанию в питейных заведениях».
А чего вы хотите – такой уж персонаж: вся жизнь сплошные мифы и смерть вот, похоже, тоже…
Не перенесший потрясения (и предательства) Тео не ушел бы спустя полгода вслед за братом. Их планы осуществились бы (скорее всего) еще к середине 90-х, и, превратившись в раскрученный брэнд в сорок с чем-нибудь лет Ван Гог еще при жизни вкусил бы плоды главной своей мечты – «продать шкуру подороже»…
ГОГЕНУ светила жизнь миллионера: он должен был получить четверть наследства престарелого сожителя своей матушки (они обитали тогда в далеком Перу). Но когда дон Пио помер, родственники осмелели и выперли ненавистную потаскуху с мальчишкой вон практически ни с чем. Пришлось возвращаться в Европу…
Юный Поль пошел в матросы, дослужился до лейтенанта, списался на берег и, устроившись на службу, тринадцать лет вел размеренную жизнь благополучного биржевого маклера. Свой особнячок, своя карета, приличный банковский счет. А в 35 он бросил датчанку-жену с пятерыми детишками и ударился в живопись, которой баловался и прежде – теперь уже всерьез и безальтернативно. Что превратило оставшиеся ему два десятилетия в непрекращающуюся борьбу за элементарное выживание…
Затмить признанных мастеров (типа Сезанна и Писсаро) с кондачка оказалось не так просто. Картин его никто не покупал. И Поль пытался привлечь внимание к своей неординарной персоне, превратив в произведение искусства свой внешний облик. Он рядился в умопомрачительно синий сюртук с перламутровыми пуговицами поверх голубого жилета с желто-зеленой вышивкой и застежкой где-то на боку, плюс шляпа с лазуревой лентой и белые перчатки – Дали, как видите, в смысле клоунады не был первым. Но и бытовая эксцентрика успеха не приносила: тупое общество все равно никак не желало разглядеть в нем гения.
А жизнь свободного художника – штука расточительная. От былого благополучия не осталось и следа. Средств не хватало не то что на краски – на кусок хлеба. Опять же, бесконечные скандалы – на сексуальной, прежде всего, почве (наш герой был жутким эротоманом и, извините, бабником несколько педофильского уклона: больше других ему нравились женщины лет тринадцати-четырнадцати) – привели его в «Желтый дом». Не пугайтесь – под этим названием вошел в историю домик в Арле, где проживал тогда Ван Гог, и «который он хотел и в реальной действительности покрасить в желтый цвет». Во всяком случае, серию знаменитых «Подсолнухов» он написал именно для интерьера этого знаменитого домика…
Два месяца провели художники там бок о бок: пили, снимали шлюх, спорили, ругались и, конечно же, работали, работали, работали… Особенно Ван Гог… Кстати, Винсент отрезал часть уха как раз после одной из ссор с Гогеном: ему показалось, что тот изобразил его на своем портрете слишком уж сумасшедшим. К тому же заявил, что отправляется в Океанию, а Винсент так привык к нему!
По другой же версии как раз искушенный в матросских драках Гоген полоснул приятеля, отхватив ему мочку уха, и уже потом, чтобы как-то оправдаться, выдумал историю про гонявшегося за ним с бритвой, а потом искалечившего себя в отчаянии припадочного Винсента…
Таким образом, желание срочно сменить обстановку у Поля было, а денег на поездку – увы. Тогда друзья устроили аукцион и продали три десятка его картин. Вырученных средств хватило на билет на пароход и даже на обустройство на новом месте.
Отбрасывая остатки пиетета, смеем заявить, что на Таити он махнул в непоследнюю очередь заради всё тех же легко доступных полуголых дикарок. Выбрав одну из натурщиц в постоянные сожительницы (родители взяли за малышку совсем недорого), Поль обрел некоторое душевное равновесие и плодотворно трудился, пока безденежье и первые признаки застарелого сифилиса не вынудили его бросить беременную девочку и снова отплыть на родину.
Проваландавшись там пару лет в новых амурах и распродав по дешевке часть картин, он снова сел на пароход (друзья помогли с 30 %-ной скидкой).
Собственно, теперь он плыл на Таити умирать…
Теура (так звали милую островитянку Поля) пожила в его хижине с неделю, после чего заявила, что боится струпьев и язв, покрывших ноги Гогена сплошным узором, да к тому же она теперь замужем за таким же как сама аборигеном, в общем, прощайте, мой господин…
Вконец обезноживший художник умер на Маркизских островах (это в Полинезии) в нищете и забвении. Несколько лет спустя в Париже состоялась выставка 227 его картин. Еще совсем недавно стоившие не более 200–300 франков, они шли теперь за тысячи, десятки тысяч. Двадцать лет спустя полотна Гогена подорожали в СОТНИ раз.
Все последние восемьдесят лет они только дорожают…
Порвав в девятнадцать лет с богемой, абсентом, а заодно и стихами, РЕМБО принялся (или продолжил) бродяжничать по Европе. В составе голландских колониальных войск оказался в Индонезии. Месяца не прошло – дезертировал, вернулся на родину. Скитался с бродячим цирком. Потом его занесло на Ближний Восток, в Африку. Наконец, он осел в Абиссинии. В качестве агента торгового дома «Барде и К». В надежде заработать на нелегальной торговле оружием.
Нам говорят: переквалифицировавшись в коммерсанты, Рембо не стал буржуа. Даже в его бегстве из поэзии – протест. Осудив себя в «Поре в аду», он добровольно отправился на эту каторгу и горделиво нес свой крест… – говорят нам… Умалчивая о том, что, напечатав «Пору в аду», Рембо не смог оплатить расходов издателя и 500 экземпляров книжки безвестно сгинули на каком-то из бельгийских складов. И мы не видим ничего экстраординарного в том, что ярчайше, интенсивнейше и, возможно, исчерпывающе реализовавшийся на одной ниве психопат и шизофреник (и это не риторика, а медицинский факт) вдруг оставил ее, не принесшую ничего, кроме обманутых надежд и страданий, и ударился в поиски, извините, лучшей доли. Давайте все-таки иметь в виду, что крест на поэзии поставил не растиражированный автор, а не дождавшийся СКОРОЙ (пусть и заслуженной, но НЕПРИНЯТО скорой) славы и вытекающего из нее достатка КРАЙНЕ неуравновешенный молодой человек. Бегство из поэзии на поиски новой стези в данном случае вполне объяснимо как бегство от комплекса творческой неполноценности. Юные д’Артаньяны едут в Париж, мечтая о маршальских жезлах. Юный Рембо – у нас таких пацанов военкоматы отлавливают – просто устал раз за разом возвращаться в родной Шарлевиль босяком и поставил перед собой вполне конкретную цель: разбогатеть.
Он писал: разбогатею – и отдохну, успокоюсь, поставлю последнюю точку. И, наверное, как мало кто другой понимал, что рвать при этом со стихосложением частично – нельзя. В чем, собственно, и признавался в той самой «Поре в аду».
И, что важнее, он довольно успешно реализовал свою очередную программу-максимум. Авантюра с продажей партии бельгийских ружей одному из африканских князьков принесла ему что-то в районе 150 тысяч нынешних евро.
А дальше приключилось то, что красиво называют рукой судьбы: НЕПОЭТ уколол колено шипом зонтичной акации. Гангрена. Саркома. Ампутация ноги в марсельском госпитале и смерть на руках у заботливой сестры. В больничной карте было записано «негоциант Рембо»…
Впрочем, находятся и персонажи, подпорчивающие нам общую картину несправедливости общества в вопросе оценки их, извините за каламбур, неоценимых успехов.
Пол ЭРДЁШ был абсолютным рекордсменом среди математиков по количеству научных работ. Он от души поработал на теорию чисел и множеств, на теорию вероятностей и комбинаторику, и можете быть уверены: имел не только на кусок хлеба с маслом. Но – чудак, или как уж там еще – гений так и не обзавелся семьей, и с 1964 года мотался по планете, таская за собой 84-летнюю мать. Эрдёш не признавал собственности. Считал ее помехой и ВСЮ ЖИЗНЬ кантовался у друзей. У него не было не только собственного угла – все его имущество умещалось в одном чемодане.
Больше того: получив в 1984-м знаменитую премию Вольфа (аналог Нобелевки для математиков, которым та, как известно, не полагается; она составляет 100 тысяч долларов США, обычно ее делят между двумя лауреатами), он взял из причитавшейся ему суммы только 720 баксов – на очередной авиабилет. Остальное раздал всевозможным фондам, поддерживающим начинающих математиков.
Он вообще то и дело назначал собственные премии за решение тех или иных математических задач. От 25 долларов до десяти тысяч, в зависимости от сложности постановки проблемы. Получить премию Эрдёша было чертовски престижно. Счастливчик редко обналичивал чек – помещал его в рамку и вешал на стену как почетную награду.
При этом ученый не был ни сумасшедшим книжным червем, ни даже просто букой. Близко знавшим его лично Эрдёш запомнился предельно открытым и всесторонне увлеченным человеком с завидным чувством юмора. С учетом чего означенное наплевательское отношение к деньгам следует считать не чудачеством, а жизненной позицией, заслуживающей в зависти и уважения…
Ничто не мешало жить припеваючи ШВЕЙЦЕРУ.
Доктор философии, теологии и искусствоведения, он преподавал, писал научные труды, давал органные концерты, являясь одновременно крупнейшим специалистом и по творчеству Баха (как автор его биографии) и по конструкции органов (о них у него тоже книжка была, очень серьезная – кучу инструментов спасла от «модернизации»).
Казалось бы: чего еще-то? А того: в 21 год Альберт дал себе клятву заниматься искусством и наукой до 30 лет, а затем посвятить себя «непосредственному служению человечеству». И в означенном возрасте – «когда к молодому ученому и музыканту так быстро пришли признание, обеспеченность и слава» – поступил на медицинский факультет родного Страсбургского университета. «Отныне мне предстояло не говорить о евангелии любви, – объяснял он позже, – но претворить его в жизнь».
Отчитав положенные лекции в качестве профессора, он бежал на занятия по терапии и гинекологии, стоматологии и фармацевтики, педиатрии и хирургии… Степень доктора медицины защитил диссертацией на тему «Психиатрическая оценка личности Иисуса». И весной 1913-го (прослушав в Париже дополнительный курс по тропической медицине) с женой Хеленой – такой же чудачкой, дочерью профессора истории, а к тому времени профессиональной медсестрой – отправился во Французскую Экваториальную Африку, ныне Габон. Не понявшая столь неожиданного решения сломать себе жизнь мать вот только что не прокляла Альберта – во всяком случае, больше они не виделись…
Условия, в которых пришлось жить и работать супругам-подвижникам были поначалу просто немыслимыми. Их больница в Ламбарене начиналась с курятника – с настоящего ветхого курятника кого-то из живших там до них миссионеров. Потом построили-таки барак из рифленого железа. 70-й корпус этой всемирно известной ныне клиники открылся незадолго до смерти Швейцера и вскоре после его всею же планетой отмеченного 90-летия…
Говорить ли, что средства от чтения лекций, концертной деятельности и издания книг наш герой тратил на это – главное детище всей своей жизни. На Франкфуртскую премию Гете (10000 немецких марок) он построил дом для персонала больницы. На Нобелевскую премию – деревушку для прокаженных неподалеку от Ламбарене.
Наверное, это и есть – гуманизм?..
Впрочем, они не были первыми…
Бенедикт СПИНОЗА, которого Ницше называл самым чистым из мудрецов, а Владимир Соловьев своей первой любовью в области философии, умер в 44 года: своё черное дело сделали наследственная чахотка и без конца вдыхаемая стекольная пыль – величайший ум XVII столетия зарабатывал на жизнь шлифовкой линз для очков, микроскопов да телескопов. По случаю – еще и частными уроками. В последние годы получал скромную пенсию, назначенную ему парой знатных покровителей. Да и на ту согласился лишь при условии РЕЗКОГО снижения ее размера.
Еще задолго до хёрема («великого отлучения»), которому подвергли амстердамские раввины лучшего из своих учеников, они приватно предлагали юноше отступного – 1000 флоринов ежегодно – за всего лишь согласие помалкивать в тряпочку и ходить вместе со всеми в синагогу: упрямый Барух выбрал судьбу изгоя и ушел из иудеев в христиане…
Два десятилетия спустя 40-летнему Спинозе было предложено место профессора на кафедре старейшего в Германии Гейдельбергского университета (предлагал сам курфюрст Карл-Людвиг, брат королевы Христины, пригревшей в свое время Декарта). Вольнодумцу гарантировалась «широчайшая свобода философствования» с малюсенькой оговоркой: «без потрясения основ публично установленной религии». Но Спиноза снова отказался: «Во-первых, я думаю, что если бы я занялся обучением юношества, то это отвлекло бы меня от дальнейшей разработки философии; а во-вторых, я не знаю, КАКИМИ ПРЕДЕЛАМИ должна ограничиваться предоставляемая мне свобода философствования, чтобы я не вызвал подозрения в посягательстве на публично установленную религию».
Когда он умер, снабжавший его лекарствами аптекарь арестовал труп и заявил, что похороны не состоятся, пока кто-нибудь не удосужится покрыть долг покойного в несколько гульденов. Имущество заложника пошло с молотка, вырученных средств едва хватило на выкуп и скромное погребение…
В типовых биографиях Роберта БЕРНСА чуть ли не красной строкой: стихи в сборники он посылал бесплатно.
И это, конечно, не вполне так. Издание первого же томика «Стихотворений» принесло поэту 500 фунтов, включая 100 гиней, за которые он уступил права на дальнейшее их тиражирование. Другой разговор, что поэт настойчиво пытался жить и кормить свою большую семью на жалованье акцизного – сборщика налогов, проще говоря. То есть, очень не хотел мешать божий дар с яичницей, и в поисках средств к существованию во что только не ударялся – даже ферму арендовал, которая, правда, вскоре благополучно прогорела.
Отношение Бернса к гонорарам было неоднозначным. «Что же касается до вознаграждения, – писал он одному из издателей, – вы можете считать, что моим песням либо цены нет, либо они вовсе ничего не стоят, так как они наверняка подойдут под одно из этих определений. Я соглашаюсь участвовать в ваших начинаниях с таким искренним энтузиазмом, что говорить о деньгах, жалованье, оплате и расчетах было бы истинной проституцией души!».
Иначе говоря, Бернс был не то чтобы против платы за баллады в принципе, но слишком хорошо отдавал себе отчет в том, что получает за них гроши. И тогда в нем просыпалось расхожее художническое стремление быть «выше этого»…
В то время как семья бедствовала всё откровеннее.
Нет, не голодала, но жила более чем скромно. К тому же застарелый ревматизм всё чаще приковывал поэта к постели. И если бы не отзывчивый подручный, всю весну бескорыстно выполнявший за продолжавшего получать полный оклад Бернса его служебные обязанности, наш герой, несомненно, лишился бы места. А это уже означало бы для семьи самую настоящую нужду.
Но когда Томсон – издатель, строки из письма к которому приведены выше – прислал ему «какие-то пустячные деньги» из вырученных от продажи первого тома уже «Собрания» сочинений (а супруге – красивую шаль), гордый шотландец потребовал впредь «никогда не обижать его» подобными подачками. И даже хотел отправить деньги обратно, но жена напомнила о долге за квартиру, и Бернс засунул гордость туда, куда и полагается засовывать ее в такие минуты…
Это был последний год его жизни.
12 июля 1796 года умирающий поэт получил от портного угрожающего содержания бумагу: тот предлагал незамедлительно уплатить за заказанную ему форму семь фунтов и шесть шиллингов. В противном случае грозил господину Бернсу долговой тюрьмой. И полуживой поэт написал кузену: «Не будешь ли ты добр выслать мне – обязательно обратной почтой – десять фунтов? Эх, Джеймс! Если бы ты знал моё гордое сердце, ты бы пожалел меня вдвойне! Увы! Я не привык попрошайничать!.. Ещё раз прости меня, что я напоминаю насчет обратной почты. Спаси меня от ужасов тюрьмы!». Но, испугавшись, что с почтой может выйти заминка, продублировал просьбу и мистеру Томсону – человеку, которого никогда не видел, человеку, одержимому графоманским стремлением редактировать («прилизывать») его стихи и песни: «После всей моей похвальбы насчет независимости проклятая необходимость заставляет меня умолять вас о присылке пяти фунтов… Я прошу об одолжении не даром: как только мне станет лучше, я твердо и торжественно обещаю прислать вам на пять фунтов самых гениальных песен, какие вы слыхали. Сегодня утром я пытался сочинять на мотив „Роусир‑мэрч“. Но размер так труден, что невозможно вдохнуть в слова настоящее мастерство. Простите меня! Ваш Р. Бернс».
Простите и нас за эту длинную цитату, но она показалась нам уместной: через девять дней гордого Бернса не стало.
Его хоронили с помпой: за гробом под рвущие сердце траурные марши до самого кладбища строем шли войска. За ними – оттесненные сим почетным караулом – двенадцать тысяч действительных поклонников.
Приехавший кузен Гилберт поинтересовался у вдовы, не нужно ли чего. Разрешившаяся за час до этого от бремени Джин призналась, что в доме ни пенни. Гилберт дал ей шиллинг, обнял и вышел. За дверью записал в карманную книжечку: «Один шиллинг – В ДОЛГ вдове брата».
Роберт помогал ему деньгами всю жизнь…
Вскоре друзья Бернса собрали по подписке значительную сумму, и семья уже не бедствовала. Годы спустя, когда слава великого шотландца накрыла всю Англию, король назначил миссис Бернс приличную пенсию, но верная памяти мужа, Джин отказалась от нее…
А вот история еще одного великого шотландца…
В январе 1826 года издательская фирма «Констебл и Ко», в числе пайщиков которой состоял и некий Вальтер СКОТТ потерпела финансовый крах. Общая задолженность составила 130 тысяч фунтов стерлингов. По закону 54-летнему банкроту было достаточно выплатить лишь свою часть долга. Но, бросив компаньона в беде, Скотт перестал бы быть Скоттом.
Немного предыстории. Прижизненный гений (Пушкин называл его «шотландским волшебником», вся Европа пыталась писать «под Скотта»), он снискал мировую славу двенадцатью годами ранее, после публикации первого же своего романа «Уэверли», пусть даже и изданного без имени автора на обложке. Любовь же соотечественников Скотт завоевал куда раньше – как поэт. Со стихами он решил завязать из-за выхода в свет байронова «Чайльд-Гарольда»: «Рассудок посоветовал мне свернуть паруса перед гением Байрона»; со временем они станут закадычными друзьями… Переквалифицировавшись же в прозаика и обретя окончательную уверенность в своем финансовом будущем, Скотт приобрел малюсенькое поместье Эбботсфорд и принялся превращать его в средневековый замок-музей. Скупал окрестные земли, собирал коллекции старинного оружия, редких книг и прочих древностей. Удостоился титула баронета. Организовал встречу посетившего Эдинбург Генриха IV и лично встречал короля. Его самого встречали по всей Европе с почти королевскими почестями. Проще говоря, Скотт всячески преуспевал…
И когда обогатившее его издательство попало в переплёт, благородный, что рыцарь Айвенго, романист принял на себя обязательство выплатить ВСЮ сумму задолженности. Королевский банк предложил ему свои услуги – Скотт отказался. Кто-то из друзей готов был ссудить сумму, достаточную, чтобы уладить дела – Скотт был непреклонен: «Мне поможет моя правая рука».
Ну и ладненько, сказало собрание кредиторов. И, не моргнув глазом, подсунуло на подпись соответствующий документ. И тоже сделало как бы широкий жест: милостиво оставило писателю любимый Эбботсфорд и даже не наложило ареста на подкармливающие его жалования шерифа и секретаря эдинбургского суда… И Скотт взял перо и собственноручно засунул голову в петлю.
Это было совершенно самоубийственное решение.
Но Скотт человек слова. Он покидает эдинбургский дом, в котором прожил двадцать восемь лет, переселяется в тихий Эбботсфорд и принимается за работу. Спустя пару месяцев, не перенеся потрясения и перемен, умирает его жена. Летом следующего года писатель издает девятитомную «Жизнь Наполеона Бонапарта». При этом у нас почему-то принято говорить о Скотте – авторе биографий Стерна, Голдсмита, Джонсона, Ричардсона, Свифта, Бернса – чуть ли не как о сугубо детском писателе…
Но книга вялая. Критика неистовствует. Гейне: «Бедный Вальтер Скотт! Будь ты богат, ты не написал бы этой книги и не стал бы бедным Вальтер Скоттом!». Белинский: «На чём сбили Вальтера Скотта экономические расчеты и выкладки? На истории, а не на романах»…
А Скотт пишет (пашет!) как проклятый. Попутно выплачивая долги еще одного обанкротившегося же друга – актера и антрепренера Тери. Создает три тома «Дедушкиных рассказов», три тома «Анны Гейерштейн», два тома «Истории Шотландии», многотомную «Кэнонгейтскую хронику»…