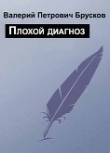Текст книги "Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному"
Автор книги: Сергей Сеничев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
«О’кей» сказала та и даже выдала аванс в 600 баксов.
И Дисней взялся за свою первую коммерческую ленту «Захватывающие приключения Алисы». Но для работы требовалась студия. И Уолт насел на старшего брата Роя, получавшего ежемесячно 85 баксов военной пенсии. Тот согласился на авантюру, и внес 200 долларов. Но и этого было мало. И братья отправились к дяде Роберту. Дядя идти в партнеры не захотел и дал полтыщи, но – в долг. Забегая вперед, сообщим, что 200 вложенных в дело зеленых сделают Роя к концу жизни миллиардером, непрозорливость же дяди Роберта оставит его потомков ни с чем…
Во время работы над «Алисой» Уолт влюбился в только что нанятую обводчицу рисунков чернилами Лилиан Бонде, занял у Роя еще сорок баксов на костюм плюс сто двадцать на всю свадьбу. Ему было 24 года. Он был женат и владел собственной студией. За «Алису» ему был выписан чек на две тысячи.
Вскоре Уолт оценивал каждый свой фильм в пятьдесят тысяч. И снова никто не возражал. Но деньги испарялись быстрее, чем появлялись… Тридцать лет кряду студия Диснеев регулярно – с периодичностью раз примерно в полтора года – оказывалась на грани банкротства. Дважды Уолт становился жертвой недобросовестных партнеров. При этом его не только кидали на деньги, но и умудрялись оттяпать сотрудников и наработанных персонажей. Но Дисней не падал духом – находил новых помощников и нагружал их новыми идеями…
В 1928-м у Диснеев родился Микки…
Поначалу он звался Мортимером Маусом, но, как это чаще всего и бывает, жена настояла на имени попроще. Уолт согласился, но тут же заявил, что правом озвучивать потешного героя не поделится ни с кем.
И Микки заговорил голосом самого Диснея.
Этот знаменитый теперь мышонок дебютировал в короткометражном, но первом в истории звуковом мультике «Пароходик Вилли». А на дворе, напомним, стояли времена, когда сам Эйзенштейн ратовал за ограничение использования в кино звука. А Чаплин снимал немые «Огни большого города» и божился, что дает звуковому кино «три года от силы».
Микки, на создание которого Уолту, разумеется, потребовалось очередное денежное вливание (и он, не моргнув глазом, продал свой любимый четырехместный «Мун») помог ему если и не разбогатеть, то, по крайней мере, встать на ноги. Брошки в форме популярного мышонка продавались в каждой аптеке за десять центов, платиновый Микки в ювелирных магазинах стоил двести баксов. Микки изображался на часах и в книжках-раскрасках. Прибыли от коммерческого использования имени и облика персонажа были несравненно больше, чем от самого мультика…
Еще через четыре года Уолт принес домой первого «Оскара» (к концу жизни их наберется 29), а уже в 1935-м нанял для производства первого полнометражного мультфильма «Белоснежка и семь гномов» три сотни художников. Потратив на картину почти два миллиона, он заработал на ней вчетверо (к слову: за полвека проката «Белоснежка» заработала 100 миллионов; в 1994-м ее выпустили на видео и в первый же месяц продали 27 миллионов кассет)… Но деньги как объект накопления интересовали Диснея меньше всего. Три из восьми миллионов новоиспеченный «король мульти» тут же истратил на организацию новой студии. И несмотря на коммерческий неуспех последующих работ («Пиноккио» и «Фантазии») к началу второй мировой штат его студии перевалил за две тысячи человек. И тут внимание: кормивший две тысячи семей (покруче Дягилева получается) он приступил к реализации самого амбициозного из своих проектов – постройки Диснейленда – имея на руках всего несколько тысяч баксов…
Дальнейшее развитие событий подтверждает нашу правоту: гений дороже любых денег. Дело в том, что соблазняемые Уолтом инвесторы решительно отказались вкладываться в авантюрное предприятие. И тогда сумасшедший (с их точки зрения, равно как и с точки зрения даже брата-партнера) Дисней продал дом в Палм-Спрингс, заложил страховку и наскреб худо-бедно 100 штук. И упорство, с которым он ввязался в реализацию мечты, сделало свое дело: хозяева Paramaunt’а, XX Century Fox и Metro-Goldvin-Mayer спешно добавили 17 миллионов и уже 17 июня 1955-го чудо-парк был открыт. Одним из тех, кто вел репортаж об открытии в прямом телеэфире, был киноактер Рональд Рейган. Задолго до того как этот известный всей Америке ковбой стал её президентом Диснею был предложен пост мэра Лос-Анджелеса. «Зачем? – удивился он, – Я и так уже король»…
Одиннадцать лет спустя великий сказочник, ставший одним из самых богатых людей Америки, и один из самых заядлых курильщиков XX столетия умер от рака легких.
Пять лет спустя осуществилась его последняя мечта – во Флориде открылся Disney World. В том же году был продан входной билет стомиллионному посетителю Disneyland’а. К настоящему моменту придуманную стариной Уолтом Страну посетило свыше полумиллиарда землян…
«Делать деньги – это всегда наводило на меня тоску», – признался он кому-то из репортеров. Деньги были для него лишь средством творческой реализации. Это одна точка зрения. Но не раз была озвучена и другая: Уолт Дисней страшно любил деньги. При этом был редкий скупердяй. Его сотрудники знали, что получают меньше всех в Голливуде. Дисней вычитал из их гонораров даже оплату времени, уходившего на заточку карандашей. Малейшее возмущение оборачивалось моментальным увольнением. При этом: босс экономил даже на себе. Во всяком случае, часто вспоминают, что он до конца дней чистил зубы самой дешевой пастой и никогда не тратился на дорогую одежду.
Сегодня основанная им компания – второй по величине медиа-холдинг на планете. Она входит в число самых доходных и могущественных консорциумов, владея, например, приобретенной в 1994-м Эй-Би-Си. (Между прочим: шоу «Кто хочет стать миллионером» принадлежит компании Уолта Диснея) Сегодня на нее трудится свыше 130 тысяч человек. Ее выручка в 2006-м составила 34,3 миллиарда долларов, чистая прибыль – 3,4 миллиарда.
И, проводя настойчивую параллель с не дающим нам покоя Дягилевым, заметим: продюсер и богач Уолтер Элайас Дисней вошел в историю вовсе не как предприниматель, но как удивительный и непревзойденный новатор анимации. Что и позволяет упоминать его в одном ряду не с Генри Фордом и Аристотелем Онассисом, но через запятую после Чаплина, того же Эйзенштейна и, простите, того же Моцарта…
А закончить рассказ о сказочно разбогатевших за счет зрителей (а в данном случае слушателей) хочется ими – великими ливерпульцами… Брэнд «БИТТЛЗ» едва ли не самый прибыльный брэнд прошлого столетия. Но не следует забывать и о том, что устрой мы еще хоть сотню «фабрик звезд» – даже при нынешнем уровне пиар-возможностей раскрутить кого-нибудь из фабрикантов хотя бы до миллионной толики успеха битлов удастся вряд ли…
И после этого – не гении?..
Немножечко обидно, правда, что несладкую парочку Пол-Джон традиционно относят в список эксплуататоров легкого жанра. Только за то, что были самоучками и опер с балетами после себя не оставили…
ТАНЕЕВ вот, между прочим, тоже ничего значительного не наваял. Ну просто-таки ничего. За что и прозван был Сократом от музыки. В том смысле, что творческое наследие небогатое, зато учеников вон сколько вырастил. Да каких – Рахманинов, Скрябин, Глиэр…
Маккартни с Ленноном – те да, те никого кроме Харрисона ничему особенному не научили (Старр и до «Beatles» был первоклассным барабанщиком). Но поистине симфоническая музыка из той же «Желтой подлодки» век спустя будет звучать (если век спустя вообще что-нибудь звучать еще будет) с неменьшим пафосом и успехом, чем ваш Бах… Ну, ладно, с Бахом погорячились. Но ох как будет звучать… Ан нет – не классики.
Черт его знает… Толстой с Достоевским литинститута имени Горького тоже ведь не кончали!..
С другой стороны, отцам поп-рока – в отличие, кстати, от их неоспоримо великих предшественников – обижаться особенно-то и не на что. По официально версии живущий, благополучный и всё еще творчески активный сэр Пол МАККАРТНИ имеет в активе более миллиарда долларов…
А начинала четверка с 25 фунтов на нос за выступление. Правда, они и тогда уже не жаловались: Джордж вспоминал, что в ту пору его отец зарабатывал в неделю в два с половиной раза меньше, чем он за час…
Коль уж на то пошло: деньги были и главной из причин, толкнувших Марка Чепмена всадить пять пуль в своего кумира. По его же признанию, «человечки» внутри твердили и твердили: «сделай это! сделай это!» – горечь, видите ли, разочарования испытал он от того, что ОНИ и прежде всего ОН – Джон ЛЕННОН – «делали всё это ЗА ДЕНЬГИ»…
Ненормальному Чепмену можно, конечно, не верить.
Но кому тогда?..
Подсчитано (а подсчитано если и не всё, то очень уже многое), что самым богатым из композиторов (имеются в виду «серьёзные», как вы догадываетесь, композиторы) был поднявший джаз до симфонических вершин и сколотивший сочинительством миллионы долларов в сегодняшнем исчислении Джородж ГЕРШВИН.
На гребне успеха оперы «Порги и Бесс» (премьера которой, между прочим, была куда как нетриумфальной и не принесла автору ничего, кроме 10 тысяч баков долгов) он отправился в Европу, где перезнакомился с массой известных композиторов. Обратился к Равелю с просьбой дать ему несколько уроков композиции. «Зачем вам учиться? – спросил тот, – Вы и так знамениты. Сколько вы зарабатываете?» – «Сто тысяч долларов в год», – смущенно ответил Гершвин. «Потрясающе! – воскликнул Равель, – тогда я хотел бы сам брать у вас уроки…»
На втором месте в списке разбогатевших на музыке оказался бравший с определенного момента за каждое выступление не меньше полусотни тысяч долларов Иоганн ШТРАУС-младший. Однако – не сразу…
Музыкантом он стал вопреки воле отца – популярнейшего к тому времени композитора и дирижера (Иоганна-старшего называли «Моцартом вальсов», «Бетховеном котильонов», «Паганини галопов» и «Россини попурри») – тот хотел видеть сына банкиром и никем кроме. Сынишка же вместо этого втайне зарабатывал деньги преподаванием игры на фортепьяно и отдавал их за уроки игры на скрипке. В 19 лет получил в венском магистрате право официально зарабатывать на жизнь дирижированием и собрал свой первый ансамбль. Но вот беда: взбешенный самоуправством отпрыска отец не желал пускать новоявленного конкурента на исконно свою территорию – светские балы кормили Штрауса-старшего, который был вынужден кормить шестерых братьев и сестер Штрауса-младшего плюс семерых детей, прижитых к тому времени на стороне. И Иоганн-младший довольствовался парой незанятых монополистом-папенькой площадок – кафешкой и казино. К тому же, молодой человек был на не самом хорошем счету у полиции, по документам которой проходил как человек «легкомысленный, безнравственный и расточительный». И вдруг папенька умер (скоротечная скарлатина), и музыканты Штрауса-старшего перебрались под крыло к сыну, и пару лет спустя объединенный оркестр Штрауса уже играл при дворе молодого императора. А еще двумя годами спустя его пригласили дирижировать концертами в Павловске, что под Петербургом. Предложив фантастический гонорар в 22 тысячи рублей за сезон. Он подписал контракт, и десять лет благодарная российская публика называла великолепного гастролера Иваном Страусом. Так что стабильно богатым человеком его сделали русские деньги…
16 оперетт и 168 вальсов (пять из которых – несомненные шедевры) превратили Иоганна Штрауса в культовую фигуру. 70-летие «короля вальса» праздновали всей Европой. Похоронили его венцы рядышком с Шубертом и Брамсом. Всё свое состояние он завещал музыкальному обществу, жене досталась лишь рента…
Почетное бронзовое место среди композиторов-миллионеров у заработавшего на одной только «Аиде» 300 тысяч Джузеппе ВЕРДИ. Хотя без воплей «Верните деньги, маэстро!» в прессе, как водится, не обошлось…
Когда на закате жизни его спросили, какое из своих творений он считает лучшим, Верди ответил: «Дом, который я построил в Милане для престарелых музыкантов». И попытайтесь представить себе подобный ответ из уст наших киркоровых…
И далее в первой десятке – списочным порядком – РОССИНИ, ГЕНДЕЛЬ, ГАЙДН, РАХМАНИНОВ (кстати сказать, перечислявший гонорары от последних концертов на помощь воюющей с Гитлером Красной Армии), ПУЧЧИНИ, ПАГАНИНИ и ЧАЙКОВСКИЙ…
Такой вот музыкальный «Форбс»…
Не в нищете, конечно, но уж и никак не соответственно почестями, которых удостоился в день похорон (в последний путь его провожали как императорам не снилось) закончил свои дни БЕТХОВЕН. Во всяком случае, даже в десятке первых богатеев-музыкантов его имя, как вы заметили, не значится. Что-то подсказывает, что он и в первую сотню-то вряд ли попал…
29 марта 1827 года в роли одного из факельщиков у гроба Бетховена видели 30-летнего ШУБЕРТА… Перед самой смертью Людвига вана секретарь принес ему с полсотни песен подающего надежды автора – чтобы как-то развлечь теряющего связь с жизнью патрона.
Бетховен был поражен:
– Разве можно написать столько?
– Да у него их вдесятеро, – ответил любезник и показал «Прекрасную мельничиху», «Молодую монахиню», «Монолог Ифигении»…
– Поистине в этом Шуберте живет искра божья, – восхитился мэтр, – Он еще заставит мир говорить о себе…
Полтора года спустя Шуберта тоже не стало…
Как все-таки печально и нелепо сложилась короткая жизнь этого удивительного нелюбимца судьбы!..
Сын школьного учителя и кухарки, он был пристращен к музыке с детства – отцом (тот неплохо играл на виолончели) и братьями (скрипка и фортепиано, соответственно). Младшенькому Францу они доверили альт и квартетом давали милые домашние концерты. Когда же у парнишки обнаружился прекрасный голос, его определили «певчим мальчиком» в императорскую капеллу. Руководивший ею некоронованный владыка музыкальной Вены и просто воспитатель целой плеяды прерасных композиторов Сальери взялся обучать паренька контрапункту. И юный Шуберт тут же начал сочинять, забросив все остальные дисциплины. По латыни у него вышло «не вполне удовлетворительно», по математике «не удовлетворительно». К тому же началась ломка голоса… Отказавшись от переэкзаменовки, он покинул конвикт, перешел в нормальную – не музыкальную школу и через год, сдав выпускные экзамены, с неохотой занял должность 6-го помощника учителя в школе своего отца: принялся обучать ребятню грамоте и счёту…
В том, чтобы пойти учительствовать имелось несколько резонов. Во-первых, сразу же после вылета из конвикта он лишился отцовой поддержки. Не можешь учиться – иди работай, счёл тот, словно забыв, что и прежде не больно-то баловал сына: в письмах домой Франц то и дело клянчил у брата пару-другую крейцеров – очень кушать хотелось. Во-вторых, ему грозила армия. А там и тогда это было суровей, чем здесь и сейчас. Угодить в рекруты означало встать под ружье на семнадцать лет. Такой оборот автоматически лишал бы его возможности писать, и Франц готов был пойти куда угодно, только не в солдаты. Говоря нынешним языком, у школьных учителей была бронь. Вот и…
Бедный Шуберт даже не догадывался, что спасался зря! По существовавшим уложениям юнец ниже 158 сантиметров росту не попадал под призыв. Коротышке же Францу же не хватало до этого минимума целых полутора сантиметров…
Ну да чего уж теперь… Он смиренно тянул лямку. За стандартное жалованье 6,66 крейцера в день. Чтобы стало понятней, сколько это: фунт хлеба стоил 6,68…
О том, как юный учитель сочинительствовал непосредственно во время занятий, мы, кажется, уже рассказывали. Прямо на глазах у класса он вдруг забывал обо всём вокруг и… Во всяком случае, первый шедевр молодого Шуберта – песенка «Гретхен за прялкой» на слова Гете – родился именно так… Следующие два года были необычайно плодотворны: 4 зингшпиля, 3 симфонии, пара месс, пара фортепьянных сонат, струнный квартет и 250 с чем-то песен. Всего их будет написано 600 с лишком, и не симфонии с операми – именно они да четыре сотни танцев прославят Шуберта как композитора-романтика.
Он всё чаще сбегал из ненавистной школы-тюрьмы в тюрьму-конвикт – там друзья, визиты которых к нему домой категорически не приветствовались отцом. А видеться хотелось! Видеться, делиться сочиненным, выслушивать восторги и замечания… К тому же, Францу катастрофически не хватало текстов. Возможно, именно этим и объяснялось его стремление просиживать вечера в трактире, где друзья не только прихлебывали пиво да вино, но и восторженно читали друг другу, а вскоре и исключительно ему свежеотысканные стихи. Они читали, Франц попыхивал трубочкой и всё чего-то чиркал и чиркал тут же, за столиком… Прославивиший его «Лесной царь» на стихи всё того же любимого Гете был сочинен непосредственно на глазах у друзей…
В общем, через год, окончательно рассорившись с никогда не понимавшим его отцом, Шуберт покинул школу. Началась жизнь, полная лишений и разочарований. Он, упрямо добивался музыкальных должностей, но натыкался на отказ за отказом. Жил уроками. Понемногу дичал. Мотался по друзьям, просиживал с ними в пивнушках. Познакомился с тихой милой Терезой Гроб (это не прозвище – фамилия такая). Девочка пела в церковном хоре. Он очаровался ее дивным голосом. Она – им. Они мечтали соединиться…
Застенчивые биографы уверяют, что между влюбленными встала мать Терезы. Фактически безработный Франц казался ей худшей из возможных партий. И фрау Гроб спешно выдала дочку за процветающего кондитера. Всюду читаем: Тереза тихо проплакала до самой свадьбы, покорно ушла под венец и прожила серую жизнь длиной в 78 лет…
При этом застенчивые биографы как бы забывают о том, что Франц не мог жениться на Терезе не только по причине беспробудной бедности. В ту пору он умудрился заработать банальный, но практически неизлечимый тогда сифилис. С болезнью умерла надежда на брак. И не оттого ли рыдала бедняжка, безропотно идя за творца пирожных?..
Застенчивые биографы находят элегантное объяснение шубертову уходу в пьянство и, извините, разврат. А куда, дескать, еще было податься передовому молодому человеку от разгула царившей в Австрии реакции? Когда, дескать, даже оперы приличной не напишешь, потому как кругом цензура, и все разрешенные тексты – полное дерьмо!..
По-своему, правда. Но лишь отчасти.
Шуберт, например, пытался не сдаваться. Он писал вставные номера для чужих опер (разумеется, без права на имя в афише). Пробовал сочинять зингшпили на тексты сомнительного свойства авторов. Например, на «романтическую драму урожденной баронессы Кленке» – полнейшую муть… Ну да, да: за деньги. Ради денег.
Он продавал свои песни и танцы (их тоже было немало, под пятьсот) издателям, но те быстро просекли, что автор в финансовых делах лоховат, выжидали момент, когда его зубы оказывались на самой верхней полке и благосклонно скупали приносимое оптом и чуть не даром…
Наконец, он не прекращал писать оркестровую музыку. Но в симфонизме великий песенник был откровенно не силен, и редкий из его друзей не понимал этого… При этом друзья не бросали Франца. Они издали сборник его нот и принесли свежеотпечатанный тираж: садись и подписывай, так дороже пойдет. Он поподписывал-поподписывал, да и крякнул: «Лучше умереть с голоду, чем царапать эти закорючки». И отбросил перо.
Лень? Каприз?
Да, и лень, и каприз, но – лень и каприз гения.
Ленивый и капризный Шуберт будто нарочно возвращает нас к началу главы: рожденных летать ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ трудно, почти невозможно заставить ползать. Даже в угоду возможному благополучию. Даже ради элементарного физического выживания. Им, повторим, землю перевернуть – это бы да. А шлёпать росписи на титульных листах увольте… Быть может этот тест – тест на способность заставить себя заниматься всяческой фигнёй, высвобождая на нее пусть всего лишь минуты нескончаемой погони за чем-то неуловимо небывалым, и есть главный тест на уровень, ранг, качество гениальности?.. В конце концов, не чуравшиеся стахановски тратить дар ради презренного металла Бальзак, Дюма и Лондон расцениваются сегодня (да и при жизни расценивались многими сведущими) как суперпопулярные беллетристы с никудышным слогом. И в результате причисляются нами к когорте гениев с малюсенькими уточнениями: гении работоспособности, гении творческой воли… Не научившийся же компромиссам Франц Шуберт был просто гением. Безо всяких добавок. За что и поплатился.
Его лень и каприз называются судьбой. Да, печальной. Да, глупой, наверное, для стороннего взгляда, но – судьбой. Хотя, сами себе и противоречим: с баронессой же сотрудничал! И выходило мертворожденное, не пригодное даже к продаже… А вот Бетховен – Бетховен, бредивший музыкой для театра – написал только «Фиделио». Истово мечтавший хотя бы еще об одной опере, он перелистал сотни либретто, и все отверг – не отвечали его высоким требованиям.
Но, может быть, поэтому-то в табели о рангах Бетховен (простите нас за этот примитивизм) и на ступеньку, а выше?..
Так вот о сифилисе Шуберта… Его лечили тайно и за двойную цену (платил друг). Сначала амбулаторно. Потом стационарно. Его травили ртутными мазями и пичкали снадобьями – ничто не помогало. И, выйдя из госпиталя, где в атмосфере миазмов и страданий родилась его прекрасная «Прекрасная мельничиха» («в движеньи мельник, жизнь ведет, в движеньи…» – цикл из двадцати потрясающе мелодичных драматических пасторалей), Франц поселился в дешевой гостиничке, чтобы доживать там в отчаянии и одиночестве… Купил парик – у него стали выпадать волосы – и искал утешение в вине, разрожаясь время от времени шедеврами: «Зимний путь» и иное минорное…
Он продал «Мельничиху» – за гроши. Издателя она позже озолотила: «нажил такие барыши, что смог приобрести целый дом». А певец Штокхаузен «лишь за один концерт с исполнением "Прекрасной мельничихи" получал втрое больше, чем Шуберт за создание всего цикла»…
В 1825-м он отослал старику Гете экземпляр изданных друзьями песен на его стихи – Гете педантично пометил в дневнике, что ноты получил, но на письмо не ответил…
В 1826-м Шуберт написал в Общество любителей музыки: сообщил о посвящении ему симфонии – Общество любезно прислало в ответ 100 флоринов («не как гонорар за симфонию», а в знак благодарности, «за заслуги перед Обществом и в виде поощрения на будущее»)…
Ни одна опера композитора не была принята при его жизни к постановке. Ни одна симфония не была исполнена оркестром. Более того: ноты Восьмой и Девятой пропали и отыскались лишь через много лет после смерти – он вообще отличался крайней неряшливостью в хранении написанного.
Первый и последний прижизненный концерт из его произведений друзья устроили лишь за полгода до смерти Шуберта. На вырученные средства он купил первый в жизни собственный рояль. Осенью внезапно заболел брюшным тифом. Подточенный сифилисом и депрессиями организм не выдержал противостояния. На могиле написали: «Здесь музыка похоронила не только богатое сокровище, но и несметные надежды»…
Судьба, конечно, судьбой, но кто знает, как сложилось бы всё, случись так, как мечталось ему: «Государство должно было бы содержать меня, – абсолютно искренне посетовал как-то Франц одному из приятелей, – Я родился на свет, чтобы писать музыку»… И, если не возражаете, мы оставим этот вопль души без комментария…
ГАЙДН… Первый из великих венских композиторов и последний среди них, не рискнувший стать свободным художником, был богат. Музыканта богаче в тогдашней Австрии не было. Бухгалтерской отчетностью не похвастаем, но интересный факт: только при жизни Гайдна с торговли его произведениями кормились 125 издателей. Сами кормились и Йозефа, надо полагать, подкармливали.
Главной расходной статьей композитора были женщины. Не подумайте дурного: речь всего о двух. О жене – на четыре года старшей его Марии Анне Алоизии Аполлонии Келлер и молоденькой любовнице – ей было 19, Гайдну 47 – Луидже Польцелли. Непутевая супруга (а как еще назвать женщину, истребившую море нотных рукописей на папильотки да подкладки под паштеты?) трясла с него деньги на законных основаниях, юная прелестница – играя на чувствах и привязанности стареющего селадона. Поговаривали, будто старшенький был у Луиджи не от мужа, а от Гайдна. Во всяком случае, старик любил мальчишку подозрительно по-отечески, «принимая деятельное участие в его обучении и воспитании». Ну да это всё так, лирика. Вернемся к магистральной мысли: Гайдн был богат. Но богат благодаря именно тому, что не рисковал уповать на один лишь талант и большую часть жизни состоял при зажиточных покровителях. Буквально: служил им. Официально – капельмейстером, до кучи – всем, чем угодно. Например, известному филантропу и завзятому ценителю искусств князю Павлу Антону Эстергази, при дворе которого провел тридцать лет (перейдя по наследству сначала к его брату Николаю Иосифу, а затем и к сыну того Антону), он прислуживал за столом в качестве лакея. И не брюзжал. Разве только раз – в письме к кому-то вырвалось: «Капельмейстер я или капельдинер?» (дирижер или, грубо говоря, билетер, если кто не в курсе).
Эстергази можно было понять. Стопроцентный магнат, он обеспечивал этому приживалу безбедное существование, предоставляя возможность работать над увековечением своего имени в истории, но совершенно справедливо полагал, что в благодарность тому не следует забывать, чья рука кормит и поит. И Гайдн не забывал. И облачался в ливрею по первому требованию, а вскоре и без. И вместе с остальной челядью торчал в приемной в ожидании нахлобучек.
Нахлобучки он чаще всего получал за отлучки. В Вену, например – к горячо обожаемому ученику и другу Моцарту. Князь очень горячился, когда капель… в общем, Гайдна вдруг не оказывалось под рукой. Мотивы: скажем, назавтра господину Эстергази нужен новый квартет (а если нужен – он назавтра же должен и быть; и он был; к послезавтраму – послезавтрашний, а как по-другому!). И где Гайдн? А Гайдн, видите ли, поехал в масоны вступать. Ну и по шапке Гайдну…
В такой примерно атмосфере и протекала жизнь отца симфонической музыки (подавляющую часть своих опер, а также симфоний – коих случилось, страшно сказать, 104 – Гайдн создавал в замке Эстергаз, обычно – на заказ, по требованию). Из практически крепостной привязанности к хозяину композитор выбрался, лишь чуть-чуть не дожив до шестидесяти. Старый князь умер, и молодой, помешанный не на музыке, а на развлечениях попроще, тут же распустил капеллу. Но здравый смысл был и ему не чужд. Наследник сохранил выдающегося композитора, что называется, за собой, назначив его почетным уже капельмейстером и дав пенсию, позволявшую не искать службы на стороне.
И тогда – обеспеченный, свободный, но дряхлеющий Гайдн смог позволить себе впервые взглянуть на море: его пригласили в Англию. Обе годовые поездки на Альбион обернутся триумфом. Деньги и почетные звания посыплются на почетного жителя Вены как из рога изобилия.
Одна беда: Гайдн стар… А когда-то, в молодости, он вынужден был бороться за выживание в самом непереносном смысле этого слова. Из воспоминаний композитора: «Когда я, наконец, потерял голос (ему было 17 – С.С.), мне пришлось целых восемь лет едва перебиваться обучением юношества».
Он давал уроки пения и музыки, играл на скрипке на праздничных вечерах, «а иногда просто на больших дорогах». По случаю сочинял что-нибудь на заказ. Например, имевшую бешеный успех (и, к сожалению, не сохранившуюся) оперу «Хромой бес» для известного комика Йозефа Курца. Курц заплатил 25 дукатов, и Гайдн считал себя «очень богатым»…
Потом он брал уроки композиции, расплачиваясь с наставниками преимущественно услугами. Неаполитанцу Порпоре, например, молодой человек возмещал потраченное на него внимание в качестве бесплатного аккомпаниатора (Порпора давал уроки не только контрапункта, но и пения), а также исполнителя массы иных, довольно унизительных поручений. Этот итальяшка и превратил его в прислугу на всю жизнь: Гайдн понял, что надо искать хозяина.
Ищущий – обрящет. Сначала Иозеф пристроился к помещику-меломану Карлу Фюрнбергу. За его деньги и по его поручению написал ряд струнных трио. Потом – первый квартет. Следом еще пару дюжин. Фюрнберг представил (и передал) талантливого молодого человека меценату покруче – чешскому графу Морцину. На хлебах у этого господина Гайдн разродился первой симфонией. Впрочем, и у Морцина он пробыл недолго, год с небольшим. Богатые тоже плачут, и однажды графу в целях экономии пришлось распустить капеллу. И вот тогда-то на пути нашего героя и возник тот самый Эстергази. И начались ливреи и папильотки…
Две судьбы – Шуберта и Гайдна – две такие непохожие истории жизни с результатом, умещающимся всего в одно слово: гении…
И тут грех не вспомнить еще об одном профильном в контексте главы персонаже – о МОЦАРТЕ, закончившем, как известно, путь земной в безвестной могиле для бедняков.
Для начала внесем ясность: композитора схоронили в ней никак не по жадности Констанцы и друга ван Свиттена, а в точном соответствии с установленным порядком. Согласно «погребельным правилам», введенным прославившимся своими реформами императором Иосифом, упокоившихся перестали закапывать у главного собора – кладбища были вынесены за городскую черту. Трупы помещали в братские могилы не из небрежения, а экономя место. Памятных знаков над захоронениями не ставили (было запрещено) из тех простых соображений, что каждые семь-восемь лет могилы все равно перекапывали и использовали заново. Короче, не дай, как говорят на востоке, вам жить в эпоху перемен…
Вдова не шла за гробом потому что: а) церемония панихиды прошла в масонской ложе, к которой принадлежал композитор, и катафалк с телом тронулся в сторону кладбищ уже после шести вечера; б) сама процедура погребения не предполагала участия родных и близких: священник да могильщики и баста… А «скупердяй» ван Свиттен после смерти друга платил за обучение его сыновей, организовал на свои средства первое исполнение знаменитого реквиема и долго еще устраивал по Европе концерты в пользу семьи…
Теперь о нищете Амадея.
Считается, что она накрыла Моцарта аккурат после смерти его самоотверженного и умелого импресарио-отца, на подпитки которого гуляка праздный жил и содержал семью. Тут усомнимся. Ибо годовое жалованье Леопольда Моцарта в Зальцбурге составляло 350 флоринов, а сын с некоторых пор получал втрое больше всего за один концерт.
Напомним, что программа выступлений малыша больше напоминала цирковое представление, нежели концерт классической музыки: публике демонстрировалась игра на закрытой платком клавиатуре, импровизации в предлагаемой тональности, определение высоты звуков, издаваемых любыми – на выбор зрителей – предметами (колокольчики, пустые стаканы, часы со звоном)…
Итак, идем с самого начала.
В 1772-м, по возвращению с завоевания Европы (с орденом Золотой шпоры из рук папы Климента XIV) 16-летний Вольфи принят только что назначенным архиепископом зальцбургским графом Коллоредо на должность придворного концертмейстера с годовым окладом в 150 гульденов. Но отец уверен, что этого недостаточно и возит и возит сына – в Италию, в Вену, в Мюнхен – в поисках должности подоходней. Однако фиаско за фиаско: свободных синекур нет. Приходится возвращаться в Зальцбург и терпеть тиранию патрона: Иероним Коллоредо, в отличие от предшественника-дяди, существенно ограничивал ставшую для Моцартов привычной практику разъезжать в служебное время по заграницам в сугубо личных интересах. И в 1777-м молодой композитор не выдерживает, пишет по собственному желанию и снова отправляется завоевывать Францию, потом Германию и – снова безрезультатно. В том смысле, что постоянной работы нигде не дают. И вчерашний вундеркинд едет домой и вынужденный прозябать (как пишут) на унизительной (как уточняют) должности придворного органиста, довольствуется годовым окладом в 500 гульденов (они же флорины). Это против папиных-то, напомним, трехсот пятидесяти…