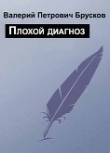Текст книги "Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному"
Автор книги: Сергей Сеничев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Разводились долго и скандально. Свое приданное – 120 тысяч франков «во французской золотой и серебряной монете» дамочка вернула с лихвой. В феврале 1848-го суд департамента Сены объявил о разделе имущества в ее пользу и приговорил Дюма к выплате растраченного приданого, а заодно к алиментам в размере шести тысяч в год – на содержание ею падчерицы – его же дочери Мари, коварно переметнувшейся на сторону мачехи…
И «Монте-Кристо» со всей обстановкой пошел с молотка. Правда, надо отдать должное и коварству Дюма – он купил замок сам у себя через подставное лицо за смехотворную сумму в 31 тысячу франков. Но жареным пахнуло всерьез…
А потом грянула революция 1848-го.
Сначала она обанкротила любимое детище писателя – Исторический театр, который Александр Великий построил для постановок исключительно собственных пьес. Спектакли в нем шли подчас по пять-шесть часов, а «Монте-Кристо» (да-да, Дюма частенько превращал свои романы в сценические действа) растянулся аж на два вечера.
В свой первый сезон Исторический принес владельцу более 700 тысяч. В 49-м был уже убыточным. И вскоре великому Дюма приходилось скрываться от сапожника, которому он задолжал каких-то двести пятьдесят монет. Потом в «Монте-Кристо» нагрянули судебные приставы и увезли из замка всё, что смогли – «мебель, картины, кареты, книги и даже зверей».
Об этих «зверях» просто нельзя не упомянуть.
Эксцентрик Дюма устроил самый настоящий живой уголок: он поселил в «М-К» кота, пять собак, трех обезьян (которых назвал именами знаменитых тогда переводчика, писателя и актрисы), пару попугаев, золотого фазана, окрещенного им Лукуллом, петуха, прозванного Цезарем, и тунисского грифа, который получил кличку Диоген, после того как поселился в бочке…
Судейские не тронули только Диогена…
Потом пришел черед выматываться из замка и самому…
В 1850-м Дюма жил уже скромно.
В 1851-м ему пришлось бежать от кредиторов в Бельгию.
В 1852-м ушла с аукциона парижская квартира, выручка от которого превысила сумму долгов всего на 1870 франков и 75 сантимов. И это была вся на тот момент наличность Дюма…
Еще через две недели любимец читающей Франции был объявлен «несостоятельным должником»… Однако слава и авторитет Дюма были до того непререкаемы, что позволяли ему беспардоннейшим образом злоупотреблять и казенными средствами. Так для поездки в Алжир он затребовал с правительства Франции военный корвет. И правительство, что называется, вынуло и выложило. И это далеко не единичный случай обхождения прихотей писателя государству в круглую копеечку. А Дюма? – Дюма считал такое положение дел нормой. И однажды, когда кто-то из депутатов поставил вопрос о целесообразности неумеренных трат писателя, Дюма вызвал на дуэль… парламент. В полном составе. И посрамленное национальное собрание было вынуждено уклониться от «поединка», сославшись – и тут простите нас за еще одно отточие… на депутатскую неприкосновенность!
Конечно же, великий рассказчик не собирался сдаваться – в то время он писал как из пушки. Моруа утверждал: «никто на свете, кроме Дюма, не мог бы столько написать». И уточнял: а «кроме Парфе – переписать»…
Парфе был не просто переписчиком. Секретарь, выполнявший при патроне массу самых разнообразных функций, он расставлял знаки препинания (Дюма они были глубоко по барабану) и уточнял даты (которые шеф вставлял вот разве что не от фонаря). В его задачи входили переговоры с издателями и вопросы сценической судьбы пьес. Парфе был человеком, защищавшим в те годы деньги Дюма от самого Дюма. Дюма ворчал: «С тех пор, как в доме у меня завелся честный человек, я чувствую себя всё хуже».
Но дело было совсем не в Порфе – с годами «король» все заметнее выходил в тираж. Ему еще продолжали платить по тысяче аванса за всякий новый роман плюс 10 % с каждого проданного экземпляра. Но продавался Дюма хуже и хуже, внимание читающей публики переключалось на новых гениев литературного рынка. В числе которых оказался и Дюма-сын. Стареющий Александр-отец стал замечать, что рука устала, что, начав очередную книгу, он забуксовывает на середине, не в силах справиться с сюжетом, а былые помощники давно перебрались под крылышко к тем, на кого выше спрос…
Про пару луидоров у смертного одра мы уже поминали…
Еще плачевней сложилась жизнь другого «человека низшего общества и высокого полета» – РЕМБРАНДТА.
Блистательно начав, к тридцати годам он стал самым модным из портретистов Голландии и запрашивал за свои работы неслыханные до него гонорары: изображение лица – 50 гульденов, «в полный рост» – 500.
Восторженные заказчики выстраивались в очередь…
Тогда же он женился на дочери бургомистра Леувардена Саскии ван Эйленбрюх. Взял за ней 40 тысяч приданного, купил в рассрочку двухэтажный особнячок в центре Амстердама и начал набивать его произведениями искусства, дорогой одеждой, украшениями и просто редкими симпатичными вещицами – коллекционирование было непреодолимой страстью художника…
Казалось бы: все логично – расходы по доходам.
Пока в один из прекрасных дней другой уважаемый амстердамец, капитан роты стрелков Баннинг Кока не забраковал одну из лучших его картин – знаменитый «Ночной дозор». Кока сотоварищи решили, что мэтр схалтурил, и они похожи на холсте не на себя, а на каких-то, извините, «призраков». И хваленая очередь к портретисту стала рассеиваться как дым…
В тот же год умерла от туберкулеза возлюбленная Саския, оставив мужу свою точную копию – сына Титуса. Вскоре нянька мальчика начала с его родителем судебную тяжбу: спать, дескать, спал, жениться обещал, а теперь отказывается. А жениться на ней Рембрандту было нельзя – в случае повторного брака он терял права на наследство. А тут и без того не лучшие времена: заказчики к оскандалившемуся, да еще и не желающему прислушиваться к их изменившимся вкусам портретисту нейдут. Опять же – первая англо-голландская война, и спрос на картины не тот, что давеча…
И незадачливый гений кисти остался один на один с самой настоящей нуждой. Он работал, не покладая рук (в это время – в основном офорты), но всё еще не выплаченные за дом семь тысяч гульденов висели над ним как проклятье. И согорожане – не без злорадного уже удовольствия объявили пятидесятилетнего художника банкротом. И упомянутые коллекция, мебель, одежда, даже утварь (всего – 365 предметов) ушли с молотка. И растоптанный судьбой Рембрандт переселился с сыном и гражданской женой Хендрикье в настоящую лачужку в бедном квартале.
Спустя пять лет умерла и его вторая муза. Еще через пять не стало и Титуса (наследственная чахотка). Годом позже покинул мир и забытый всеми 63-летний Рембрандт Ван Рейн. Как следовало из посмертной описи имущества, всё, что осталось от него – «Шерстяная и полотняная одежда и рабочие инструменты»…
По тому же примерно дебетно-кредитному сценарию протекала и жизнь великого ЭЛЬ ГРЕКО… Не сумев завоевать Италии, он перебрался в Испанию и довольно быстро явил ей свои притязания на звание первого портретиста. Обосновался в Толедо. Арендовал 24 самые просторные комнаты в дурной славы дворце покойного маркиза де Вильены, считавшегося чернокнижником и колдуном, и зажил на умопомрачительно широкую ногу.
Эль Греко зарабатывал очень много. У него покупали не только оригиналы, но и копии. Так знаменитое «Эксполио» (по-нашему «Снятие одежд с Христа») художник повторял по просьбе коллекционеров СЕМНАДЦАТЬ раз.
Вот только тратил он никак не меньше зарабатываемого. Известно, например, что по традиции, подсмотренной еще в Венеции, Грек держал на жаловании оркестр, развлекавший его многочисленных гостей во время трапез. Его дом был настоящим паноптикумом дорогих вещей и изысканного комфорта. Довольно непритязательные в быту испанцы не понимали пришлеца. «Получив массу дукатов, – возмущался один, – он большую часть тратил на роскошь жизни».
Вспоминают современники и о великолепной библиотеке художника. Ее составляли инкунабулы по архитектуре, труды великих философов, сочинения религиозного содержания (необходимые всякому образованному человеку той эпохи), книги Гомера, Еврипида, Эзопа, Тассо, Петрарки…
Можно было обойтись без всего этого? Наверное, можно. Но так ли легко творилось бы нерасточительному чудаку на протяжении полувека, проведенного в тех апартаментах?..
Он испытывал материальные затруднения ПОСТОЯННО, и ни один из искусствоведов не может ответить на простой вопрос: почему не иссякший до последних дней живописца поток заказов, не смог обеспечить ему безбедной старости. Дворец ветшал. Музыканты разбежались. Гости испарились. Хозяин всё больше замыкался в своем творчестве, уединяясь в задних комнатах – поближе к кухне, к теплу… Возлюбленный сын и помощник – надежда и гордость Эль Греко – Хорхе Мануэль, обзаведясь семьей, почти забыл отца. Неспроста же разочарованный родитель упомянул в завещании (устном – до письменного выражения последних распоряжений дело не дошло) лишь преклонных лет служанку, ухаживавшую за ним до последних дней…
Опись вещей, обнаруженных после смерти Эль Греко в ошеломлявших некогда великолепием залах, потрясает: восемь стульев, два пустых сундука, три рубашки, два ручных полотенца, пара канделябров да жаровня, у которой старик грел свои немощные ноги…
Плюс картины, эскизы, модели из гипса и воска, проиллюстрированный пятитомный трактат по той самой архитектуре, неразорённая библиотека и развешенные по мастерской миниатюрные копии ВСЕХ полотен художника…
Другое дело – ТИЦИАН! Этот не только знал себе цену, но и ни на минуту не позволял забыть о ней окружающим.
«Тициан – наиболее алчный из людей, когда-либо созданных природой», – вспоминал кто-то из придворных его патрона, герцога Урбинского. «Ради денег он сделает всё, что угодно», – уточнял испанский посол…
Насчет чего угодно – враньё. Величие Тициана в том, может быть, и состояло, что изображая сильных мира сего, он был предельно искренен. Могущественный покровитель художника «повелитель полумира» Карл V запечатлен им сгорбившимся в кресле. Не грозный владыка, а придавленный грузом судьбы одинокий человек. За этот портрет император пожалует живописцу титул графа, звание государственного советника и высший сан «Рыцаря золотой шпоры со знаком Меча и Цепи» – в придачу к тысяче скудо за собственно работу… Заметим, Тициан писал императора не раз, и неизменно получал в благодарность тысячу золотых. Рассказывали, что однажды Карл поднял выроненную художником кисть – чем не знак буквального преклонения перед неземным талантом?..
В Венеции не было вельможи, не мечтавшего однажды попозировать «королю холста». И он писал их – дожей, кардиналов, герцогов, маркизов – всех кто готов был платить за холсты золотом. И они не просто платили – осыпали. Благодаря чему главный художник Венеции (это не славословие – это должность, которую пожаловал Тициану верховный совет Синьории, подкрепив свое решение годовым окладом в 200 скудо) и сам вел жизнь вельможи и уже выбирал заказы подороже. Венеция двадцать лет платила ему, терпеливо ожидая завершения украсившей Золотую Гостиную «Битвы при Кадоре»…
Потом пришел черед раскошеливаться и понтифику. Прозванный последним из великих пап Павел III пригласил лучшего на земле 70-летнего портретиста в Рим, встретил с почестями, подобающими принцу, и разместил по соседству с собой – в великолепных покоях Бельведера. Там Тицианом будет написана «Даная». Увидев ее, некоронованный владыка Рима старик Микеланджело скажет одному из учеников: «Всё что он пишет, совершается здесь, на земле». И наткнувшись на недоуменный взгляд подмастерья, пояснит: «Мы с Рафаэлем обещаем, а Тициан – дает»…
Окружая гостя неслыханным вниманием и заботами, папа хотел, чтобы тот дал и ему. Однако на знаменитом портрете с внуками заказчик вышел не величественным наместником бога на земле, но тем, кем виделся со стороны – согбенным немощным старцем: в этом Тициан был неподкупен. Он любил деньги, но, зарабатывая их, угождал не платившему, а вечности. И чем тверже соблюдал это правило, тем щедрее сыпалось золото в его сундуки…
С другой стороны, мы вроде бы только что убедились, что не бывает сумм, каких не смог бы растранжирить даже самый обласканный фортуной художник. Здесь же всё наоборот: Тициан, не сумевший превзойти в обожании роскоши одного лишь Рафаэля, только богател год от года. К финалу жизни он владел несчетными поместьями, виллами, домами. И пытаясь найти хоть какое-нибудь объяснение финансовому благополучию этого титана Возрождения, мы натыкаемся на коротенькое, но всё объясняющее упоминаньице: финансовые дела художник вел при помощи немецкого банкирского дома Фуггеров. Всё верно: он умел зарабатывать, а сохранение и преумножение доходов благоразумно перепоручал профессионалам.
И всё-таки эта история выглядела бы слишком сусальной, не венчай её поистине плачевный финал: бездарному и непутевому старшему сыну живописца – Помпонио – хватило нескольких лет, чтобы промотать отцово состояние впрах…
Природа не только отдыхает на детях гениев – зачастую именно их руками она квитается с некоторыми из великих отцов за перерасход везучести. Хотя бы и посмертно…
И давайте обратимся к языку цифр, задающих атмосферу эпохи и проясняющему механизм ценообразования шедевров. Минимальная потребительская корзина для семьи из четырех человек исчислялась в ту благословенную пору 30 флоринами в год. Ровно столько, например, получил за «Коронование Богоматери» маститый уже Сандро БОТТИЧЕЛЛИ.
Вазари уточнял: «…зарабатывал он много, но всё у него шло прахом, так как хозяйствовал плохо и был беспечен… в конце концов обеднел настолько, что если бы не поклонники его таланта, мог бы умереть с голоду».
С учетом расходов на краски «Коронование» оценивалось в 100 флоринов – цена недорогого дома (приличный тянул на 300–400)… Сотку земли можно было приобрести флоринов за 6–7. Кафтан стоил от 45 до 100 золотых (кафтаны разные бывают). Хорошая верховая лошадь – 70–80.
За каждую фреску на стенах Сикстинской капеллы мастера получали по 250 флоринов, из которых почти половина уходила на краски и прочие текущие расходы. Поэтому гоняться за штучными заказами считалось делом хлопотным. Практичнее было сидеть на твердом окладе.
Некоторым удавалось…
Вроде бы по горло заваленный работой в родной Падуе МАНТЕНЬЯ согласился-таки (три года торговался) перебраться в Мантую, правитель которой маркиз Луиджи Гонзага пожаловал ему 600 флоринов годовых, жилье и обеспечение дровами с зерном. Это было очень выгодное предложение. Художник переехал и вскоре имел достаточно средств на постройку дома по собственному проекту и покупку солидного земельного участка. Поначалу зарплаты (к которой добавились щедрые премиальные и всевозможные подарки – возведение в рыцарское достоинство, например) ему хватало даже на коллекционирование дорогущих антиков. Но нужды семьи росли и росли. И вскоре, чтобы обеспечить приличное приданое дочери, художнику пришлось продать свой дом-конфетку. Не радовали и помощники-сыновья – одного из них вскоре даже выгнали из Мантуи «за тяжкие провинности». Последние месяцы жизни Мантеньи были наполнены «работой, болезнями и попыткой вырваться из петли долгов»…
ДОНАТЕЛЛО за конную статую кондотьера Гаттамелаты было уплачено 1650 дукатов (примерно 65 тысяч теперешних долларов США). А за бронзовые «Райские двери» флорентийского баптистерия – 1135 (соответственно, 45 тысяч; правда, это уже с учетом материала и отливки). То есть, даже из чисто финансовых соображений вытекает, что не из последних ваятелей Данателло был. Однако если верить его декларации о доходах за 1427 год (а налоги и тогда собирали), в наличии у скульптора имелся всего ОДИН флорин. Плюс 7 флоринов на подходе (заказчики задолжали 210, он сам разным людям – 203). Документ гласил, что собственности у Данателло нет (исключение – инструменты стоимостью 30 флоринов, да и теми владеет на паях с партнером; ну и всякая мелочевка бытового характера), что арендует дом за 15 флоринов в год, содержит на иждивении старушку-мать, вдову-сестру и ее малолетнего сына…
У наставника Леонардо ВЕРОККЬО, согласно декларации 1457 года, одни долги и никаких заказов. Меж тем он уже называется себя ювелиром… Из чего понятно, что скрывать доходы было нормальной практикой и в те стародавние времена. Если, конечно, эти двое не оказались единственными в цеху лукавцами…
Всего в 150 римских дукатов (чуть больше 6000 нынешних баксов, а по тем временам – стоимость пары лошадей) была оценена «Пьета Ронданини» МИКЕЛАНДЖЕЛО. Пусть и незавершенная. Что очень не много, учитывая, что трудился он над ней все последние двенадцать лет…
О Буонаротти ходили слухи как о человеке небогатом. Говорили, что разъезжая по городам – а разъезжал этот величайший из тогдашних, грубо говоря, передвижников много – он брал себе и парочке подмастерьев один гостиничный номер с одной на всех кроватью. Что породило кочевавшие из века в век сомнения насчет его ориентации. С сексуальными предпочтениями героев мы будем разбираться отдельным чередом, пока же заметим, что постель с учениками Микеланджело делил, скорее всего, из соображений экономии средств – многие современники открыто обвиняли маэстро в скупости. Отец, например, очень переживал, что равнодушный к роскоши сын ведет до того непрезентабельную жизнь, что его и уважать-то никто не будет. «Всегда небрежно одетый, перемазанный красками и осыпанный мраморной крошкой», он всю жизнь жаловался на жуткие убытки и недоимки и – как пишут одни – обычно отказывал просящим о помощи, не делая исключения даже для родных. Другие же утверждают, что наш герой был напротив как никто щедр: «бездарным братьям купил земли и мастерские, племяннице преподнес в приданое поместье». Вазари, который чуть не всех гениев средневековья знал лично, и о каждом мемуаров понаписал, оправдывался: не был Микеланджело скрягой, раз даже подарил кому-то из учеников две тысячи скудо – вот просто так, из жалости, что после его смерти тому придется искать себе нового хозяина…
Две тысячи скудо (они же дукаты) – это действительно очень много. Это больше гонорара того же Донателло за памятник кондотьеру. Но в том-то и дело, что кто-кто, а Буонаротти мог позволить себе такой жест…
Рассказывают, что в жилище умершего Микеланджело обнаружили лишь стул, табуретку, кровать и мольберт. Да, соглашается американский искусствовед Рэб Хэтвильд – плюс сундук с золотом, которого хватило бы на покупку любого из дворцов Вечного города… Прокорпевший над бухгалтерией Буонаротти восемь долгих лет, он доказывает, что тот умер, оставив после себя ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ долларов. А, стало быть, был не просто миллионером, но и вообще самым богатым художником в истории человечества.
Столько, сколько платили Микеланджело, не платили больше никому и никогда. Вот несколько примеров…
Работая над библиотекой Лауренциана (первой публичной библиотекой Западной Европы) он получал содержание в 15000 скудо (600 тысяч долларов в год)… Сорок три тысячи, из которых двадцать пять ушло на краски, выплатил ему за Сикстинский плафон Юлий II. Что называется – в одни руки, ибо расписал потолок в одиночку, без помощи даже подмастерьев. А это, как ни крути, еще минимум 720 тысяч баксов. И это без учета разовых подачек по полтыщи дукатов – типа той, которую понтифик послал художнику после того как в сердцах «поколотил его палкой» за нерасторопность в работе… Шестнадцать тысяч золотых монет выложил папа за так и не достроенную гробницу. Хэтвильд утверждает, что её проектная стоимость зашкаливала за 10 миллионов долларов. Пусть даже и с учетом цен на каррарский мрамор, который наш герой выбирал и приобретал лично – это сумасшедшие деньги…
Помимо этого папы «эпохи Микеланджело» (Юлий II, Климент VII и Павел III известны лишь тем, что пользовались его услугами) одаривали скульптора должностями, суть которых сводилась исключительно к регулярному получению денег. Известно, например, что Буонаротти было пожаловано право взимать плату с паромных переправ через реки. Кроме того, он постоянно вел торговые операции – в основном с недвижимостью. Достоверно известно, что на протяжении многих лет Микеланджело активно скупал земли. Из документа, датированного 1534 годом, следует, что к тому времени «художник владел шестью домами и семью поместьями во Флоренции, Сеттиньяно, Ровеццано, Сан-Стефано-де-Поццолатико, Страделло и других городах, не говоря уже о собственности в Риме»…
И все-таки главным источником его доходов было творчество. Рассказывают, что Микеланджело подряжался сделать ВЧЕТВЕРО против того, что было по силам человеку. И брал за это баснословные авансы – ВСЕГДА авансы, которых частенько не отрабатывал. По причине, как пишут, своего то и дело «печального настроения»…
Сколько-то внятного объяснения постоянным бегствам художника из одного конца Италии в другой нет и по сей день. Обычно говорится об унаследованном им от отца бреде навязчивых состояний, о параноидном стремлении видеть во всех и каждом врагов, готовящих западни и о порождаемых всем этим депрессиях, мешавших титану завершать начатое… Спорить не станем: звучит по-своему логично. Но если всего на минуту поменять телегу с лошадью местами, получается совсем иная картинка. Не разумней ли предположить, что, не успевая отработать понабранных авансов, г-н Микеланджело и впадал то и дело в меланхолические ступоры, которые мчали его за тридевять земель, подальше от неприятностей и объяснений с разгневанными заказчиками – теми самыми «врагами и недоброжелателями» – к новым: еще доверчивым и готовым авансировать первого среди лучших.
Предположение несколько приземляет личность титана. Но давайте не забывать, что некоторый аферизм и склонность ловчить были присущи подавляющей части исторических персон штучного характера. Те же Моцарт с Марксом первые половины жизней проматывали отцовы накопления, а потом десятилетиями одалживались у окружающих, ну просто каким-то чудесным образом избегая необходимости возвращать занятое – о чем мы, разумеется, расскажем в подробностях. Но даже с учетом этого один всё-таки Моцарт (!), а другой худо-бедно Маркс (!). И мы без труда отыщем, чем оправдать их чисто человеческие гниловатинки…
То же и с Микеланджело. Никто не собирается записывать его в сознательные жулики. Но: из 15 обещанных кардиналу Пикколомини статуй для собора в Сине, он не сделал и трети – забуксовал на пятой. Но: лишь потому, что переключился на Давида, за которого теперь мы простим ему всё, что угодно. Как и за собор Святого Петра, за который он, как рассказывают, не взял ни гроша…
Конечно, скульптором двигало не стремление облапошить очередного филантропа. Просто стечения обстоятельств вынуждали его время от времени бормотать себе под нос что-то типа: «Ах, ну ладно, это последний раз!» и велеть служкам спешно распродавать евреям утварь (см. воспоминания Вазари) и паковать чемоданы. Во всяком случае, хорошо известно об угрозах герцога урбинского Франческо Мариа – племянника того самого Юлия, на деньги которого за не сотворенную гробницу Микеланджело «жил во Флоренции в свое удовольствие» – добраться до мошенника и стрясти всё до последнего скудо. И будьте уверены: добрался бы и стряс, кабы не заступничество нового папы, которому срочно понадобилась упоминавшаяся выше библиотека…
В небезосновательности столь примитивных и, наверное, оскорбительных для памяти гения кисти и зубила суждений убеждают жизненные перипетии и ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ – человека с до того скверной кредитной историей, что пользуясь нынешней терминологией, мы просто вынуждены окрестить его типичным кидалой.
Выпустившись из мастерской Верроккьо, 20-летний Леонардо был зачислен в цех флорентийских художников и начал самостоятельную практику. Но правила игры были четко обозначены и сводились, собственно, всего к двум пунктам: первое – художественное произведение должно нравиться заказчику, какими бы лоховскими (с точки зрения автора) соображениями тот ни руководствовался; и второе – заказ следовало выполнить в срок. И великий в будущем член, так сказать, флорентийского союза художников с первых же дней снискал репутацию субъекта, игнорирующего оба требования.
Схема отношений «заказчик-исполнитель» была такова: вместо гонорара нанятому мастеру выплачивалась ежемесячная зарплата, а также предоставлялись проживание, пропитание, расходные материалы и оплаченные помощники. Твори и успей к оговоренной дате. Леонардо, как правило, не успевал. Что приводило к необходимости возвращать всё до последнего потраченного на него сольдо. Плюс, извините, неустойка. Отчего, в отличие от, например, творивших во Флоренции тогда же братьев Гирландайо, отличавшихся умением трафить вкусам заказчиков и безукоризненной пунктуальностью в выполнении договорных обязательств, наш герой вечно был в долгах, как те в шелках. И спасался исключительно инженерными работами (канал, соединивший Флоренцию с Пизой – его работа). А художественные заказы чаще всего либо просрочивал, либо недоделывал…
Так было со «Святым Иеронимом» для – теперь уже лишь предположительно – фрески одного из алтарей одного из соборов… Так было с «Поклонением волхвов» – знаменитым алтарным образом для монастыря Сан Донато – Леонардо изготовил множество подготовительных картонов и этюдов с тщательной геометрической разметкой, и даже начал писать картину на дереве, но – «охладел, потерял интерес и бросил». И покровитель искусств Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным, был крайне недоволен…
То есть, толстосумы понимали: талант недюжинный, да больно необязательный. Инвестировать человека, то и дело отвлекающегося на что-нибудь постороннее, делалось всё небезопасней. И когда герцог Лодовико Моро пригласил Леонардо к себе в Милан, нерасторопный (если уж называть вещи своими именами) художник тире гидротехник согласился, не раздумывая, и проведенные там семнадцать лет считаются теперь порой расцвета талантов да Винчи…
Заполученному им месту можно было позавидовать (и завидовали!). Университетские профессора в то время получали от 500 до 2000 флоринов в год – ставка зависела от квалификации, знания древних языков и т. п. А годовой заработок ученика художника не превышал 10–12 монет… Герцог положил Леонардо максимум – две тысячи…
Для полной ясности переведем эту бухгалтерию на язык сегодняшних цен. Полноценный золотой флорин весил 3,537 грамма. Таким образом, нынешняя его стоимость (разумеется, не нумизматическая) составляла что-то порядка 42 долларов США. Римский дукат ценился чуть-чуть дешевле. Отсюда явствует, что Леонардо был приглашен на жалованье в 80 тысяч долларов в год. Без учета разовых гонораров…
Впрочем, герцогу эти расходы были не обременительные: его годовая прибыль переваливала за 650 тысяч золотых, в у.е. можете перевести на досуге сами…
Рослый, красивый участник всех турниров и состязаний – он был прекрасным фехтовальщиком, искусным пловцом и наездником, танцором и певцом, поэтом и музыкантом (чудесно играл на лире), рассказчиком и собеседником – Леонардо пришелся куда как ко двору. Хотя в Милан его позвали совсем не за красивые глаза: герцог предложил ему сотворить конный памятник своего отца Франческо Сфорца. И обличенный таким доверием и честью Леонардо загорелся. Прежде всего – идеей изваять коня, подобного которому еще не было. Он пообещал изготовить животное (и всадника, естественно) в масштабе минимум 2:1 и принялся за дело. Вернее, за подготовительные работы: скрупулезно изучал анатомию лошади, проблематику равновесия и т. п. Что потихоньку превращало его в того, кем мы теперь и знаем – в универсала эпохи. Одна беда: к заказу всё это имело куда как косвенное отношение. Ну да ведь на твердой зарплате можно позволить себе и не такое…
В общем, через двенадцать лет глиняный протопит был готов и даже выставлен на любование миланцев как образчик совершенства. До бронзового же воплощения шедевра дело, как известно, не дошло: шестью годами позже (Леонардо к тому времени уже не было в городе) Милан был захвачен французами, расстрелявшими модель из арбалетов…
Вспомним и о знаменитой «Мадонне в гроте» – первом из миланских заказов Леонардо-живописцу. Начальный вариант иконы был забракован, госприемщиков смутила слишком уж неканоническая техника исполнения (известная ныне как прославившая да Винчи сфумато – «исчезающее как дым»). Второй вариант появился лишь двадцать лет спустя…
Нет, всё, конечно, было не так уж и плохо. «Дама с горностаем» (портрет юной возлюбленной герцога Чечилии Галлерани), бессмертная «Тайная вечеря» и украшающая ныне Эрмитаж «Мадонна Литта» были выполнены по первому требованию и подтвердили реноме да Винчи как удачного приобретения.
Щедрое содержание (которого, как указывается везде и всюду, привыкшему сорить деньгами да Винчи всё равно не хватало) в известной мере окупали проекты суконновальных машин, мельниц и прочих технических приспособлений и приборов вкупе с организаций торжественных мероприятий – они тоже являлось его ноу-хау и обязанностью…
Из оказавшегося в зоне боевых действий Милана Леонардо сбежал в компании упоминавшегося выше математика и монаха Луки Паччоли. Помотавшись пару лет, поступил на службу к Чезаре Борджиа, для которого рисовал карты, проектировал оборонительные сооружения и свои любимые каналы. Но и с Борджиа чего-то не заладилось – вернулся в родную Флоренцию. Где ему и довелось посоревноваться с Микеланджело. Причем не заочно. Обоим – на конкурсной основе – было предложено расписать одну из стен нового дворца Сеньории (Великолепный Лоренцо к тому времени почил, к власти пришли олигархи во граве с Пьеро Содерини, избранного пожизненным главой магистрата, наметился экономический подъем, и флорентийской казне было по силам устроить соревнование между лучшими из лучших).
Конкурсанту да Винчи положили стандартные прожиточные, пайковые, накладные плюс жалованье в 15 флоринов и отпустили на всё про всё девять месяцев. И Леонардо проиграл: не смог перенести «Битву при Ангиари» на стену – не успевшая даже просохнуть фреска осыпалась из-за очередного, как считается, его эксперимента с красками и смолами. Даже картон-образец исчез бесследно, и мы, похоже, никогда и не услыхали бы о нем, не сделай с него в свое время Рубенс карандашного рисунка…
Скорее всего, ему простили бы неудачу с фреской. Но кто-то услужливо доложил расчетливому заказчику, что работа над «Битвой» была для Леонардо лишь прикрытием и что вместо нее он активнейшим образом халтурит налево.
И это было горькой, но правдой: именно в ту пору наш герой сторговался с купцом Франческо дель Джоконда насчет портрета его супруги Лизы Герардини. Нам возразят: точной даты не знает никто – лишь ориентировочно 1503-1506-й. Согласимся. Заметив, что по той же причине неопровержимо и то, что эти два заказа выполнялись одновременно.