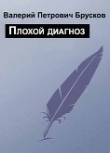Текст книги "Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному"
Автор книги: Сергей Сеничев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 29 страниц)
Из статьи Кюи во влиятельнейших «Санкт-Петербургских ведомостях»: «Консерваторский композитор г. Чайковский – совсем слаб». Какая уж тут зебра?.. Или из Римского-Корсакова: «К Чайковскому в кружке нашем относились если не свысока, то несколько небрежно». Вспоминая о знакомстве с Петром Ильичем, Николай Андреевич отмечал, что тот умел держать себя «КАК БЫ всегда искренно и задушевно». А вот и из его ученика Глазунова: «…к середине 80-х годов уже не было той идейной замкнутости и обособленности, как раньше, тем не менее, мы не считали П. И. Чайковского своим. Мы ценили некоторые его произведения, как «Ромео и Джульетту», «Бурю», «Франческу», финал из 2-й симфонии; прочее из творчества П. И. Чайковского было нам неизвестно или ЧУЖДО»… То есть, в ресторациях вместе сиживать – это сколько угодно, но кроя и фасона мы разного!..
Известно, что в свою очередь и Петр Ильич не принимал эстетики кучковцев. И тут парадокс: романтизм балакиревцев и мелодизм Чайковского были родом из одной шинели – из Шуберта. Ряд сочинений «друзей» в его статьях – цитируем: «нашел сочувственную оценку». Музыку же Мусоргского Чайковской, напомним, иначе как МУСОРгской не называл, «от всей души посылал ее к черту» и утверждал, что это «самая пошлая и подлая пародия на музыку». О «Борисе Годунове»: «музыкальная асафетида» (для несведущих: это такое дурно пахнущее смолистое вещество). И это не в приватной беседе – это на страницах газеты…
Так что «не принятый» звучит безо всякой натяжки. Зато: отвергнутый самым прогрессивным отрядом отечественных коллег Петр Ильич был любимцем реакционера Александра III, который обожал музыку «элегического, минорного и даже жалобного Чайковского», а самого автора расценивал как показательно лояльного режиму художника. Ну не случилось в истории российского сочинительства персоны, более Чайковского потрудившегося на воспевание имперских настроений и побед русского оружия…
У биографов композитора считается хорошим тоном подчеркнуть его скромность, застенчивость и «панический» страх перед всем придворным. Однако эти милые качества никак не помешали Петру Ильичу состоять в самых теплых отношениях с целой кучей Романовых. Например, с Великим князем Константином Константиновичем (тем самым К.Р.), на слова которого он писал романсы…
А его папеньке – Великому князю Константину Николаевичу (второму сыну Николая I) наш герой был до конца дней благодарен за покровительство в постановке на сцене императорских театров его ранних опер. Петр Ильич даже посвятил патрону своего «Опричника». А памяти жены Великого князя Михаила Павловича (брата Александра I) – Еленой Павловной ее звали, или Фредерикой-Шарлоттой-Марией, если по-вюртембергски – «Кузнеца Вакулу, или Ночь перед Рождеством», переименованную позже в «Черевички». Дюжина романсов Чайковского была посвящена императрице Марии Федоровне – это уже по личной просьбе государыни…
И именно монархисту Чайковскому была заказана «Торжественная увертюра на Датский гимн» по случаю бракосочетания принцессы Дагмар с тогда еще наследником престола. К вопросу о «тесен мир»: в толпе восторженно провожавших ее на чужбину замуж соотечественников видели рыдающего Ханса Кристиана Андерсена…
А на обеде в честь коронации Александра III, прошедшем в Грановитой палате Кремля, оркестр и хор Большого театра исполняли специально написанную Петром Ильичом кантату «Москва». И на пышных торжествах в Сокольниках звучал «Торжественный коронационный марш для оркестра», заказанный Чайковскому Московским городским головой. Кроме гонорара в 500 рублей император пожаловал за него Петру Ильичу перстень стоимостью в полторы тысячи целковых (он, правда, расстроился: «…вместо денег мне прислали кольцо с бриллиантом»)…
Считается, что личное знакомство композитора-патриота и государя-мецената (да-да, всё, что прославило культурную Россию вовне, началось именно при Александре III) состоялось лишь в 1885-м, на одном из спектаклей оперы «Евгений Онегин». Что неправда. Г-н Чайковский был официально представлен императору годом раньше, с каковой целью был зван непосредственно в Гатчину…
«Онегина» приплетают сюда для стройности картины, он был поставлен в Петербурге по личному распоряжению Александра – столичные завистники твердили, что опера никудышная (критики называли ее деревянной!), совершенно несценичная (!!), да и публике не нравится (!!!). А государю она показалась очень даже и ничего. И с того самого момента на Петра Ильича посыпались куда как прилично оплачиваемые заказы на написание духовной музыки – царь-Миротворец был ко всему прочему набожен и сентиментален…
Любопытен рассказ видного историка и теоретика музыки Л. Сабанеева о том как году в 1887-м, в очередной из краткосрочных периодов безденежья, композитор разогрел себя коньячком, написал и снёс на почту личное письмо царю с просьбой одолжить три тысячи рублей – сумму по тем временам весьма внушительную.
То есть, не то чтобы у самодержца столько не нашлось бы, но, осознав поутру нестандартность собственной выходки, Петр Ильич примчался на почтамт требовать вернуть ему отправление. Да где уж, сказали там, отправлено-с! И скромного да застенчивого (помните биографов?) Чайковского объял ужас: неделю он не мог придти в себя, ожидая самого страшного. А вместо этого – бац и письмо от министра двора, который со всем подобострастием сообщал, что император «соблаговолил ему передать испрашиваемые им три тысячи рублей и просил при этом передать, что «его величество сочтет себя очень обиженным, ежели Петр Ильич вздумает ему возвращать эти деньги». И в том же, кстати, 1887-м г-ну Чайковскому была пожалована пожизненная пенсия в те же самые 3000 рублей серебром на год.
Вскоре после чего композитор писал, что «столь обласканный императором» он «выглядел бы неблагодарным», согласившись теперь лично участвовать в открытии Всемирной выставки в Париже. Выставка была приурочена к 100-летию небезызвестной революции, что хотя бы и косвенно, но могло не импонировать его величеству…
Мы вовсе не пытаемся уличить Петра Ильича в чем-то неблаговидном: есть царь, царь благоволеет, царь согласен оплачивать его гений – нормально ж. Но – нюанс: госзаказы г-н Чайковский получал и прежде, в правление Александра II. Так в 1880-м в Петербургском Большом готовилось торжественное представление к 25-летию правления Освободителя. И наш герой в числе ряда прочих композиторов получил от директора консерватории предложение написать музыку к живой картине «Черногория в момент получения известия об объявлении войны Турции». Отказываться от подобного рода халтур было не принято никогда. И Петр Ильич «принялся энергически за дело», и через три дня выдал заказчику готовую партитуру. Что, опять же: замечательно. Скверно другое: брату (Анатолию, кроме Модеста у него было еще два брата) написал: «Само собой разумеется, что ничего кроме САМОГО ПАКОСТНОГО шума и треска я не мог выдумать».
За «халтуру» – прощаете?..
А еще пару месяцев спустя ему было предложено выбрать один заказ из двух: либо ВЫДУМЫВАЙ увертюру на все то ж 25-летие коронации государя, либо кантату на открытие Храма Христа Спасителя. Оцените реакцию: «…без отвращения нельзя приниматься за музыку, которая предназначена к прославлению того, что, в сущности, нимало не восхищает меня… Ни в юбилее высокопоставленного лица (всегда бывшего мне порядочно антипатичным), ни в Храме, который мне вовсе не нравится, нет ничего такого, что бы могло поддеть мое вдохновение», – писал Петр Ильич одному из друзей. Однако тут же преодолел ОТВРАЩЕНИЕ и создал Торжественную увертюру «1812 год», без которой нынешние американцы просто не могут представить себе Дня ихней Независимости…
И как тут не вспомнить корсаковского пассажа про КАК БЫ искреннего Чайковского? Этот – такой Чайковский вряд ли сожалел о том, что остался за бортом «кучки», которую правительственная пресса иначе как «поджигателями республики изящных искусств» и не величала…
Ну и в довершение рассказа об искренности героя… Царевы три тысячи годовых были лишь скромным приварком к содержанию, которое Петр Ильич получал от небезызвестной баронессы фон Мекк.
Схоронив в 1876-м вдруг и капитально разбогатевшего супруга – больше, то есть, чем за десять лет до назначения нашему герою царевой пенсии – одинокая Надежда Филаретовна обратила свои взоры на прекрасное. И взоры эти пали на г-на Чайковского…
История их отношений романтизирована до предела. Непосвященные могут сколь угодно долго покупаться на восторженные всхлипы творцов этой «песни любви», мы же хотим поделиться чуть иной взглядом на происходившее. У нас нет никаких сомнений в том, что негетеросексуал Петр Ильич, по меньшей мере, тринадцать лет натурально водил за нос эту довольно непривлекательной наружности женщину. И четыре тома их переписки лишь усугубляют нашу уверенность в таком жестком выводе…
На протяжении всех этих лет Надежда Филаретовна ПЛАТИЛА Чайковскому за его дружбу: по 500 рублей в месяц. Что, заметьте, вдвое превышало обрушившиеся позже на композитора государевы милости. И это помимо русских усадеб и итальянских вилл, снимавшихся ею для удобства дорогого (в буквальном смысле) друга, помимо спонсирования его путешествий по швейцариям и прочим берлинам с парижами, помимо живых цветов, славшихся к каждому новому месту его временного обитания…
Нам говорят: спонсорство – ее личная инициатива. И мы не спорим. Отметив, правда, что г-н Чайковский практически с самого начала этой дружбы по переписке не стесняется просить у расположившейся богачки денег… Бесцеремонные «Попрошу Вас, друг мой, послать мне бюджетную сумму по следующему адресу…» следуют одно за другим…
Нам говорят: Надежда Филаретовна сама настояла на заочном характере общения. Но мы не понимаем, почему должны верить этому. Это трудно стыкуется с тем, что он, не очень-то он комплексуя, сообщает ей о своей, пусть и заведомо фиктивной, а все-таки женитьбе. А она пишет ему потом: «Я ненавидела эту женщину за то, что Вам было с нею нехорошо, но я ненавидела бы ее еще в сто раз больше, если бы Вам с ней было хорошо. Мне казалось, что она отняла у меня то, что может быть только моим, на что я одна имею. Право, потому что люблю Вас, как никто, ценю выше всего на свете… Если Вам неприятно все это узнать, простите мне эту исповедь… Я проговорилась»… Вычеркните эту проговорку, и мы согласимся: да, встреч не хотела она…
Он грозился посвящать «милому бесценному другу» всё, что отныне напишет («Я ей обязан не только жизнью, но и тем, что могу продолжать работать, а это для меня дороже жизни»), а посвятил лишь Четвертую симфонию – анонимно – «моему другу». Так – будто бы по ее же настоянию…
Нам говорят: финансовая помощь баронессы прекратилась лишь оттого, что ее дела пришли в упадок. Господи! Ну надо же было женщине как-то объяснить этому милому господину, что – УЗНАЛА!.. Из письма Петра Ильича брату Анатолию: «Кстати о фон Мекк. Она мне давно не писала, и, конечно, по свойственной мне подозрительности, я уже вообразил, что она меня разлюбила, что она узнала про ТО и хочет прекратить всякие сношения…».
ТО выделено нами, и найдите ему какое-то безобидное толкование. А писано это в канун рождества 1877-го, то есть в самом начале доения – и тут смягчите, если сумеете – им бедной фон Мекк… Петр Ильич был готов к УЗНАТИЮ с самого начала, и когда оно произошло, конечно, отчаялся, но переписку со своей стороны тут же прекратил. Что это, если уж называть вещи своими именами, как не чистейшей воды интеллектуальный альфонсизм?
Впрочем: кабы не Петр Ильич – услыхали ль бы мы когда о баронессе?..
И всего еще одна реплика из его письма брату Анатолию: «Вообще я иногда удивляюсь своему сребролюбию и жадности к деньгам».
А мы не удивляемся.
И отважились на эту долгую-долгую историю дополнений к творческой биографии величайшего из наших композиторов только затем, чтобы лишний раз задаться набившим оскомину вопросом: НЕ продается вдохновенье?
Во время работы над Шестой симфонией, названной Модестом «Патетической», композитор вновь ощутил нехватку наличных. Пожаловался издателю. Тот в ответ: а ты понапиши мне каких-нибудь романсов с фортепьянными пьесками – за каждый по сто рублей выложу. И Петра Ильича понесло: «Пеку свои музыкальные блины» – хвастался он, приказав себе творить минимум по вещице в день. За две недели напеклось восемнадцать пьес и шесть романсов. Издатель назвал их шедеврами и выложил за каждый по сто пятьдесят. «Просиди я так год в деревне – стал бы миллионером», – пошутил Чайковский.
В октябре его не стало. Но это уже, как пишут в таких случаях, совсем другая история…
ШОСТАКОВИЧ – несомненный музыкальный гений. Совершенно несомненный: «…люди понимали, что живут в одну эпоху с гением». Или вот из Олеши: «Кто-то сказал, что Шостакович – это Моцарт». Кто сказал – так ли уж важно? Видимо, кто-то, считавший Дмитрия Дмитриевича самым гением из всех отечественных композиторов. Ну, разве, после Мусоргского. Смотрел, дескать, на жизнь земную «как бы сверху, из космоса»…
Да чего там Мусоргский, Моцарт – говорили, что больше него за свою музыку один только Орфей пострадал. А потом и Орфей как сравнение оказался мелковат, и Шостаковича напрямую к Христу приравнивали. Еще при жизни…
Теперь позвольте несколько слов о взаимоотношениях героя с советской властью и советскими же дензнаками.
Находятся культурологи, утверждающие, будто чуть ли не всю историю сталинизма можно рассматривать как одну непрекращающуюся дуэль отца народов с этим пастырем от музыки. И рассматривают. И даже получается, что так оно, скорее всего, и было: антагонист Иосиф четверть века борол-борол, да так и не поборол протагониста Дмитрия: записал, дескать, его в свои личные юродивые – как Николай Пушкина – и повелел не трогать…
Юродивый – в нашем представлении – это некто сирый в рубище и веригах, плевать не хотевший на то, что о нем подумают, скажут, и даже на то, что с ним, бедолагой, сделают, если вдруг чего не того ляпнет… И обожествители Дмитрия Дмитриевича, понятное дело, рассказывают нам о периодах переживаемой им «крайней нужды». Приводят, например, кусочек из письма композитора одному из друзей: «Если раньше я зарабатывал по 10–12 тысяч в месяц, то сейчас набегает еле-еле 2000–3000. Уже во многом приходится себе отказывать». И мы бы тоже расчувствовались, но уточним: среднемесячная зарплата рабочего в ту пору (речь о 1936-м) составляла 200–300 рублей. Врач со школьным учителем кормились на те же 300. Профессор Московской консерватории имел 400–500 рэ. Тысячи и десятки тысяч зарабатывали звезды – джазмены, например… То есть, быстренько представим себе Христа, плачущегося, что он бедней Каифы или Пилата, и да простит нам история и сам Дмитрий Дмитриевич, но с Иисусом мы его равнять не будем, ладно? Некорректно как-то…
Спору нет: Иосиф Виссарионович был негодяй. Над Дмитрием Дмитриевичем, во всяком случае, измывался направленно и последовательно. Да: в январе 1936-го, после премьеры «Леди Макбет Мценского уезда» 29-летний гений был превращен в настоящего мальчика для битья. «Это – музыка, умышленно сделанная «шиворот-навыворот» – так, чтобы ничего не было общего с симфоническими звучаниями… Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке» – говорилось в знаменитой статье «Сумбур вместо музыки» (ее авторство небезосновательно приписывается самому Сталину; вождь, кстати, в отличие от всех последующих руководителей страны был вполне себе подготовленным меломаном, знал и любил Бизе, Верди, Чайковского, Бородина, Глинку и др.).
Но: эта личная катастрофа Шостаковича была всего лишь частью заранее продуманной широкоформатной разгромной кампании «против чуждой советскому искусству лжи и фальши» – вскоре прогремели и другие громкие статьи-обвинения: «Грубая схема вместо исторической правды» (о кино), «Внешний блеск и фальшивое содержание» (о театре), «Какофония в архитектуре», «О художниках-пачкунах»…
Но: это был еще не людоедский 37-й. И когда Горький и Запад (в лице Роллана и других «друзей СССР») вступились за «весьма нервного» Шостаковича («которого статья ударила точно кирпичом по голове»), Сталин задумался. А когда НКВД донес о близости молодого автора к самоубийству («ходил по комнате с вафельным полотенцем и говорил, что у него насморк, скрывая слезы»), Сталин – Сталин! – дал задний ход. И 7 февраля – всего через 10 дней после «Сумбура» – Шостаковича вызвали в Кремль и передали «несколько вопросов и предложений» отца народов. А именно: «по примеру Римского-Корсакова поездить по деревням Советского Союза и записывать народные песни России, Украины, Белоруссии и Грузии и выбрать из них и гармонизировать сто лучших». А именно: «перед тем как он будет писать какую-либо оперу или балет, присылать нам либретто, а в процессе работы проверять отдельные написанные части перед рабочей и крестьянской аудиторией». И главное: «признает ли он критику его творчества»?..
Ну совсем как с Галилеем: выбрать, вертится или не вертится, предложили самому. И Шостакович выбрал не вертится: сказал, что «большей частью признает, но всего еще не осознал». И отменил («снял с исполнения») премьеру готовой Четвертой симфонии – на четверть века отложил – и окунулся в сочинение «нужной» музыки к кинофильмам. К трилогии о Максиме, к двухсерийному «Великому гражданину» (об убийстве Кирова)…
И тут, как пишут, и возник призрак «полного безденежья» (те самые жалкие две-три тысячи вместо привычных 20–30).
Но: весну следующего, страшно безденежного для него (1937-го) года Шостакович провел в Крыму, в санатории для видных ученых и деятелей культуры, в компании академика Иоффе, кинорежиссера Протазанова, пианиста Оборина… Вечерами гулял по райскому парку (райским его не мы называем – плакальщики), а утрами писал знаменитую Пятую симфонию, в которой весь трагизм 30-х…
То есть, опять же: спору нет: Дмитрий Дмитриевич был поистине велик, и после всего случившегося с ним в 36-м чувствовал себя страдальцем (так пишут и спорить не будем, несмотря что страдальцев об те годы можно и пострадальней сыскать) и музыка из тех страданий рождалась поистине нечеловеческая. Но: уже в декабре 37-го занявший после загадочной смерти Горького место «ведущего писателя» красный граф Толстой писал в «Известиях» – пусть во второй, но ведь во Второй газете страны – об авторе Пятой симфонии абсолютно санкционированное: «Слава нашему народу, рождающему таких художников!» А товарищ Сталин – в «Правде» уже – назвал Пятую «деловым творческим ответом советского художника на деловую критику». И в 38-м, сразу после триумфальных исполнений симфонии в Ленинграде, а затем и в Москве (и отдельно еще – специально для партактива) она вышла на пластинках. И вскоре Толстой публично поднимал бокал «за того из нас, кого уже можно назвать гением!»…
А в 1940-м вождь учредил премию имени себя. И первым лауреатом первой Сталинской премии ПЕРВОЙ степени (100 тысяч рублей в довесок к немыслимому моральному бонусу) среди композиторов стал в 1941-м давно уже снова профессор Ленинградской консерватории Шостакович. За действительно потрясающий фортепианный квинтет… А через год – еще одна первая премия – за легендарную Седьмую («Ленинградскую») симфонию, превращенную вскоре в один из главных культурно-пропагандных символов Великой Отечественной. За которую на Западе автор был вознесен на небывалую высоту (его портрет красовался на обложке «Таймса» – честь, которой добивались и по сей день продолжают добиваться первые лица государств). А потом так же стремительно низвергнут. Рахманинов после прослушивания Седьмой изрек знаменитое: «Ну, а теперь пошли пить чай». А остальные – сколько-то сведущие слушатели – констатировали, что «опус слеплен из Малера и Стравинского».
Впрочем, спорить не будем – и без нас есть кому…
А после войны (с 43-го Сталин раздачу слонов на потом отложил) у Шостаковича снова премия – вторая, правда, но тоже худо-бедно 50 тысяч – не учительские 300 рэ?…
И снова – просто для сравнения: а эвакуированная в начале войны в Елабугу ЦВЕТАЕВА за пять дней до самоубийства писала заявление о приеме на работу в столовую местного Литфонда… На место судомойки…
В мае 1946-го композитору позвонил Берия и известил, что ему «дают большую квартиру в Москве, автомобиль и шестьдесят тысяч рублей». Дмитрий Дмитриевич, было, заотнекивался: мол, обойдусь, мол, привык зарабатывать на жизнь самостоятельно. На что Лаврентий Палыч сказал: «Но это же подарок! Если Сталин подарил бы мне свой старый костюм, я и то не стал бы отказываться, а поблагодарил бы его». И Дмитрий Дмитриевич сел и написал благодетелю: «…Вы относитесь к моему положению очень сочувственно. Все мои дела налаживаются великолепно. В июне я получу квартиру из 5 комнат. В июле дачу в Кратово и, кроме того, получу 60000 рублей на обзаведение. Всё это меня чрезвычайно обрадовало».
Да, в 48-м, в ходе очередной капании по борьбе с сумбуром, за «Антиформалистический раек» его выгнали с работы из Московской и Ленинградской консерваторий. И газеты вновь запестрели приговорами: «у советских людей давно уже болит голова от музыки Шостаковича и т. п.». И из уст ответственных лиц зазвучало: «Товарищи! Запомните! С Шостаковичем покончено раз и навсегда!» И он, как пишут, снова «ожидал ареста и думал о самоубийстве»…
Но: весной 49-го его вызвал Молотов и предложил отправиться в Нью-Йорк, на всемирную конференцию в защиту мира. И ожидавший ареста Шостакович отказался: плохо, де, себя чувствую, не поеду…
Хорошо известны истории двух звонков Сталина – Булгакову и Пастернаку. Одного генсек освободил от творческой опалы и вернул во МХАТ, другого пожурил за то что тот за Мандельштама не заступился… Ну, помните…
А вот о звонке Иосифа Виссарионовича Дмитрию Дмитриевичу вспоминают реже. Сталин позвонил осведомиться насчет причин отказа и Шостакович объяснил: музыку мою больше года уже не играют, в Союзе она вообще запрещена, вот и кто я такой, чтобы страну представлять. «Как это не играют? Почему это не играют? По какой причине не играют?» – запричитал вождь. – «Главрепетком не велел» – «Нет, мы такого распоряжения не давали. Придется товарищей из главрепеткома поправить… А что там у вас со здоровьем» – «Меня тошнит», – ответил Шостакович без обиняков. «Почему тошнит? – снова не понял вождь, – Вам устроят обследование».
И было обследование, и кремлевские врачи подписали: Шостакович и впрямь болен. Но ехать всё равно придется, нечего хозяину перечить. Тем более что приказ главрепеткома в отношении запрета композиторов-формалистов (его, Прокофьева, Хачатуряна и др.) отменен. И Шостакович сел и поехал. И «нервным и дрожащим голосом» зачитал там осуждение «клики поджигателей войны», после чего от него на западе отвернулись уже все, кто только мог…
Да, он «жил в тюрьме и боялся за детей и за себя». Но тогда же написал ораторию «Песнь о лесах» и кантату «Над родиной нашей солнце сияет» (он сам отзывался о них как о «позорных»), а также музыку к славящим Сталина фильмам «Падение Берлина» и «Незабываемый 1919-й». За которые тут же был удостоен четвертой уже Сталинской премии. А вскоре – и пятой: за цикл хоров о революции 1905 года. Уж их-то сочинять вряд ли заставляли, уж это-то, извините, конъюнктура чисто финансового характера.
Но: в 1960-м, когда и бояться-то было уже некого, Шостакович вступил в партию (при этом, по свидетельствам друзей «пил водку, горько плакал»)…
Но: в 1973-м Шостакович оказался в числе подписантов письма в «Правде» против Сахарова. И многие перестали подавать ему руку, а Чуковская констатировала: «Пушкинский вопрос разрешен навсегда: гений и злодейство совместимы»…
Выводы – не наше дело. Мы всего лишь пересказали историю великого композитора с акцентом не на гений, а на деньги. И давайте уже снимем розовые очки и признаем очевидное: всё, что делали Леонардо, Шекспир, Моцарт, Пушкин, Эйнштейн и прочие – делалось ими с единственной целью: заработать. А еще лучше – обогатиться.
Из автобиографии ЧЕЛЛИНИ: «Глупцы, я – бедный золотых дел мастер и готов работать на любого, кто мне заплатит!»…
Из письма МОЦАРТА: «Поверь мне, моя единственная цель – заработать как можно больше денег; ибо после доброго здравия деньги – лучшее приобретение!»…
Из ЧАПЛИНА: «Я пришел в кино ради денег, и потом из этого выросло искусство. Если кто-то разочарован этим признанием, я тут ни при чем. Ведь это правда»…
«Все, кроме завзятых болванов, всегда писали только из-за денег», – припечатал однажды Сэмюэль ДЖОНСОН.
И таких цитат можно наудить на добрую дюжину страниц. Их искусства произрастали из жажды денег… Разница лишь в том, что, в отличие от подавляющей части современников, занимавшихся примерно тем же и в тех же целях, наши герои творили вдохновенно. Обогащая культуру несоразмерно большим, нежели требовалось на пропитание и даже – время от времени – на роскошествование…
И не кажется ли вам, что, сами того не желая, мы уперлись в необходимость слегка ужесточить ход повествования. Деваться дальше просто некуда, и мы вынуждены ступить на зыбкую почву темы под названием ХУДОЖНИК и ВЛАСТЬ.
Однако книжка не резиновая.
Об этом и многом другом – о великих честолюбцах, анахоретах, холостяках, девственниках, женоненавистниках, гиперсексуалах, подкаблучниках, «мужиках в юбках» и прочая-прочая-прочая – в следующем томе «ДИАГНОЗА»…