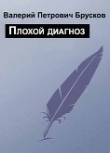Текст книги "Диагноз: гений. Комментарии к общеизвестному"
Автор книги: Сергей Сеничев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
Умер на восьмидесятом году жизни после единственной на всем ее протяжении болезни. Почувствовав, что отходит, старик вызвал слугу и объявил: «Слушай внимательно, что я тебе скажу. Я намерен в скором времени умереть. Когда это произойдет, поезжай к лорду Джорджу Кавендишу и сообщи ему о случившемся». Поняв, что хозяин не шутит (он вообще никогда не шутил), слуга осмелился порекомендовать исповедаться и причаститься. «Понятия не имею, что это такое, – ответил строптивец. – Принеси-ка лучше лавандовой воды и больше здесь не появляйся, пока я не умру».
К вечеру ослушник заглянул-таки проверить притихшего хозяина, и, найдя его едва живым, на собственный страх и риск послал за доктором. Явившемуся врачу умирающий заявил, что продление жизни означало бы лишь продолжение страданий. Тот счел последнюю из причуд своего великого пациента вполне резонной и оставил беднягу в покое…
Согласно завещанию, ни вскрытия трупа, ни даже элементарного осмотра не последовало. Более того: сразу же после похорон склеп с трупом был наглухо замурован. Никаких надписей на погребальнице было велено не оставлять. Ни одного сколько-то достоверного портрета Генри Кавендиша не сохранилось…
Человеком не от мира сего прошел по жизни и автор толстенного тома «Статей по электричеству достопочтенного Генри Кавендиша», его выдающийся соотечественник Джеймс Клерк МАКСВЕЛЛ. Дуралеем и не иначе паренька дразнили еще в школе (она напыщенно звалась Эдинбургской академией). И к тому имелись серьезные основания. Еще до школы домашние учителя, не отрицавшие, правда, феноменальной памяти ребенка, один за другим отказывались от занятий с ним – за очевидной бесполезностью. Тенденция сохранилась и в «академии». Вообще, интересы юного Максвелла выходили далеко за рамки школьной программы, и чаще всего за счет наплевательства на стандартный набор отчетных дисциплин (это едва ли не самая типичная «болезнь» большинства ярких ученых). В большинстве наук юный Джеймс был, мягко говоря, не силен, а по арифметике так и вовсе – «учился из рук вон плохо». Правда, любил геометрию (впоследствии его прославят именно силовые ЛИНИИ и магнитные ПОЛЯ). Что, впрочем, не помешает Максвеллу уже в 14-летнем возрасте опубликовать первую научную работу, поступить в прославленный некогда Ньютоном Тринити-Колледж, окончить его вторым по успеваемости и быть оставленным там же в качестве преподавателя.
Странным в Максвелле было, кажется, всё. И внешность: грудная клетка юноши была непропорционально широкой и короткой, что сразу же бросалась в глаза. И нелепая одёжка, в которую рядил его любящий отец, тоже по слухам жуткий чудак (мать 8-летнего Джеймса умерла от рака желудка; эта болезнь станет роковой и для самого ученого).
Распространению слухов о необычности соученика, потом студента колледжа, а затем и преподавателя способствовал и избранный им режим дня: Джеймс поднимался в семь утра, до пяти работал, после чего неукоснительно отправлялся спать. На этот промежуточный отдых он отводил себе ровно четыре с половиной часа. В половине десятого (вечера) снова вставал и запирался до двух ночи в кабинете. Неизменным завершением суточного цикла была получасовая гимнастика: молодой человек бегал по пустым коридорам и лестницам преподавательского общежития. В 2.30 он опять засыпал…
В отличие от своего кумира Кавендиша, Максвелл не испытывал женобоязни и в 27 лет женился – на дочери ректора. Брак оказался бездетным. И хотя биографы называли супружескую жизнь Максвелла «безупречно верной», они же донесли до нас сведения о «сниженной сексуальности» ученого. Семейная жизнь сделала нашего героя еще более нелюдимым. Он всё больше уходил в себя, дневников не вел, лишь разражался время от времени язвительными стишками о предметах споров и дискуссий, которых в последние десять лет жизни старательно избегал…
Между прочим, воспитанники «академии» долго еще распевали в дни особых торжеств гимн, сочиненный одним из первых ее выпускников по имени Джеймс Клерк Максвелл…
Баснословной рассеянностью, нелюдимостью и разговорами с самим собой славился первый политэконом Адам СМИТ. Славился с детства. Одних это настораживало, других пугало. В разговорах с этими «другими» профессор вдруг принимался любезно разглагольствовать по любому подброшенному поводу и не закрывал рта, покуда не выкладывал собеседнику всего, что ему бывало известно о предмете общения. Но стоило кому-нибудь засомневаться в его доводах, как Смит моментально менял точку зрения на противоположную и с удвоенным уже пылом доказывал обратное. Пытаясь объяснить этот феномен, биографы единодушно разводят руками и мямлят чего-то о невероятной покладистости великого шотландца…
В старости ФУРЬЕ хвастался, что у него, как у Ньютона, было свое яблоко прозрения: раз в одном из парижских ресторанов ему подали яблоко, стоившее в сто раз дороже, чем в Нормандии. С того десерта, дескать, всё и началось, ну да не об этом сейчас… Утопический социалист и автор проекта общества будущего он начинал как торговец колониальными товарами. Но череда революций перековала коммерсанта в пламенного борца с буржуазией. Родные полагали Шарля законченным неудачником, занятым никому не нужным сочинительством. Постоянно погруженный в свои мысли, он был чудовищно рассеян: по двадцать раз на дню – так и пишут: «по двадцать раз» – мог возвращаться домой за забытыми платком или какой бумагой…
Но рассеянность рассеянностью – с кем не бывает – наш герой сочетал в себе несочетаемое. Развившиеся с годами до чудовищных масштабов мнительность и недоверчивость удивительным образом уживались в нем с совершенно по-детски радужным видением мира. Наивности философа поражались даже немногочисленные ученики и друзья. Фурье, например, печатал в газетах объявления типа: жду с 12 до 13 по такому-то адресу (у себя в квартире) тех, кто пожелает спонсировать тот или иной проект. И ждал – годами…
Последние месяцы он пролежал, практически не вставая. Лекарства принимал, а от еды отказывался наотрез. Не мог выпить даже бульона или стакана молока. Жажду утолял ледяной водой либо сильно разбавленным вином. Однажды утром привратница вошла к нему в комнату и застала жильца стоящим на коленях, уткнувшимся лицом в постель. Отозваться на её оклик Фурье было уже не дано…
Какой-то патологической непосредственностью поражал окружающих ЛИБИХ. Его коллега и помощник Карл Фогт вспоминал, как однажды патрон торжественно встретил его со склянкой в руках и приказал: «А ну-ка обнажите руку!» После чего вытащил из скляночки влажную пробку и прижал к его запястью: «Не правда ли, жжет? Я только что добыл безводную муравьиную кислоту». Для тех, кто не в курсе: «безводная муравьиная», или метановая кислота – самая сильная из всех карбоновых кислот. У бедняги образовался белый шрам. Ему оставалось радоваться, что шеф открыл не цианистый калий и не велел попробовать его на вкус.
Еще о Либихе… Ставши как-то по случайности обладателем партии превосходного рейнвейна образца 1811 года (более чем полувековой, то есть, выдержки), он попробовал его и счел кисловатым. И тут же разбавил бог весть какими химикалиями («химию – в жизнь, и прежде всего – в продуктовую» было неписанным девизом ученого). Снова попробовал и отметил, что вино «приобрело мягкость, не потеряв ни одного из своих достоинств». И послал на радостях ящик исправленного реактивами напитка одному из друзей, который, в отличие от этого чудика, в вине разбирался отменно. «Что касается подарка, – писал тот в ответ, – то я благодарен тебе скорее за дружеские намерения, чем за само вино. Оно слишком старо и похоже по вкусу на лекарство. Я поменял его на красное»…
Великий ПУАНКАРЕ был просто гипертрофированным подобием маршаковского персонажа с улицы Басейной. Ему ничего не стоило отправить адресату конверт с чистым листком внутри. Раз, бредя куда-то, Пуанкаре обнаружил у себя в руках новенькую плетеную клетку для птиц. В полнейшем недоумении поплелся обратно и вскоре наткнулся на корзинщика, устроившего прямо посреди улицы выставку-продажу своих поделок. Не оставалось ничего, кроме как извиниться за неумышленное ограбление… Коллега ученого вспоминал, как шли они по Парижу, бурно обсуждая какую-то из математических проблем. Наткнувшись на свой дом, Пуанкаре исчез за дверью, не удосужившись попрощаться с собеседником. Причем тот прекрасно понимал, что вырази он назавтра обиду, мэтр будет в ужасном отчаянии…
Никола ТЕСЛА… Быть может, все это лишь слухи, но остальным даже в голову не пришло обрасти такими и столькими!.. Среди друзей и знакомых он был известен как удивительный экстрасенс. Известны случаи, когда он настоятельно убеждал кого-то не ехать данным поездом или не лететь конкретным самолетом, и впоследствии выяснялось, что поезд тот сошел с рельс, а самолет разбился. Тесла предчувствовал болезни близких, откликаясь на призывы о помощи заранее, до прихода писем и телеграмм…
Скорее всего, Тесла был и медиумом. Во всяком случае, утверждал, что умеет разговаривать с голубями и получает вести от марсиан. Так или нет, но в одном из писем он признавался, что «обнаружил МЫСЛЬ»: «вскоре вы сможете лично читать свои стихи Гомеру, а я буду обсуждать свои открытия с самим Архимедом»…
Он истово верил в омолаживающую силу электричества и убеждал всех вокруг, что добиться чего-нибудь в этом мире можно, лишь усмиряя естественные потребности организма. И усмирял, как только мог. Он почти не спал, а ел только затем, чтобы не умереть с голода. Отчего при почти двухметровом росте весил всего 64 килограмма. Он никогда не жил в собственном доме или в квартире, предпочитая спартанскую обстановку отелей (при этом останавливался в гостинице лишь на условии, что номер его апартаментов будет кратен трем). Ужинал в одиночестве. По крайней мере, с женщинами не ужинал ни разу. Во-первых, не решался пригласить. Во-вторых, испытывал нездоровое отвращение к женским волосам, серьгам и жемчугам…
Жемчуг Никола ненавидел с детства. При одном его виде у парня начинались судороги. Вкус персиков вызывал в нем лихорадку, а плавающие в воде листы бумаги провоцировали неприятный привкус во рту…
Идя на встречу с кем-либо, обязательно считал шаги. К тому же, мог ни с того ни с сего крутануть сальто и безо всякого смущения двигаться дальше…
Добавлять ли, что жуткая бытовая рассеянность этих столпов науки была лишь изнанкой их демонической же сосредоточенности на им одним видимых частностях?..
И все-таки чудаковатость наших героев оказывается сущими цветочками на фоне ягодок, которыми приходилось расплачиваться им за свои дары божьи. И самая смачная клубничка с этого натюрморта просто потрясает.
О ней и следующая глава
Глава третья
ВЕЛИКИЕ АЛКОГОЛИКИ
Поклонение Бахусу – неоспоримо главный из недугов тех, кого мы привыкли именовать гениями. Существует масса серьезнейших исследований, однозначно подтверждающих сей печальный факт. Клиническими алкоголиками были более трети (чуть точнее – 36 %) поэтов и писателей планетарного масштаба. С тем же диагнозом осталась в истории почти четверть (24 %) знаменитых композиторов и музыкантов – и это без учета идолов рок-культуры. Не слишком отстают от пьяниц-композиторов пьяницы-художники. Их показатель – 18 %. Следом идут видные политики и государственные деятели – каждый шестой (они, правда, лидируют как параноики и просто умственно отсталые). Ученые, изобретатели и отнесенные к ним прославленные шахматисты занимают следующую ступень – 12–13 %, что, в общем, уже не намного превышает аналогичный показатель среди т. н. нормального населения.
А теперь давайте попытаемся представить себе этот гигантский вытрезвитель, в котором лежат вповалку и бродят с одурманенными потухшими взорами сплошь до боли знакомые нам лица. И сразу станет жутковато.
Опьянение – добровольное безумие, припечатал как-то Сенека – как отрезал. И справедливо-пресправедливо! Но давайте тогда вспомним, что и любовь – тоже форма безумия. И тоже в каком-то смысле добровольного. Вспомним и условимся, что губительная зависимость наших героев от алкоголя и прочих психотропов – не столько результат их личностной безответственности, сколько вынужденная, а стало быть, сознательная плата за транзит по пути «опьянение – безумство – экстаз художника». Разумеется, речь не о вульгарном принципе «рюмашка – строчка» (фужер – мазок, бокал – аккорд и т. п.), но сколько-то сермяжная правда даже в таковой логике есть. Формулу постижения механизма вдохновения искали многие. Сделать этого не удалось никому. Одни туманные намеки: «Трезвый ум налагает на душу оковы / Опьянев, разрывает оковы она» (Хайям). Или: «Ты право, пьяное чудовище! / Я знаю: истина в вине» (Блок). А то и вовсе: «Вино меня уводит в глубь меня, / туда, куда мне трезвым не попасть» (Губерман, извините). Как не о пороке, а о таинстве каком, честное слово!
Но не было ли винопитие наших героев и впрямь в куда большей, чем у прочих смертных, мере оправданным и целенаправленным грехом?
Время от времени СМИ подкармливают нас очередной порцией скандалов из жизни спорстменов, подловленных на употреблении запрещенных стимуляторов. Мы все против допинга. И нам всем жаль застуканных. И не только ввиду грозящих им наказаний и отлучений от дела всей жизни – на самом, может быть, интересном месте, в шаге от высшей ступеньки пьедестала: нам еще и за здоровья их тревожно. Но мы же понимаем – всей планетой понимаем, что тот, кто не рискует, чемпионских лавров, как правило, не носит.
Так имеем ли мы право судить тех, для кого «лучезарный Аи», кокаин, опиум, водка и далее по списку были тем же, в сущности, допингом? С малюсенькой поправкой на то, что наши герои, в отличие от атлетов, во все века состязались не с себе подобными, но с абсолютом, и отдельные их «рекорды» стоили порой дороже всего олимпийского золота планеты…
Но хватит уже слов. Пройдемся по персоналиям. Со всей горечью заметив, что история российской культуры просто пестрит пьяницами. Незамаранных можно по пальцам пересчитать. Ну, Толстой, вроде, не злоупотреблял – Лев, в смысле, Николаевич. С некоторых как бы пор.
Ну, Тютчев с Маяковским, судя по всему, меру знали.
Ну, Пушкин точно не пьяница. Заметив на полях, что за свой недолгий век «солнце русской поэзии» успело отдать должное всему ассортименту доступных напитков, включая наливочки и настойки производства любимой няни, коими Арина Родионовна весьма щедро потчевала своего любимца. О чем можно судить по строкам не только великого романа в стихах, но и благодаря предательским воспоминаниям друзей поэта… Что же касаемо остальных… Прямо и не угадаешь, с кого бы это начать… Да вот, пожалуй…
«От болезни, развившейся вследствие НЕУМЕРЕННОГО употребления горячих напитков» умер ЛОМОНОСОВ, читаем мы у Смайлса. Тредиаковский был куда менее деликатен: «Хоть глотку пьяную закрыл, отвисши зоб, / Не возьмешь ли с собой ты бочку пива в гроб?»…
А известнейшим из собутыльников Михайлы Васильевича оказался тот самый БАРКОВ – «боец противу зелия закаленный, поскольку… был всю свою жизнь горчайший, весьма редко протрезвлявшийся». Согласно легенде, автор первой русской стихопорнографии и умер от побоев в публичном доме «по пьяному же делу». Успев произнести перед смертью короткую самому себе отходную: «Жил грешно, и умер смешно». По другой версии, 36-летний Иван Барков покончил жизнь самоубийством; оставив, правда, записку с тем же самым текстом…
Очень уважал Баркова – как ученого, между прочим, и как острого критика – и еще один прелюбопытный персонаж той эпохи, сочинитель од, басен, лирических песен, борзописец (предельно шустро творил, толковали уже), местами наглый плагиатор и вообще весь насквозь пиит СУМАРОКОВ…
За плагиатора не обижайтесь: хорошо известно, что трагедии свои сей драматург чуть не впрямую сдувал у французских классицистов. Раз Барков выпросил у него книгу Расина, отметил на полях все строки, заимствованные оттуда «северным Расином» и, пометив их язвительной подписью «Украдено у Сумарокова», вернул владельцу. Тот на подтырку очень осерчал, мирились за штофом…
А навестив старшего товарища в другой раз, Барков вдруг стал орать прямо с порога: «Сумароков великий человек! Сумароков первый русский стихотворец!» Смущенный и растроганный Александр Петрович послал за водкой прежде здрасьте. Гость же «напился пьян» и покаялся: «Алексан Петрович, я тебе солгал: первый-то русский стихотворец – я, второй Ломоносов, а ты только что третий».
Говорят, Сумароков его чуть не зарезал…
В могилу этого честолюбца, как и первых двоих, свело злоупотребление беленькой. На склоне лет он пьянствовал уже «без всякой осторожности»: беднягу нередко видели бредущим в кабак в белом шлафроке (халат на вате) с Анненской лентой через плечо…
Злокачественным алкашом был и их собрат по перу, и почти современник Ермил КОСТРОВ, о котором Пушкин писал: «Костров на чердаке безвестно умирает, Руками чуждыми могиле предан он».
Ермил Иваныч пил безудержно – «пить с воздержанием» на его языке означало пить так, чтобы держаться на ногах. Однако рассказывали, что с неких пор мало кто не устыжался пройтись с ним рядом по улице: Костров шатался даже на трезвую голову. Под занавес жизни опустился так, что не имел собственного угла и проживал то в университете, то по знакомым. Принято считать, что к такому положению вещей поэта привела горькая неудача на профессиональном фронте: он мечтал учить стихосложению с кафедры, а не вышло…
Так или иначе, скончался бедняга от белой горячки…
Преизрядным бражником вошел в историю и один из пушкинских приятелей Николай ЯЗЫКОВ – тот самый, сдавший Родионовну в известном посвящении: «…и водку нам, и брашна подавала». Николай Михайлович то ли боялся женщин пуще огня, то ли по каким иным, ему одному ведомым причинам был до них не самый большой охотник (тут просто томик стихов его достаточно открыть, и никаких свидетельств не надобно), и неловкость свою маскировал под развязность. А будучи от природы человеком застенчивым, еще в студенчестве освоил методу расслабиться для выхода в свет – пил, в общем. Гоголь по его смерти констатировал: «Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости»…
Крепко пил и «своевольничать охотник» Александр ПОЛЕЖАЕВ. Исследователи говорят о тяжелой запойной форме алкоголизма по механизму гиперкомпенсации. Проще говоря, вынесенное из раннего детства чувство собственной неполноценности юноша пытался вытеснить следованием самодельной истине: поэт настолько живое существо, что и ему не чужды слабости, заблуждения и неблаговидные поступки. Превратившиеся вскоре едва ли не в самоцель. И не только на бумаге. Бесконечные нарушения воинского устава (включая шестидневную отлучку из полка, приравненную к дезертирству) с последующими гауптвахтами, многомесячными тюремными заключениями и разжалованием в солдаты, пропоями амуниции нам вежливо объясняли патологическим нетерпением поэта к самодержавию как таковому. Однако видится справедливым поставить лошадь все-таки перед телегой: свободолюбие поэта стало пусть и закономерной, но всё-таки реакцией на недовольство начальства нескончаемыми пьяными выходками молодого унтер-офицера…
Потерянным алкоголиком остался в памяти современников хорошо известный, но не попавший отчего-то в обойму хотя бы знаменитых русских поэтов драматург, либреттист и переводчик Лев МЕЙ. Мей пил с лицея…
Как-то, на одной из аристократических тусовок у графа Кушелева-Безбородка, с него затребовали экспромт.
Графы и графини,
счастья вам во всём,
мне же лишь в графине,
и притом в большом, —
моментально откликнулся поклонник действительно больших графинов и иных емкостей. Любопытно, что пьянство никак не влияло на творчество поэта: до самой его кончины питие оставалось питием, стихосложение – стихосложением. Другое дело, нездоровая дружба со стаканом доводила порой соавтора корсаковских «Сервилии», «Царской невесты» и «Псковитянки» до совершенной нищеты. Почти пустая квартира и пустой штоф на колченогом стуле запомнились одной из поклонниц. «Мей не погубит своего таланта, но сам погибнет; он пьет страшно», – писала она. Беспорядочная жизнь победила крепкое здоровье поэта. Спившийся Мей умер, дожив всего до сорока…
Двадцати восьми лет ушел из жизни, безусловно, не реализовавшийся писатель Николай ПОМЯЛОВСКИЙ. В официальной биографии значится: «Умер в одной из петербургских клиник от гангрены». Однако известно, что в лечебницу он был доставлен в «сильнейшей степени развития белой горячки», преследуемый жуткими кошмарами.
В случае Помяловского имеет смысл говорить об осложненном алкоголизме, развившимся на почве клинической психопатии. Специалисты сходятся на том, что причиной раннего нервного расстройства юноши стали «неумелые педагогические приемы тогдашних учителей». Выразимся яснее: сын дьякона, восьмилетним мальчишкой он был отдан в Александро-Невское духовное училище, и за четырнадцать лет, проведенных в бурсе, Помяловский, по собственному свидетельству, был сечен – об этом мы уже поминали – не менее 400 раз. Поиски спасения от жизненных невзгод привели его к водке… После выхода из училища молодой человек был уже вполне сформировавшимся алкоголиком бомжеватого, как сказали бы теперь, типа. Неделями, а то и месяцами он пребывал в запоях. Пропадал в столичных трущобах, легко сходился с подобными себе и проводил с ними время в оргиях и беспробудном кутеже. Приступы белой горячки сменяли один другой.
Немногочисленные друзья, первым среди которых был поэт Полонский, терпеливо разыскивали и тщетно пытались вернуть беднягу к нормальной жизни. При этом он и сам ужасался своего положения, понимая, что забирается всё дальше в невозвратное. Порой плакал как ребенок, делал над собой чудовищные усилия. Что называется, «завязывал». Но не дольше, чем на неделю-другую. После чего вновь пропадал. Умудряясь при этом как-то работать между запоями. Кончилось всё той самой «гангреной»…
Еще одним ярким образчиком разрушительного действия алкоголизма на творчество является жизнь его современника Николая УСПЕНСКОГО (двоюродного брата Глеба Ивановича). Первые рассказы этого хулигана – как в жизни, так и в литературе – Некрасов сотоварищи приняли куда как восторженно. «Современник» даже выдал молодому человеку кредит на загранпоездку (перспективным казался автор – весьма и весьма перспективным!). Но вскоре наш герой вдрызг разругался с журналом. Уверившись почему-то, что «демократы» его безбожно обобрали. Известно даже, что в ходе одной из ссор Некрасову, чтобы умерить как-то пыл молодого прозаика, пришлось придвинуть к себе ружье… Скоро перспективный автор перессорился практически со всем литературным бомондом, включая знаменитого брата. Вследствие чего народническая (прогрессивная, значит) критика легко и непринужденно превратила несостоявшуюся звезду в «забытого писателя». И с 1874 года для него началась жизнь изгоя. Он с величайшим уже трудом пристраивал произведения, в которых даже невооруженный глаз замечал признаки деградации автора.
Успенский пивал и прежде – теперь он пил вволю.
Несмотря на полунищенское существование.
В 1884-м умерла его жена, и нищета стала откровенной. Писатель кормился подаянием, скоморошничал, проводил время в ночлежках. Переодев дочь мальчиком, заставлял ее плясать на публике под гармонику. Грошовая выручка тут же пропивалась. Финал такой жизни был закономерен: сын пьяницы и самоубийцы Николай Успенский тоже умертвил себя. Предельно изощренным способом – перепилил горло тупым перочинным ножом. Рассказывают, что накануне он попросил у приятеля денег на бритву, тот не дал, огрызнувшись: «И ножичком зарежешься»…
Немногим лучше обстояло с этим и у его «приличного» кузена. Правда, несколько позже. Выглядевший где-то даже маститым писателем Глеб Иванович, по молодости еще вел вполне приличествовавшую эпохе и его окружению жизнь записного кутилы и бабника. Иначе говоря, попоек не избегал и случайными юбками не брезговал. На каковом деле и заработал «болезнь, которая в позднейшем и привела его к психическому расстройству». Подробностями насчет «расстройства» мы поделимся, когда придет черед разговора об оных. Пока же лишь проболтаемся, что до самого попадания в Колмовскую психушку (это под Новгородом) Г. И. Успенский поддавал изрядно. За писанину без холодного чая и (не или – именно и) пива не садился. «Успенский пил нередко, порою много, – вспоминал один из коллег, – НО ВРЯД ЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШИНСТВО тогдашних русских писателей». И оговаривался: «Он под влиянием вина становился положительно гениален»…
Ну, насчет гениальности, время, кажется, все на свои места расставило. А вот по поводу «не больше других тогдашних» – так мы уже на них как раз насмотрелись.
Еще ДРУГИХ хотите? – Да пожалуйста!..
Начав «очередную службу Вакху», прекращал всякую работу на недели, а то и на месяцы Дмитрий МИНАЕВ. В такие периоды Вольф (известный русский издатель; журнал «Вокруг света» его детище) силком увозил бедолагу из любимого трактира «Капернаум» к себе на квартиру, вытрезвлял как мог и заставлял сидеть-переводить…
Случай с Минаевым – пример явного умерщвления беспробудным пьянством великого таланта…
Самый же жуткий из портретов знаменитых русских алкоголиков висит в Третьяковской галерее – репинский предсмертный портрет Модеста МУСОРГСКОГО.
В феврале 1881-го Илья Ефимович писал Сурикову: «Прочитал я в газете, что Мусоргский очень болен… Как жаль эту гениальную силу, так глупо с собой распорядившуюся!» И Репин едет в Петербург, находит композитора в солдатской палате Николаевского сухопутного госпиталя, и четыре дня тот с величайшим трудом подымается с грязной койки, усаживается на стул и позирует. Через несколько недель он умрет. Врачи скажут, что это паралич сердца. Стоит ли говорить, что у паралича имелась печальная предыстория?
С белой горячкой композитор познакомился уже в 25 лет. Римский-Корсаков вспоминал: «Будучи еще на службе в блестящем Преображенском полку, пил горькую, поэтому просить его вперед за три недели об участии в концерте все равно ни к чему… полное падение, алкоголизм и, вследствие этого, всегда отуманенная голова».
А мы добавим уж: и вечно красный нос. Хотя Модест Петрович и утверждал, что отморозил его во время парада. То есть еще в Школе гвардейских подпрапорщиков, где он уже «был не властен над своим трагическим недугом».
И в Николаевский госпиталь он попал вследствие очередного «припадка белой горячки». Доктора обнаружили в числе прочего разрушение печени, расширение сердца и воспаление спинного мозга. Он выглядел полным стариком. Одутловатое, обрюзгшее лицо, кожа землисто-серого оттенка, пятна болезненного румянца. Напомним, что на знаменитом портрете запечатлен гений, которому нет еще 42 лет…
Этот потрясающий реалистичностью и правдивостью портрет окажется на выставке едва ли не на следующий день после его кончины, и глава передвижников Крамской усядется перед ним на стул – вот разве что не лицо в лицо – и будет повторять одно и то же: «Это невероятно! Это просто невероятно!..» Скорее всего, Иван Николаевич не знал, что за несколько часов до смерти почувствовавший себя несколько лучше Мусоргский дал сторожу 25 рублей, тот принес ему тайком бутылку коньяку, которую композитор и осушил – под яблоко. Осушил и, взорав: «Все кончено! Ах я несчастный!», отпустил душу на небеса…
Перечитываю – и самому противно: ну что за свинья такая этот Мусоргский получается?! А развернуть монету другой стороной – поди-ка не пей, когда ты чуть не единственный в истории русской музыки композитор, произведения которого цензура запрещала одно за другим! На премьере «Годунова» великий князь Константин Николаевич, состоявший в те годы вице-президентом Императорского русского музыкального общества, не только запретил сыну аплодировать, но еще и лично орал из ложи: «Это позор на всю Россию, а не опера!» После чего Александр III, лично утверждавший репертуар императорской оперы, вычеркнул «Бориса» из списка.
Но не парадокс ли? – Мусоргский пьет, а упадка таланта не отслеживается! Алкоголь разрушал «телесную оболочку», но был едва ли не подспорьем в создании сцен галлюцинации Бориса и самосожжения раскольников в «Хованщине».
То есть, пьянство – пьянством, гений – гением!..
И вообще, по утверждению одного из современников, невоздержанность насчет заложить за воротник считалась в ту пору едва ли не обязательным качеством истинного представителя богемы: «Это было такое бравирование, какой-то надсад лучших людей 60-х годов». Напомним, что перечисленные Мей, Минаев, Помяловский и Успенские принадлежали к тому же поколению, что и Модест Петрович – к этим самым «шестидесятникам» золотого века русского искусства…
Его сверстник и личный враг ЧАЙКОВСКИЙ – а это так, дорогие друзья, Модест Петрович презрительно звал Петра Ильича «Садык-пашой», а Петр Ильич писал брату: «Мусоргскую музыку я от всей души посылаю к черту; это самая пошлая и полная пародия на музыку» – в сознании потомков числится по несколько иной статье порока. Дежурной доминантой в воспоминаниях о его частной жизни служит тема нетрадиционной половой ориентации. Однако фигура Петра Ильича куда как любопытна и в контексте неумеренного пития. Известно, что с ранней юности его преследовали «нервные припадки» эпилептического характера. С жуткими головными болями, с потерями сознания, галлюцинациями, омертвением конечностей, навязчивыми страхами – страхом смерти прежде прочих. Уже с 25-летнего возраста композитор почти НЕПРЕРЫВНО находился в депрессивном состоянии и на доброе десятилетие почти полностью замкнулся в личной жизни, старался избегать любых визитов и встреч даже с хорошими знакомыми. В навязчивых мыслях о роковой обреченности большую часть жизни он проводил в эти годы за границей. О «лекарстве» вы, наверное, уже догадываетесь…
Из парижских дневниковых записей композитора 1886 года: «Пьян…, …пьянство…, …пьянство страшное…, что я за пьяница сделался…, …я больной, преисполненный неврозов, человек, – положительно не могу обойтись без яда алкоголя… Я, например, каждый вечер бываю пьян и не могу без этого… Не замечал также, чтобы и здоровье мое особенно от того страдало»… С 1887 года словосочетание «тоска и пьянство» присутствует в записях Чайковского чуть не через строку. И разве что не единственным способом спасения от гнетущей его депрессии было сочинительство…
Спьяну сгубил жизнь и их выдающийся, но крепко-накрепко забытый предшественник – первый русский композитор с европейским именем Максим БЕРЕЗОВСКИЙ… Чудесный голос и поразительные музыкальные способности мальчика привлекли внимание всемогущего графа Румянцева, и с 14 лет Максим был зачислен в солисты Ораниенбаумской итальянской оперной труппы. Двадцати годов (по протекции того же Румянцева) он перебрался в Италию. Спустя шесть лет успешно выдержал экзамен в Болонской филармонической академии на звание академика-композитора. Там же женился и, увы, пристрастился к вину. По возвращении в Россию почему-то (а с действительно одаренными у нас почему-то всегда так) оказался не у дел – был, правда, причислен к Придворной капелле, но без определенной должности. К тому же, по прошествии полугода «фигурантка Франца Березовская» уволилась из театральной службы и, надо полагать, дезертировала и из семьи. И 29-летний Максим Сазонтович запил горькую. И 24 марта 1777 года «в припадке безумия» перерезал себе горло…