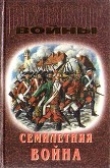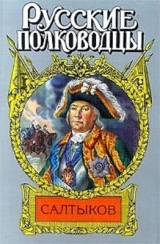
Текст книги "Салтыков. Семи царей слуга"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Петр отправил к причалу адъютанта Костомарова:
– Узнайте, какие плавсредства есть в нашем распоряжении.
Тот воротился, доложил:
– Есть яхта и прогулочная галера, ваше величество, готовые выйти в море.
Император приказал всем грузиться на корабли, но женщины было запротестовали:
– Да вы что? На ночь глядя идти в море? Не пойдем.
Однако, когда их припугнули, что сюда явятся бунтовщики и всех их прирежут, а в Кронштадте они будут в безопасности, с причитаниями и хныканьем дамы стали подниматься на галеру и яхту.
Наконец отчалили в сторону Кронштадта, далеко на горизонте подмигивавшего огоньками. Ветерок был слабый, яхта шла галсами[75]75
Галс – курс судна относительно ветра. Например, судно идет левым галсом – когда ветер дует в левый борт судна.
[Закрыть], галера напрямик, шлепая длинными веслами.
И хотя Кронштадт казался очень близким, подошли к нему лишь к полуночи. С берега раздался окрик:
– Кто плывет?
В ответ прокричал Гудович:
– Его величество император Петр Федорович.
– У нас нет такого, – отвечали с берега. – У нас есть ее величество Екатерина Алексеевна.
– И тут успела, сука! – вскричал Петр.
Миних, стоявший рядом с Гудовичем, тихо сказал ему:
– Скажите государю, что стоит ему ступить на берег с адъютантами, и крепость будет его.
– Ваше величество, давайте подплывем к берегу, сойдем на землю, и, увидев вас, никуда они не денутся, перейдут на нашу сторону.
Однако на берегу в ночной тишине, видимо, услышали уговоры адъютанта, предупредили с угрозой:
– Если вы не повернете, мы открываем огонь.
Услышав это, заголосили женщины. Император направился вниз в каюту, буркнув капитану:
– Заворачивай.
– Левая, табань! – подал команду капитан.
Миних последовал за императором, туда же отправился Гудович. Петр был в угнетенном состоянии, он сидел, втиснувшись в угол каюты.
– Ваше величество, – начал говорить Миних, – у вас есть шанс не только спастись, но и вернуть власть.
– Каким образом?
– Мы должны сейчас направиться в Померанию, там корпус Румянцева, и вернуться уже во главе армий. Гвардейцы не устоят против боевых солдат. Столица будет в ваших руках.
– Вы что, фельдмаршал, смеетесь? А куда я дену этот бабий балаган?
– Да, конечно, это обуза, – согласился Миних. – Но их можно высадить в Петергофе, оставить там и галеру, а на яхте идти в Ревель, а оттуда уже на линейном корабле в Кольберг.
– Нет. Это слишком опасно. Где гарантия, что нас и там не встретят, как в Кронштадте? Где? Высадимся в Петергофе. Я отправил манифест и указы полковникам, будем ждать результата.
«Трусит, – подумал Миних. – Боится рисковать».
– А как ты думаешь? – спросил Петр появившегося в каюте вице-канцлера Голицына.
– Я думаю, надо воротиться в Ораниенбаум и начать с вашей супругой переговоры.
– А ты? – обратился Петр к Измайлову.
– Я тоже считаю, что надо попробовать уладить дело миром, ваше величество.
На том и порешили – начать переговоры.
– Манифесты и указы это хорошо, – сказал Григорий Орлов. – Но пока Петр не арестован и не взят под стражу, покоя не будет. Он должен отречься.
Решено было идти на Петергоф и, если понадобится, далее на Ораниенбаум, обезоружить голштинцев и арестовать Петра. И поведет гвардейцев сама императрица.
К этому времени Екатерина Алексеевна облачилась в гвардейский мундир Преображенского полка, нашелся такой же и ее спутнице Екатерине Романовне Дашковой. Обе они гарцевали на конях в сопровождении Теплова и братьев Орловых, взявших командование гвардией в свои руки.
Гвардейцы, сбросив с себя прусскую форму, тоже переоделись в старую – петровскую и двинулись на Петергоф. На окраине столицы увидели карету великого канцлера, съехавшую на обочину.
Императрица в шляпе, украшенной дубовой ветвью, с развевающимися за спиной густыми волосами, подскакала к карете. Увидев ее, из экипажа вышел Воронцов.
– Здравствуйте, Михаил Илларионович, – приветствовала его Екатерина.
– Здравствуйте, ваше величество.
– Отныне я на престоле и надеюсь, что и вы тоже присягнете мне.
– Простите, ваше величество, я не могу нарушить присягу, которую дал вашему супругу.
– Дядя Миша! – воскликнула Дашкова. – Мне стыдно за вас.
Канцлер вприщур взглянул с осуждением на племянницу.
– Ты б, Катерина, не мешалась в разговор старших. А вас, ваше величество, я б об одном попросил: отпустите вы меня в отставку. Не под силу уж мне, старику, этот воз тянуть.
– Что вы, Михаил Илларионович, так уж сразу в отставку. Дайте мне осмотреться.
– Я еще у Елизаветы Петровны просился на покой, не отпустила.
– Вот и я не хочу вас отпускать, – улыбнулась императрица. – Неужто мне послужить не хотите?
– Да уж укатали Сивку крутые горки. Простите, не могу присягу, данную Петру Федоровичу, нарушать. Не могу-с. Не обессудьте.
С этими словами, поклонившись, Воронцов полез в карету, где сидели присмиревшие Трубецкой и Шувалов.
– Ну? – спросил Трубецкой.
– Что ну? – сердито проворчал Воронцов. – Спекся наш Петр. Глянь, вся гвардия поднялась. Откель-то старые мундиры раскопали, напялили. Отцарствовал наш дурак.
– Вообще-то это к лучшему, – заметил Шувалов. – Катерина много умнее его.
– А то я не знаю.
– Так чего ж от присяги отказался?
– Я не заяц, чтоб от одного куста к другому скакать.
– А я присягну, если потребуется, – сказал Шувалов. – Помяните мое слово, верх за Екатериной будет.
– Экой ты догадливый, Александр Иванович, – покачал укоризненно головой Воронцов.
Уже далеко за городом явились перед императрицей три солдата, пали на колени:
– Прости, матушка-государыня.
– За что?
– Вот несем манифест супроть тебя, возьми его, не вели согрешить нам. Не ему – тебе служить желаем.
Императрица, не слезая с коня, приняла от солдат пакет, разорвала его, взглянула на текст. Обернулась к Дашковой:
– Взгляни, Катя, – и подала ей бумаги и сказала солдатам: – А вам спасибо, добры молодцы, за верность мне.
– Рады стараться, ваше величество, – едва не в один голос отвечали солдаты.
День был жаркий, гвардейцы шли пешком, и императрица через десять верст, когда дошли до «Красного кабачка», распорядилась:
– Григорий Григорьевич, велите остановиться. Пусть отдохнут люди, чай, с утра на ногах.
Орлов поскакал в голову колонны. Императрица с Дашковой подъехали к крохотному домику с обомшелой крышей. Слезли с коней.
Теплов принял у них поводья, стал привязывать коней к сосне.
– Григорий Николаевич, – сказала ему императрица, – зайдите в домик, посмотрите, сможем мы там заночевать.
Теплов вошел в домик, но скоро воротился в сопровождении хозяйки – пожилой женщины.
– Кровать одна, ваше величество, – доложил Теплов.
– Широкая?
– Да как сказать.
– Ну вот мы с княгиней поместимся?
– Да, наверно, поместитесь.
Хозяйка, узнав, кто перед ней, упала на колени:
– Государыня, матушка, да как же это… да у меня… да для тебя…
– Встань, встань, женщина. Что у тебя?
– Дозволь мне, дозволь полыни постелить, тогда не одна тварь не укусит.
– Постели, голубушка, постели, – разрешила императрица.
Женщина стремглав побежала за баню и скоро воротилась, неся охапку свежей полыни, и юркнула в домик. Тут же вскоре вышла – поклонилась:
– Пожалуй, государыня.
Комнатка была небольшой, деревянная кровать занимала едва ли не половину ее.
– Поместимся, – сказал императрица.
– Постель, правда, не ахти, – заметила Дашкова.
– Ничего, Катя, мы не будем раздеваться; разве что сапоги скинем.
В домике густо пахло полынью, хозяйка настелила ее где только можно – на полу, на подоконнике и даже под подушкой.
– Даже во рту горчит, – сказала Дашкова.
– Зато блохи кусать не будут.
Они были так возбуждены, переполнены радостными чувствами, что, улегшись на скрипучую кровать, никак не могли уснуть. С вечера еще доносился говор, смех с поляны, где гвардейцы разбили бивак и варили немудреную похлебку.
К полуночи лагерь затих, но молодые женщины все равно не могли уснуть, шептались о дне завтрашнем:
– С утра пойдем прямо до Петергофа?
– Да, да…
– А что, если он вздумает сопротивляться?
– Не думаю. Он трус порядочный. Да и не хочу я крови. Я всех прощу.
– И его?
– Если отречется от престола, то и его.
– Надо его отправить в Голштинию, он из-за нее воевать хотел.
– Если сам захочет, отпущу.
Замолкали, но не надолго:
– А вам нравятся эти Орловы, братья?
– Да.
– Очень?
– Ух ты какая любопытная, Катя.
– По-моему, они в вас влюблены.
– С чего ты взяла?
– Ну я же не слепая.
– Глупенькая ты еще, Катя. Подданные все должны быть влюблены в монарха. Иначе ему не править. Вон моего-то вся гвардия ненавидела, да что гвардия, иереи все не любили его. Видишь, чем это кончилось.
Июньская ночь коротка и светла. Едва задремали, и вставать пора. Императрица первой и открыла глаза, тронула за плечо Дашкову:
– Катенька, пора.
В пять часов императрица опять была на коне. Сидела как влитая, пригодились ей уроки верховой езды. Гвардейцы рядовые невольно любовались ей. Меж собой переговаривались:
– Хороша наша матушка, хороша.
– Не то что тот сморчок голштинский.
– Где ему до нее. Сразу видно, сердечная!
Императрица действительно, проезжая любой полк, обязательно приветствовала его искренней улыбкой, не оставляя без ответа восторженных восклицаний солдат.
Полки выступили из «Красного Кабачка». А когда дошли до Сергиевской пустыни, из Петергофа от императора явился посланец – вице-канцлер Александр Михайлович Голицын.
– С чем прибыли, князь? – спросила его императрица.
– С письмом от государя, ваше величество, – отвечал Голицын, подавая пакет.
Императрица разорвала его, вынула письмо, быстро прочла. Усмехнувшись, спросила Голицына:
– Вы знаете, что здесь написано?
– Да, ваше величество, письмо писалось при мне.
– Ну и как вы думаете, сие возможно? Только честно, пожалуйста.
– Нет, конечно, невозможно.
– В таком случае я оставляю это дурацкое предложение без ответа. Так ему и передайте.
– Но если я вернусь – это уже будет ответ.
– Что вы этим хотите сказать, князь?
– Только то, что я не хочу возвращаться к нему.
– Значит, вы переходите на мою сторону?
– Я перехожу на сторону России, ваше величество, – сказал серьезно Голицын.
Ответ князя понравился Екатерине, она засмеялась:
– Выходит, в нашем полку прибыло.
Когда тронулись дальше, Дашкова, ехавшая рядом, спросила:
– Если не секрет, что он там написал?
– Какой секрет, Катя, – усмехнулась императрица. – Он предложил править вдвоем. Это с ним-то?
– Струсил, значит, струсил Петр Федорович.
Но когда остановились на очередной отдых, явился от императора и второй посланец – гофмаршал Измайлов.
– Ну а с чем пожаловали вы, Михаил Львович?
– Ваше величество, император не желает проливать невинную кровь людей.
– Вполне разумное желание. Я тоже не хочу.
– Он послал меня сказать, что ради спокойствия державы готов отречься от престола.
– Григорий Николаевич, – позвала Екатерина Теплова.
– Я слушаю, ваше величество.
– Составьте, пожалуйста, черновик отречения Петра от престола.
Теплов, достав свои письменные принадлежности, пристроившись у пня, строчил отречение: «В краткое время правительства моего самодержавного Российским государством узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное… того ради через сие объявляю, что я от правительства Российским государством на весь век мой отрицаюся… в чем клятву мою чистосердечную пред Богом и всецелым светом приношу нелицемерно. Все сие отрицание написано и подписано моею собственной рукой».
Императрица прочитала сочинение Теплова, одобрила. Передавая Измайлову, сказала:
– Пусть перепишет своей рукой и подпишет.
Вечером Измайлов воротился и привез отреченную грамоту, подписанную Петром.
– Где он сейчас? – спросила Екатерина.
– В Ораниенбауме.
– Значит, Петергоф свободен?
– Да. Но у него есть еще просьба, ваше величество.
– Какая?
– Он просил не отнимать у него Елизавету Воронцову и скрипку.
– Да ради бога, – усмехнулась императрица. – Пусть тешится.
На следующий день рано утром в Петергоф поскакал отряд гусар под командованием поручика Алексея Орлова. Следом выступили гвардейские полки.
Прибыв в Петергоф, Орлов сразу же начал готовить торжественную встречу ее величеству. И когда вслед за полками появилась на белом коне Екатерина со своей спутницей, загрохотал пушечный салют, раскатилось тысячеголосое «ур-р-р-а-а!». Гвардейцы ликовали: наша взяла!
Сойдя с коня, императрица вошла в Монплезир, за ней последовали все ее сторонники во главе с братьями Орловыми.
– Григорий Григорьевич, езжайте с гвардейцами за ним. Пусть он прибудет сюда, а тут мы уже решим, что с ним делать.
– В Петропавловку его надо, – сказала Дашкова. – А еще лучше в Шлиссельбург.
Императрица улыбнулась снисходительно, но смолчала, кивнула Орлову:
– Ступайте за ним, Григорий Григорьевич.
До Ораниенбаума рукой подать, и уже после обеда Орлов привез Петра в сопровождении Гудовича. Алексей Орлов указал им флигель, в котором экс-императору предстояло ждать решения своей судьбы.
– Ну что касается предложения княгини Воронцовой-Дашковой, – сказала императрица, – то я с порога отвергаю его. Каков бы он ни был, но он пока мой муж.
– Но он же собирался упечь вас в монастырь, – не унималась Дашкова.
– Тем более не хочу следовать его методе. Как бы вы поступили, Александр Михайлович? Уж вы-то опытный дипломат, вам и карты в руки.
– Шлиссельбург не выход, – заговорил Голицын. – Это превратит его в мученика-героя, и найдется сумасшедший, который постарается его освободить. Русские любят мучеников. И снова смута.
– Ну так как быть?
– Надо дать ему возможность жить частным лицом недалеко от столицы под охраной преданных вам гвардейцев, ваше величество. Но пред тем обязательно обнародовать его отречение от престола.
– А если он попросится в Голштинию?
– Отпустите его.
– Ага, – вмешалась опять Дашкова. – Он там стакнется со своим любимым Фридрихом.
– Фридриху он был любезен как император, княгиня, но как частное лицо не будет представлять интереса. А чтоб именно так и было, вам, ваше величеств о, в первом же письме к прусскому королю надлежит заявить, что вы остаетесь верны договору о мире. И все. Фридрих и не подумает из-за Петра начинать войну, тем более он и так потерял в ней много.
– Спасибо за совет, Александр Михайлович, – поблагодарила вполне искренне императрица. – А теперь давайте решим, куда его лучше всего сослать. Григорий Григорьевич, предлагайте.
– Я бы отправил его в Ропшу, ваше величество.
– Почему именно туда?
– Там есть дворец для размещения. И это всего в двадцати семи верстах от столицы. Туда идет наезженная дорога. И что не менее важно, Ропша далеко от моря.
– Ну и что?
– Ну как же, ваше величество? У него шведский король – родня, вздумает выручить…
– Он и мне родня, – улыбнулась Екатерина. – Но я вполне с вами согласна, Григорий Григорьевич. Везите его в Ропшу, пожалуйста.
– А если он попросит увидеть вас? – спросил Орлов.
– Вряд ли. Пусть напоследок полюбуется Елизаветой Романовной. Ну а если все же попросит – откажите. Довольно я насмотрелась на эту рожу.
Через час в сопровождении гусар и Алексея Орлова Петр отправился в Ропшу, в почетную ссылку. А любовницу его, Елизавету Романовну, велено было везти в Москву.
А Екатерина Алексеевна стала готовиться к торжественному въезду в свою столицу, и Григорий Орлов уже в ночь ускакал в Петербург, чтобы сделать все для ее встречи на высшем уровне.
25. Смерть ПетраДворец в Ропше, построенный еще Петром I для его сподвижника Ромодановского[76]76
Ромодановский Федор Юрьевич (ок. 1640–1717) – князь, государственный деятель. В 1686–1717 гг. возглавлял Преображенский приказ, ведавший политическим сыском. Фактически стоял во главе управления страной в период отсутствия Петра I, пользовался его неограниченным доверием.
[Закрыть], ныне казне принадлежал.
Дворец не маленький, но бывшему императору отвели невеликую комнату, из которой его почти не выпускают. У двери часовой, у окна часовой – тоскливая жизнь наступила.
Петр Федорович пишет письма своей жене, ныне царствующей Екатерине Алексеевне, умоляя вернуть ему его единственное утешение – Елизавету Воронцову, скрипку и собаку. Ну и отпустить его в родную Голштинию.
Однако жена не отвечает. В письмах он унижается, клянется в лояльности, ночью, лежа в холодной постели, скрипя зубами, шепчет по ее адресу проклятья: «Сука, сволочь, гадина. Да если б знал, давно б убил тебя. Ну погоди, ну погоди».
Екатерина хотя и не отвечает на его записки, но все их читает внимательно, иногда и слезинку уронит, не то несчастного мужа жалея, не то себя, угодившую в такую историю. Ах, если б он умер, какое б было ей облегчение. Эта кощунственная мысль никогда никому не высказывается, но она как надоедная муха зудит в ее голове.
Она не может быть спокойна, пока он тут рядом под Петербургом, он, законный наследник русской короны.
Ночью в жарких объятиях Григория Орлова она иногда вдруг начинает плакать.
– Что с тобой, Катенька? – спросит возлюбленный участливо.
– Ах, Гришенька, – вздохнет она, прижимаясь к богатырской груди его. – Что-то будет…
– Все, что надо, уже было, Катя. Ты на троне, я твой страж, за мной гвардия, нам сам черт не страшен.
– Черт, может, и не страшен, – вздыхает Екатерина со значением.
И Орлов догадывается, о чем думает его царственная зазноба, и понимает, что она никогда никому не скажет этого вслух. Даже ему, любимому. Но и он ей даже намеком не посмеет сказать, о чем догадывается. Вот брату можно и впрямки:
– Слушай, Алеха, доколе ты будешь возжаться с этим тонкошеим?
– Ишь ты какой прыткой. Ободрали его как липку.
– А при чем тут это?
– Как при чем? Ему даже в карты играть не на што. Пришлось своих сотню в долг дать.
– А при чем карты?
– А что мне с ним еще делать? В жмурки играться?
– Напейтесь как следует, поссоритесь, и… По пьянке чего не бывает. Что ты, маленький, тебя учить надо? Она по ночам спать не может из-за него.
– А може, из-за тебя, Гриш?
– Ох, Алеха, выпросишь по зубам.
– Ладно. Не серчай.
– Возьми Федьку с Ванькой Борятинских, Гришку Потемкина и еще кого из наших, наберите водки, закуски побольше. Упейтесь как следует, а особенно его постарайтесь накачать. И все. Може, он от перепоя и сам окочурится. Уходить его надо, неужто не ясно?
Алексей Орлов с первого же дня приезда Петра в Ропшу весьма внимателен с ним. Почти каждый день является к нему, выслушивает его жалобы и даже сочувствует. Петру не нравится у Орлова улыбочка снисходительно-ироничная, нет-нет да являющаяся на его лице.
Это бесит Петра, и он едва сдерживается: «Эх, встреть я тебя чуть ранее… да я б тебе за твою ухмылку всю б рожу расквасил».
Но это лишь думается, а в действительности приходится унижаться перед этим цербером:
– Алексей Григорьевич, ну вы-то как мужчина понимаете, что для меня значит Елизавета Романовна – и скрипка. Почему их-то меня лишили? А мой мопс чем виноват?
– Где они, Петр Федорович?
– Скрипка с собакой в Ораниенбауме, а Романовна не знаю.
Орлов не поленился, съездил в Ораниенбаум привез скрипку и мопса затворнику, чем несказанно его обрадовал. Мопс тоже радовался встрече с хозяином, крутился вкруг него, повизгивая от восторга, прыгал, пытаясь лизнуть в лицо.
Петр был растроган поступком Орлова, благодарил его почти со слезой:
– Вы не представляете, что для меня сделали, Алексей Григорьевич. Я никогда не забуду вашей услуги.
– Полно-те, Петр Федорович. Это мой долг, я ответствен за ваше благополучие.
– Может, и Романовну достанете? – вопрошал с надеждой Петр.
– Сейчас не могу, но со временем постараюсь, – обещал Орлов.
– Сколь прошу ее, пишу – и хоть бы словечко в ответ. А ведь женой числится. А? Каково это переносить?
– Да, да, – соглашался Орлов, – жены самый ненадежный народ.
– И такой вот подарок она приготовила мне к именинам. А?
– А когда ваш день именин?
– Был двадцать девятого как раз.
– Господи, тут каких-то несколько дней прошло, отметим как положено, Петр Федорович.
– Но уж прошло более пяти дней.
– Что с того? Нельзя заранее отмечать, а после можно, хошь бы и через неделю.
И уж на следующий день, 6 июля, с утра явилась в Ропшу веселая компания гвардейцев во главе с Алексеем Орловым, привезли несколько корзин с закусками, фруктами и с полсотни бутылок водки и пива.
И даже балалайку.
– Гуляем, Петр Федорович, – гудел Орлов. – Вот, зная вашу слабость, привез английского пива.
– Спасибо, Алексей Григорьевич, – отвечал Петр, чувствуя себя несколько неуютно с такой компанией. – Очень тронут.
Привыкший всегда видеть вокруг себя поклонение, заискивание перед ним, он никак не мог безболезненно воспринимать бесцеремонность гвардейцев, граничащую с грубостью и откровенным неуважением к нему, вчерашнему императору.
Однако, насидевшись в эти дни в одиночестве при молчаливых караульных, он был рад и такому событию, как предстоящая пьянка с гвардейцами, которые его не любят и которых он презирает: «Скоты, скоты, скоты!» Другого слова ему на ум не преходит.
Всем распоряжается Орлов:
– Потемкин, тащи еще один стол из соседней комнаты. Федор, расставляй бутылки и закуску. Иван, где кружки?
– Они в карете остались.
– Беги, тащи, не из пригоршней же пить.
Борятинский притащил гремящий мешок парусиновый, высыпал на стол десятка два глиняных солдатских кружек. Заметив тень неудовольствия на лице именинника, Орлов сказал:
– Мы ведь все солдаты, Петр Федорович. Верно? И я решил, будем пить из солдатских кружек.
Лукавил Алексей Григорьевич, солдатские кружки он взял из-за их приличной емкости, только из-за этого, чтоб скорее захмелело застолье.
После того как расставили кружки, расселись все вокруг сдвинутых столов, усадив на почетное место самого именинника, Орлов приказал Борятинскому:
– Федор, с братом наполняйте нам кружки.
Федор и Иван, умело вскрывали плоские штофы, щедро наполняя кружки водкой. Имениннику даже через край налили.
– Куда вы столько?
– Это к счастью, Петр Федорович. Где пьют, там и льют.
– Господа, – поднял свою кружку Орлов, – предлагаю тост за нашего именинника Петра Федоровича.
– За именинника, за именинника!
Выпили. Покрякали, как водится, занюхивали корочками, хрустели огурчиками, тянулись за икоркой, балычком.
Орлов мигнул Борятинскому, тот понял – опять взялся за штоф, сказал через стол Потемкину:
– Гриша, помогай.
Вдвоем быстро наполнили все тринадцать кружек.
– Теперь предлагаю тост за ее величество, – провозгласил Орлов.
– За ее величество, за ее величество! – прошумело оживленно застолье.
Ах как не хотелось Петру пить за эту «суку», однако пришлось приложиться. Но Орлов зорко следил за порядком.
– Э-э, Петр Федорович: так не пойдет. Нельзя зло оставлять в кружке. Федор, что ж ты зеваешь? – упрекнул Борятинского.
– Д-давай д-допивай, – сказал уже начавший хмелеть князь Петру, беря опять в руки новый штоф.
И едва тот допил «зло», как по знаку Орлова Борятинский вновь стал наполнять кружку именинника.
Петр, как любой алкоголик, и подумать не смел отказываться от водки.
Третий тост Орлов произнес за здоровье любимой женщины именинника Елизаветы Романовны Воронцовой. Петр Федорович был на седьмом небе от счастья и выпил кружку до дна, которую Борятинский тут же наполнил пивом.
Воодушевленный столь приятным для него тостом, опьяневший именинник вскричал:
– Господа, господа, позвольте, я вам сыграю на скрипке!
– Валяй, – сказал Потемкин.
Петр притащил скрипку, схватил смычок, встал, покачиваясь, в позу, объявил:
– Соната Арканджело Корелли, итальянского скрипача и композитора. Это прекрасная музыка, господа.
И начал играть, но по всему было видно, что скрипка плохо слушалась хмельного исполнителя. Этого пьяного пиликанья не вынес Потемкин, схватил балалайку и ударил «камаринского», притопывая ногой.
В отличие от сонаты, так и не давшейся имениннику, «камаринский» зазвучал столь заразительно, что князь Федор, присвистнув, выскочил из-за стола и пошел выделывать коленца одно другого мудреней. Да еще прикрикивал:
– Гришка, чаще!
Петру Федоровичу с огорчением пришлось смириться с собственной неудачей в показе своего мастерства и тихо завидовать Потемкину, лихо наяривавшему на балалайке, и князю Борятинскому, отбивавшему На гнущихся половицах каблуками дробь: «Нет, скоты они все, скоты. Боже мой, с кем я тут жил».
Застолье пьянело. После музыки и плясок пошли, как обычно, разговоры о бабах: кто, какую, где, когда и как. Пошли похабные анекдоты под хохот, визг и хрюканье опьяневших гвардейцев.
Но Орлов чувствовал, что еще мало, и поэтому, уже не подмигивая, командовал Борятинскому:
– Федька, берись за штоф.
Тот исполнял беспрекословно, хотя у него уже начал стекленеть взгляд.
– Есть взять штоф.
Алексея Орлова хмель почти не брал, и это-то ему не глянулось. Именинник вон совсем уж обалдел, да и все остальные опьянели преизрядно, кое-кто уж сполз под стол. А ему – Алексею – хоть бы хны. Но ему ж надо, ох как надо сегодня очуметь, чтоб потом с полным правом сказать: ничего не помню, без памяти был.
А тут, как нарочно, память ясная, голова свежая. Да что ж это такое?!
Но Алексею хочется влить в обалдевшего именинника еще несколько кружек, может, и впрямь, как говорил Григорий, он окочурится сам тогда.
– Господа, предлагаю тост за прусского короля Фридриха Второго.
Пьяное застолье готово пить хоть за черта, а именинник аж подпрыгнул от радости:
– За Фридриха, за короля Фридриха, господа! – Схватился за кружку, а в ней еще пиво.
– Д-допей, – приказал Борятинский, держа новый распечатанный штоф, – тогда налью.
Петр допил пиво. Федор наполнил кружку водкой.
– П-поменьше б, – пробормотал Петр, но Борятинский возразил:
– 3-за твоего любимого Фридриха полную полагается. Чего жаться-то?
– Л-ладно, – согласился обреченно именинник.
Выпили, и вдруг Петр, воодушевленный последним тостом, крикнул:
– Господа, господа, а у меня есть орден с изображением Фридриха!
– Покажи, – попросил Потемкин, икнув.
Петр достает из кожаной офицерской сумки знак в виде ордена с изображением Фридриха II и отдает его Потемкину. Тот всматривается в портрет, шевеля губами, пытается прочесть надпись.
– Дай я посмотрю, – требует князь Федор.
Потемкин перекинул ему через стол. Значок пошел по рукам, от одного к другому, и наконец, пройдя по кругу, дошел до Алексея Орлова.
– Это он? – спросил Алексей.
– Да, он, – подтвердил ликующий Петр. – Великий Фридрих!
– Наш враг, – сказал Орлов и неожиданно с силой швырнул его в окно.
Зазвенело разбитое стекло.
Именинник вскочил как ужаленный, вмиг оказался возле Орлова.
– Ты! Ты… хам! – вскричал, брызгая слюной, и ударил Алексея по щеке.
– Ах ты-ы! – медведем взревел Орлов и, вскочив со стула, схватил Петра за грудки.
Откуда ни возьмись, с лаем налетел мопс, схватил Орлова за икру, тот резко лягнул ногой, собачонка отлетела к стене, ударилась об нее, завизжала.
Огромный, рослый Алексей и тщедушный, маленький Петр лишь мгновение стояли друг перед другом. Гвардеец тут же отвесил имениннику полновесную затрещину по лицу. Голова Петра мотнулась, как у куклы.
В следующее мгновение Орлов повалил его, продолжая лупить правой рукой по щекам, а левой душить за горло. Петр, прижатый к полу семипудовым гвардейцем, даже не дернулся. Вскоре затих.
Мигом протрезвевшее застолье, хотя и состояло в сговоре, было ошарашено столь быстрой развязкой.
Орлов поднялся, тяжело дыша, схватил со стола распечатанный штоф и прямо из горлышка выпил до дна.
– Туда ему и дорога, – молвил Потемкин, – жополизу прусскому.
Под кроватью скулил, повизгивая, искалеченный мопс.
Ее величество Екатерина Алексеевна в письме к своему заграничному корреспонденту подробнейше описала смерть Петра III: «…я отправила низложенного императора под предводительством Алексея Орлова в сопровождении четырех избранных офицеров и отряда надежных и смирных солдат в уединенное, но очень приятное место, называемое Ропшой… пока приготовляли приличные комнаты в Шлиссельбурге и заготовляли для него лошадей на почтовых станциях. Но Бог решил иначе: страх причинил ему понос, который продолжался три дня и остановился на четвертый. Он ужасно много пил в этот день (он имел все, что хотел, кроме свободы)… Геморроидальная колика возобновилась опять с воспалением в мозгу: два дня он был в этом положении, за которым последовала чрезмерная слабость, и, несмотря на помощь докторов, он скончался, прося лютеранского священника. Я боялась, не отравили ли его офицеры, так он был ненавидим, и велела вскрыть тело, но не оказалось ни малейшего следа яда: желудок его был совершенно здоров, но нашли воспаление на кишках; апоплексический удар убил его, сердце его было чрезвычайно мало и поражено».
Ничего не скажешь, у ее величества прорезался незаурядный литературный талант, хотя в ее шкатулке лежала покаянная записка Алексея Орлова, в которой без всяких околичностей объяснялось, как все было в действительности.
Через день упокоившегося бывшего императора привезли в гробу в Петербург в Невский монастырь и установили в полутемной комнате для прощания с ним народа. Синяки на лице запудрили, горло закрыли офицерским шарфом и одели покойника в форму голштинского офицера, столь любезную ему при жизни.
Десятого августа его похоронили в Благовещенской церкви этого монастыря, и над гробом его проливал искренние слезы лишь престарелый фельдмаршал Миних, которого именно покойный воротил из ссылки.
И лишь по воцарении Павла Петровича – сына Петра III – ему были возданы императорские почести, а прах перенесен в усыпальницу русских государей – Петропавловский собор и положен рядом с женой его Екатериной II.
При жизни они ненавидели друг друга, но по смерти царственный сын заставил родителей лежать рядом. От мертвых возражений не бывает.