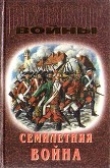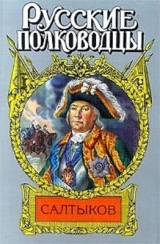
Текст книги "Салтыков. Семи царей слуга"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Перфильев, первый занявший Цорндорф, тут же разослал во все стороны разъезды, дабы выяснить, где находится противник. И когда в деревню пришли первые полки, а с ними и главнокомандующий, бригадир уже смог доложить ему обстановку:
– Так что, ваше-ство, пруссаки далеко, вон за речкой Митцелем. Видно, оттуда и станут атаковать.
– А что за деревня за Митцелем?
– То Дармитцель, ваше-ство. За ней мои хлопцы и бачили пруссаков. Не иначе туда подходит король.
Фермор призвал только что прибывших с дивизиями генералов.
– Господа, вот на этой местности выстраиваем полки в виде большого каре, так делал когда-то Миних. В средину каре обозы.
– Фронтом-то куда? – спросил Чернышев.
– Фронтом вон на тот ручей Митцель, там должен появиться король. Вы, генерал Чернышев, с Броуном занимайте правый фланг построения. Генерал Панин со Стояновым – на левый фланг. Леонтьев с Мантефелем встают по центру, во второй линии за ними вы, генерал Голицын с Ливецом, ну и бригадиры Тизенгаузен с Сиверсом. Конницу на фланги.
– Куда прикажете пушки? – спросил Матвей Толстой.
– Пушки, разумеется, в первую линию, между полками.
– Овраг рассечет наше каре, вот что плохо, – сказал Голицын.
– Знаю, князь. Но что делать, здесь хоть поле. Левее озеро, вправо лес заболоченный.
Фридрих на сером в яблоках коне в подзорную трубу наблюдал за построением русских. За спиной его тоже на конях стояли генералы Зейдлиц, Дон, Финк, Вернер и ротмистр гвардейцев короля Притвиц.
– Так. Понятно, – говорил король, не отрываясь от трубы. – Они готовят нам прекрасную встречу, господа. Если, конечно, мы пойдем через ручей. Даже, обратите внимание, мосты не ломают, предлагая нам идти по ним под их пушки. Ай, молодец Фермор, хорошо придумал. Но ведь и мы не дураки. А? Верно?
Король опустил зрительную трубу.
– Как вы знаете, господа, я никогда не делаю того, чего ждет от меня противник. Верно, Зейдлиц?
– Верно, ваше величество.
– Ну и как вы посоветуете мне ударить?
– Полагаю с флангов, ваше величество.
– Почти угадали, Зейдлиц. Благодарю вас. Фермор ждет нас от Куцдорфа и от Дармитцеля, оттого и мосты там не тронул. Завтра с утра пусть Ведель постарается убедить их окончательно в этом. Устройте демонстрацию, что именно по этим мостам мы и собираемся переходить, посылайте проверять прочность этих мостов, суетитесь, двигайтесь, ну, не мне вас учить, Вейдель, как надо морочить противнику голову. А вы, Финк, еще до рассвета должны передвинуть пушки к керстенбергскому мосту и под прикрытием кирасир Зейдлица перетащить их через Митцель. Потом, минуя Бодлов, пройти через Вилькельсдорф и оказаться за Цорнсдорфом. И вот на тех высотах поставить пушки и не жалеть зарядов. Чтоб из ихнего каре получилась хорошая каша.
– Но протащить более сотни пушек незаметно будет трудно, ваше величество, – сказал Финк.
– Ну до Боцлова вы будете закрыты лесом, а далее идут всхолмления и овраги. Пользуйтесь ими. Да и если заметят, то не ранее как в конце вашего пути. И потом, пока они повернут фронт назад, вы уже успеете установить орудия на прямую наводку. Я удивляюсь легкомыслию русских, как это они умудрились за спиной у себя оставить эти цорндорфские высоты, словно приглашая на них наши пушки. Ну что ж, – Фридрих улыбнулся, – я устрою им Помпею. Они ее заслужили. Теперь задача вам, Зейдлиц. После того как Финк хорошо промолотит их построение, вы с вашими кирасирами врубаетесь в их правый фланг и приканчиваете уцелевших.
– Вы имеете в виду левый, ваше величество? Они же повернутся кругом.
– Нет, нет, именно правый, потому что на левом они будут ждать, врубайтесь, как обычно, косым углом, чтобы вспороть брюхо их каре. А вы, Карл, – король обернулся к принцу Брауншвейгскому, – довершите дело с вашей пехотой. На первом этапе сражения никаких пленных, некому с ними возиться. После того как разобьем русскую армию, уцелевших и здоровых можно в плен. Раненых приканчивать. После левого фланга у Зейдлиц, быстро отходите и со стороны Цорндорфа врубайтесь в правый. Впрочем, возможно, этого уже не потребуется. Да, Вейдель, демонстрацию наших приготовлений начинайте сегодня же, это отвлечет внимание русских от Финка. Пошлите на эти мосты усиленную охрану с ротмистрами, убедив и их, что завтра мы пойдем через эти мосты. Надеюсь, вы понимаете – для чего?
– Да, ваше величество.
– Если кого-то из них захватят казаки и утащат к себе, чтоб пленный был твердо убежден, что именно тут мы и пойдем. Я даже буду рад, если русские утащат у вас такого «языка». Резерв у генерала Дона. Об отступлении думать запрещаю, только победа. Нападаем мы, значит, инициатива у нас. Все, господа! Остальное по ходу сражения с моими адъютантами. Драку начинает Финк.
Король повернул коня и поехал к своему шатру, едва видневшемуся из-за кустов. Там уже его повар колдовал у костра.
– Чем угостишь нас, Зигфрид? – спросил Фридрих, слезая с коня и передавая повод денщику.
– Свежатинкой, ваше величество. Кирасиры расстарались – добыли олениху.
– Ну что ж, дичину я люблю. Входите, Дон, разделим трапезу.
Помимо генерала Дона, за походным столом короля сидел его секретарь де Катт. На столе кроме жареной дичины была корзина с виноградом. Фридрих щедро угощал:
– Ешьте, господа, может, больше не доведется полакомиться.
– Что вы, ваше величество, – возразил было Дон.
– О, генерал, эта дама может явиться к нам в любой момент, а уж во время сражения тем более. Для ядра и пули все равны, что кучер, что король.
Когда Дон, закусив, удалился, Фридрих достал из внутреннего кармана конверт и протянул его секретарю:
– Держи, Анри.
– Опять завещание, – спросил де Катт.
– Да. Все мы смертны и поэтому о наследстве и наследниках должны не забывать, тем более короли.
Сказав буквально несколько слов о завещании, король впал в лирическое настроение. Он знал, что де Катт был прекрасным слушателем и ценителем поэзии.
– Вот послушайте, Анри, прекрасные стихи Расина о бое быков:
Ах, что за яростная сила
Быков столкнула меж собой,
Привольный возмутив покой
В краю, где тишина царила…
Это не о завтрашнем ли нашем дне, Анри? Жила-жила себе деревушка Цорндорф, явились мы – русские и пруссаки – и завтра:
Уже в ревнивцах гнев кипит
И под ударами копыт
Земля дрожит и стонет,
Уже чудовищный их рев
Деревья долу клонит,
Подобный рокоту громов…
Правда, отличные стихи, Анри?
– Стихи хорошие, но это про быков все же.
– Пожалуйста, у Расина можно найти и про меня, скажем, почти про нас. Вот в его трагедии, например, «Александр Великий» есть такие прекрасные строки:
Над славою моей вотще твой гнев глумится:
К победе я привык в открытую стремиться.
Никто не уличил меня доселе в том,
Что, силою не взяв, я шел кривым путем.
Я от неравного не уклонялся боя,
Не прятался в тени, но рисковал собою.
Враг в малодушии не упрекал меня,
И блеск моих побед сиял средь бела дня…
Какие прекрасные строки, Анри. А?
– Да, ваше величество. И я, честно, всегда поражался вашей памяти на стихи.
– Господи, да я Расина, особенно героического, почти всего наизусть знаю. Хотите, еще прочту?
– Хочу, – слукавил де Катт, хотя очень хотел спать.
И король, воодушевленный слушателем, начинал читать, иногда даже прикрывая глаза от удовольствия… И читал до полуночи, пока не услышал храп секретаря. Крякнул с неудовольствием:
– Ах мерзавец… Дрыхнет.
И стал укладываться на свою кровать.
Видно, в эту ночь Фермору не суждено было заснуть, голова пухла от сотни неотложных дел, которые срочно надо было решать. Где-то после полуночи едва задремал, как появился Захар Чернышев с казаком, который тащил связанного пруссака.
– Вот, Вилим Вилимович, мои казачки у моста языка сцапали.
– Отлично, – устало произнес Фермор, хотя ему ох как хотелось послать к черту и казака, и его «языка». – Что вы делали у моста, сударь? – спросил «языка».
– Нам велено было укреплять стойки, чтоб утром можно было провезти артиллерию.
– Вот оно что… – Фермор взглянул на Чернышева уже без тени сонливости. – Слыхал, Захар Григорьевич?
– Надо было сжечь их или взорвать, Вилим Вилимович.
– Что теперь говорить. Задним умом мы все крепки. Думалось, стрелять будем во время перехода пруссов. Да и Митцель этот не великое препятствие для пехоты, тем более для конницы. Вот для пушек… Как же мы опростоволосились?
– Велите Толстому утром разбомбить мост из «Шуваловой», – посоветовал Чернышев.
– Придется, придется. – Фермор зевнул и, взглянув на чернобородого казака, поблагодарил: – Спасибо, братец, за «язычка», очень ценный оказался. Чей будешь-то?
– Полковника Денисова ординарец, ваше превосходительство, Емельян Пугачев.
– Молодец, Емельян. Хвалю.
– Рад стараться, ваше-ство.
И утром, едва рассвело и в небе зажурчали жаворонки, рявкнули «шуваловки», и от мостов полетели щепки. И видно было, как засуетились на той стороне пруссаки.
– Ваше сиятельство, смотрите, смотрите! – закричал кто-то рядом с Фермором, указывая назад.
Главнокомандующий оглянулся, и сердце у него словно упало – у Цорндорфа суетились пруссаки, выкатывая пушки.
«Обманул, негодяй, обманул меня, как мальчишку», – подумал Фермор и тут же приказал адъютантам:
– Живо по дивизиям, командуйте: кругом!.
Пехоте повернуться кругом не так уж сложно. Но как быть с пушками, которые выставлены в бывшей передовой линии и нацелены на Митцель, оказавшийся теперь в тылу.
– Скачите к Толстому, скорей к Толстому! Пусть меняет позицию!
А как ее теперь менять, когда за спиной у артиллеристов лагерь, забитый впритык подводами и лошадьми? Пушки надо катить вкруг своего же каре, а времени уже нет.
Матвей Толстой, носясь на коне и матерясь, приказывает прислуге впрягать лошадей.
– Ящичные! – кричит он, надрывая жилы. – Вы что рты раз-зинули, запрягайте скорей! Ну! Суки! Ш-шевелитесь!
А на высотке за прусскими пушками на своем жеребце в яблоках гарцевал сам Фридрих, возбужденный, почти веселый. Поторапливал артиллеристов:
– Поживей, ребятки, поживей! Целься, чтоб ни одно ядро даром не пропало. В кашу их, в лепешку!
Дальше за спиной короля движется конница Зейдлица мимо Цорндорфа, туда, на левый фланг, откуда после артподготовки и ударит она по правому крылу русских, претворяя в жизнь остроумный план повелителя.
– Ротмистр! – обратился король к Притвицу. – Скачи к Дону, какого черта они тянутся с пехотой. Поторопи.
Загрохотали пушки, конь короля от испуга прянул в дыбки. Фридрих натянул поводья, похлопал по шее, успокаивая животное:
– Но, но, милый. Али впервой?
Оглянулся на побледневшего своего секретаря, видно не выспавшегося после слушания стихов в исполнении короля.
– Что, Анри! – крикнул ему Фридрих. – Веселая картина?
– Из-за дыма не видно, ваше величество.
– Изобретите бездымный порох, Анри, – улыбнулся король, – и я сразу произведу вас в фельдмаршалы.
В русском лагере, теперь лежавшем как на ладони перед пруссаками, творилось что-то ужасное. Прилетавшие с высот шипящие ядра не могли не попасть по цели: слишком плотно стояли полки. И каждое ядро убивало по десятку, а то и более человек.
Стояли крик, стоны, ржание лошадей, так как ядра залетали и туда, где сгрудились повозки. И там промахов не было. Кто-то в этом гаме умолял о помощи, кто-то звал своих артиллеристов:
– Где наши пушки?! Черт бы их драл!
Князь Голицын, до начала боя находившийся со своими полками во второй линии, а с началом оказавшийся в первой, увидев, как ядра прокашивают в его полках бреши, наконец догадался приказать:
– Лож-жись!
Глядя на голицынские полки, легли и ливенские солдаты. Теперь прилетающие ядра не сокрушали живых стен, хотя все равно поражали двух-трех человек.
Сам Голицын носился на коне перед строем взад-вперед, не давая пруссакам прицелиться в него.
– Ваше сиятельство, лягте! – кричали старые солдаты, переживая за князя.
Он отмахивался, считая для генерала невозможным и унизительным лежать в землю носом. Но зато пытавшимся подняться грозил кулаком:
– Лежа-ать!
К нему подбежал бригадир Тизенгаузен, схватился за стремя, закричал:
– Ваше сиятельство, надо атаковать.
– Мы сразу разрушим каре. И потом, едва мы пойдем в атаку, они порежут нас картечью и добьют кавалерией. Лежите, бригадир. Король скоро кончит. Он не любит долгой музыки.
– Но где же наша артиллерия?
– Я сам жду, когда они развернутся.
А пока расстреливаемые из пушек русские полки могли отвечать лишь ружейным огнем.
Напуганные стрельбой, свистом ядер, треском повозок кони метались, не даваясь в руки ездовым. Люди, понимавшие более животных свою ответственность, сами хватались за лафеты, обламывая ногти, тащили пушки. Даже генерал Толстой, спрыгнув с коня, хватался за колесо, надрываясь вместе с солдатами.
– Давай, ребята, давай!.. Пошла!.. Не останавливаться!
Неожиданно прусские пушки смолкли. И оттуда, с горы, из-за дыма скорым шагом двинулась пехота на правый фланг русского строя. Навстречу им затрещал ружейный огонь, выхватывая из строя атакующих то там, то тут солдата. Но это не останавливало атаку.
– Ребята-а, – крикнул Панин. – На штык их!
Первый удар пруссаков был нацелен на 4-й Гренадерский полк, которым командовал полковник Бекетов, бывший когда-то фаворитом у Елизаветы Петровны.
Нет, не дрогнули его гренадеры, не испугались, напротив, обозленные часовой бомбардировкой, столь безнаказанно избивавшей их, здесь они наконец-то могли отвести душу.
И полковник их, любимец солдат, выхватил шпагу, блеснул ею над головой и первым ринулся в гущу пруссаков, увлекая своих гренадер.
Началась рукопашная со скрежетом штыков, с невольными вскриками, хрипом сотен глоток, с матом и проклятиями на разных языках. Валились под ноги убитые, раненые. Но и там, внизу, под ногами, иные раненые искали ненавистных пруссаков, вцеплялись им в глотку, стараясь удушить, пуская в ход не только руки, но зачастую и зубы.
При сшибке, когда все перемешались, сначала не было видно, кто одолевает, однако потом клубок дерущихся стал постепенно продвигаться в сторону пруссаков. Сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей. И в какой-то миг пруссаки побежали, подгоняемые штыками гренадер. Воодушевленные первой победой, русские загнали их на возвышенность.
– Негодяи! – кричал в бешенстве Фридрих, видя бегство своих солдат. – Они бегут, как старые шлюхи!
И тут же, повернувшись к Притвицу, скомандовал:
– Ротмистр, живо к Зейдлицу. Передай ему мой приказ атаковать и скажи, что он ответит мне головой за битву.
Притвиц помчался к коннице, приготовившейся к атаке. Увидев нахмуренного Зейдлица, передал ему приказ и слова короля о «голове».
– Передайте королю, Притвиц, что после битвы моя голова будет в его распоряжении.
И кирасиры грозной лавой покатились вниз под гору, сверкая палашами и саблями, и обрушились на рассыпанный строй гренадер.
Только в каре пехота как-то может противостоять коннице, но в рассыпном строе она становится легкой добычей для нее. И гренадеры попятились, а затем и побежали, не смогли противостоять длинным палашам. Где-то исчез и полковник Бекетов, – видимо, пал под палашом конника. Вполовину поредел 4-й Гренадерский полк.
– Расступись! – несется над полем команда генерала Панина.
Уцелевшие гренадеры бросаются в стороны врассыпную. И тут же рявкают русские пушки, встречая картечью прусских кирасир. А кто из гренадер не услышал ли команды, замешкался ли перед конницей, не ускользнул в сторону, тот получает от своих полновесный «гостинец» и валится под ноги сраженного коня или кирасира.
Кирасиры остановлены картечью. Первые ряды валятся вместе с конями, кричащими жалобно в предсмертьи.
Но Фридрих уже бросает пехоту в атаку на левый фланг русского построения, поторапливая:
– Быстрее, быстрее, не давайте передышки! Правое крыло смяли, сомнем левое, а центр сам побежит.
И уже атакованы полки Броуна и Чернышова. И там на левом крыле идет рубка, резня, настоящая бойня. Сами генералы в гуще ее, с Броуна сбили шляпу, на лбу у него кровь, но старик дерется не хуже молодого, разве что поискуснее в движениях. Шпагой владеет в совершенстве.
Но не пятятся русские, не пятятся. Голицын из центра бросил во фланг прусской пехоте свои полки, сам впереди все так же на коне:
– За мной, ребята!
Он первый со сверкающей шпагой врывается в гущу.
– Князь впереди, братцы! Не выдавай!
Фридрих с возвышенности смотрит на поле битвы, то и дело поднося к глазу подзорную трубу, ожидая момента, когда же попятится неприятель. Тогда можно пускать кирасир. Словно подслушав короля, де Катт говорит:
– Они не побегут, ваше величество.
– Почему? – быстро оборачивается к нему король.
– Им некуда бежать, позади река, болота.
– Побегут, – говорит уверенно король и, поднеся к глазу трубу, почти кричит: – Вон уже побежали!
– Где? Где?
– Вон там, смотри, за каре.
Де Катт приложил ладонь козырьком, всматриваясь в даль, за кипящий внизу котел дерущихся.
– Так там всего два человека, ваше величество.
– Паника всегда, Анри, начинается с двух-трех трусов. А потом достигает и храбрецов. Не железные же русские, в конце концов… Смотри, смотри, они уже на мосту у Куцдорфа.
– И никто за ними не бежит.
– Странно, очень странно. – Король опять вскинул подзорную трубу, направив ее на Куцдорф. – Черт подери, да, никак, там один из них генерал?
Фридрих не ошибся, с поля боя бежали довольно резво на конях принц Саксонский Карл и австрийский представитель при русской ставке генерал Андрэ.
Оба они находились при главнокомандующем. Когда ядро разнесло палатку Фермера, контузив его самого, а адъютанты, вытащив его из-под обломков и тряпок, пытались привести в чувство, уцелевшие принц и Андрэ переглянулись и поняли друг друга: «Надо сматываться, пока не поздно».
Однако требовалось проехать вторую линию полков, еще не вступивших в бой, хотя уже понесших потери от артиллерии короля.
– Стой! Куда? – остановил их жесткий окрик какого-то полковника.
Принц Карл нашелся мгновенно:
– По приказу командующего за третьей дивизией в Шведт.
И проскочили и, нахлестывая коней, помчались к мосту.
– Как вы находчивы, ваше высочество, – польстил Андрэ принцу.
– Небось найдешься, когда петух жареный… – проворчал Карл и тут же начал костерить командующего: – Старый дурак, так поставить армию, занять такую позицию задом к неприятелю… Обязательно все расскажу Воронцову.
– Да, да, – поддакивал австриец. – Дисциплины никакой. Еще не начав сражения, потерять столько людей… Это немыслимо…
Оба в душе понимали, что струсили, дезертировали с поля боя, и оба искали виновных в поражении, в котором не сомневались. И придумали себе уже оправдание, которое вдруг родилось из реплики принца: «Скачем за третьей дивизией».
Да, да, прекрасная мысль: они не бежали, они помчались в Шведт, чтобы привести на помощь дивизию Румянцева. Однако любой мало-мальски мыслящий мог рассудить, что сикурс этот принц и генерал при самых благоприятных условиях смогли бы привести дня через три-четыре, когда б давно закончилось сражение и даже были б похоронены павшие в нем.
И когда появившийся в Петербурге принц начал было оправдывать свое бегство желанием привести подмогу, даже принцесса Екатерина Алексеевна не удержалась:
– Ох, Карл, скажите уж лучше, что сердце в пятки ушло, – и засмеялась.
Оконфузила принцесса Карла, перед всем двором оконфузила, по сути обвинив в трусости.
А меж тем Фермор, придя в себя и немного оклемавшись от контузии, спросил адъютанта:
– А где саксонский и австрийский представители?
– Уехали, ваше превосходительство.
– А-а, Бог им судья. С них и пользы, что от пятого колеса. Как там наши?
– Держатся, Вилим Вилимович.
– Толстой?
– Уже выкатил, бьет по пруссакам.
– Ну слава богу. Что за шум на левом крыле? Или это у меня в башке?
– Там атакуют прусские кирасиры.
– Зейдлиц?
– Он самый. Чернышев пустил на них казаков Денисова.
– Молодец. Правильно решил. А где Салтыков?
– Он уехал на правый фланг.
– А прусские пушки? Почему молчат?
– Молчат, Вилим Вилимович, оттого что по всей первой линии идет рукопашная, там смешались наши и ихние.
– А что вторая линия?
– Вторая линия тоже втянулась. Леонтьев Панину пособляет, Мантейфель Броуну.
Фермор сжимал ладонями голову, которая гудела от перенесенной контузии, бормотал себе под нос:
– Ах, Господи, как же это я обмишурился… на мякине провели старого воробья… Ну король, ну лис, вокруг пальца меня…
Он уже понимал, что сражение идет независимо от его воли и желания, и не хотел отдавать какие-либо приказания, не хотел вмешиваться в ход баталии. Крестился, шепча:
– Пусть будет, как Бог решит.
Но Фридрих по-другому думал: «Бог-то Бог, да не будь сам плох». Он носился на своем жеребце взад-вперед по возвышенности, отдавая направо-налево распоряжения:
– Почему замолчали пушки? Порох отсырел?
– Ваше величество, там наши.
– Бейте по второй линии, по обозу, наконец! Что там герцог застрял? Почему не двигается? Где Зейдлиц?
– Он на правом фланге дерется с казаками.
– Пусть отходит, пусть заманивает. Он что, младенец?
Вокруг посвистывали пули, король не обращал на них внимания: «Свистят не мои, моя не свистнет».
И действительно, одна, «не свистнув», сбила с короля шляпу. Секретарь тут же соскочил с коня, поднял шляпу, подал Фридриху:
– Держите, ваше величество.
– Благодарю, де Катт, вы очень любезны.
Солнце перевалило за обед, а сражение не кончалось.
– Их что тут, гвоздями прибило? – возмущался король тем, что русские никак не бегут.
Над полем клубился дым, смешиваясь с пылью, поднятой тысячами копыт казачьих и кирасирских коней. Потерявшие в рубке своих седоков, развевая хвосты, уносились десятки и сотни лошадей в поле. И некому ловить их было, все помыслы людей нацелены на убийство врага, ради спасения собственной жизни. Убить, только убить, не важно чем – штыком, прикладом, палкой, ножом, задушить руками, загрызть зубами. Убить во что бы то ни стало!
Русские не только не пятились, но, воспользовавшись тем, что пушки на высотке замолчали, атаковали их под командой Стоянова и, отбив несколько, перебив обслугу, потащили к себе, благо, с горки они сами катились.
– Вот нахалы! – возмущался король. – Догнать! Отбить!
Но на кинувшихся догонять «нахалов» посыпалась картечь, и им пришлось бежать назад, неся потери.
К королю явился его повар:
– Ваше величество, я принес суп с бараниной, – и подал котелок с ложкой. – Откушайте.
Сунув зрительную трубу в чехол, Фридрих принял котелок, ложку, но отхлебнуть успел лишь два раза. Пуля, звякнув, выбила посудину из рук короля.
– Что за черт! – воскликнул Фридрих. – Поесть не дают. – И стал отряхивать с себя крупу и кусочки мяса.
Повар подхватил с земли продырявленный котелок.
– Я еще принесу, ваше величество, возьму другой. Этот продырявили.
– Уноси ноги, Зигфрид, не дай бог продырявят тебя. Кто меня кормить будет? Исчезни.
– Но вы ж не поели, ваше величество.
– Ты видишь, ныне всем не до еды. Чем я лучше других? Уходи.
Сражение окончилось в семь часов вечера, когда зашло солнце. Завершилось на том самом поле, где и началось, без труб, без барабанов. Обе армии просто утомились, выдохлись в тяжелейшей страшной работе – истреблении друг друга. Все поле, насколько хватало глаз, было устлано трупами. Уцелевшие и раненые брели к своим обозам, спотыкаясь, падая и споро подымаясь. Ни сил, ни злости ни в ком уже не было, только усталость. Некоторые, упав среди мертвых, тут же засыпали. Другие, напротив, разгоряченные, взбудораженные, даже добравшись до возов и перекусив чем-нито, не могли сомкнуть глаз от только что пережитого кошмара.
К разбитому, изодранному шатру Фермора сходились командиры дивизий и бригад. Пришли Леонтьев, Толстой, Броун с головой, замотанной окровавленной тряпкой.
– А где Чернышев? – спросил Броуна Фермор.
– Не знаю, Вилим Вилимович. Он не вернулся с одной из контратак.
– Погиб?
– Не знаю. Не хочу врать.
Появились уже в темноте Голицын с Ливеном. Они тоже ничего не могли сообщить утешительного ни о Чернышеве, ни о Панине, ни о Стоянове, ни о Бекетове.
– Стоянова я видел в последний раз, когда он повел атаку на пушки, – сказал Толстой.
– Но он воротился?
– Да. И приволок с людьми более десятка прусских пушек.
– А Бекетов?
– Бекетов не вернулся из первой же контратаки.
Не явились к главнокомандующему генерал Мантейфель и бригадир Тизенгаузен. Возможно, погибли, но об этом никто не заговаривал, надеясь на чудо, которое после таких сражений нередко случается, когда убитый или даже похороненный вдруг появляется среди товарищей, живой и невредимый.
– Ирман, – окликнул Фермор квартирмейстера.
– Я слушаю, ваше превосходительство.
– Возьми свою команду, соберите ружья и шпаги убитых и сложите на телеги.
– Утром?
– Нет. Сейчас. Немедленно, чтоб за ночь управились.
Рано утром, едва зарозовел восток, зашевелился русский лагерь. Армия уходила с цорндорфского поля в сторону Ландсберга. Скрипели повозки, стонали в них раненые от толчков на рытвинах. Здоровые шагали рядом с заряженными ружьями, готовые к отражению врага, если б он попытался напасть.
Фридриха разбудил адъютант:
– Ваше величество, русские уходят.
– Ну и черт с ними. Куда они направляются?
– На Блуменберг.
– Значит, победа за нами, Притвиц! Арни, вставайте, пишите реляцию в Берлин о нашей победе. Поле за нами. Пусть там порадуются.
Де Катт, садясь за бумагу, чувствовал искусственность королевской бравады, но, зная характер Фридриха, не удивлялся этому: «Опять сам себя подбадривает. Какая победа? Русские не уступили ни пяди. Положили наших здесь полков десять. О какой победе может идти речь?»
Однако реляцию накатал секретарь оптимистичную, какую велел король: радуйтесь, берлинцы!
Пленных с вечера загнали в какой-то сарай на окраине Цорндорфа. Большинство были раненые. Кто-то стонал, кто-то скрипел зубами, а кто-то облегчения ради тихонько матерился. Часовой, стоявший за дверьми, запретил разговаривать, и поэтому пленным приходилось шушукаться:
– Ты откель, браток?
– Я с четвертой Гренадерской. А ты?
– Я от пушек.
– Значит, толстовский?
– Угу.
– Затяни мне потуже, а то сползает.
– Дали б хошь воды, смерть пить хотца.
– Потерпи, заутра напоят, аж очи вылезут.
– Не каркай, дурило.
Захар Чернышев угодил в плен, придя в сознание на поле боя.
Поднялся с гудящей головой на ноги, а тут тебе и команда: «Хенде хох!»
– Чтоб ты сдох… – пробормотал генерал, однако руки поднял.
Его втолкнули в сарай в темноте, он на кого-то наступил, тот вскрикнул, выругался:
– С-сука, ты ж мне руку разбередил.
– Прости, браток, – извинился Чернышев и, присев, ощупью нашел у стены местечко, сел. И вскоре так, сидя, и уснул.
Проснулся, когда в сарае было уже светло настолько, что можно было рассмотреть в полумраке людей. Чернышев вытянул затекшие ноги, осмотрелся, ища кого-нибудь знакомого. Увидел совсем близко полковника Бекетова, пробрался к нему. Опустился рядом.
– Здравствуй, Никита.
– Здорово, Захар.
– Ну как ты?
– Хреново, брат. Кирасир едва руку не отрубил, сволочь. Столько крови потерял.
Помолчали, повздыхали. Чернышов спросил:
– Что тебя-то сюда понесло?
– Куда сюда? В сарай, что ли?
– На войну? Ты ж, как-никак у нее в фаворитах обретался.
– Выходит, другой получше сыскался.
– Кто? Алешка Разумовский?
– Хошь бы и он. Тебе-то что?
– Ты не сердись, Никита.
– А чего мне сердиться?
– Ты ей как приглянулся-то?
– В пьесе играл. Да, видно, так хорошо, что, окромя рубля, решила приласкать.
– Ну и как?
– Что «как»?
– Как она в постели-то, небось мягонькая?
– Слушай, Захар, не цепляйся, еще услышит кто.
– Тю, Никита. Дурачок ты. Може, через некий час нам двенадцать ружей без суда! А ты: «кто услышит». Впрочем, вряд ли патроны переводить станут, поколют штыками або саблями порубят, а ты: «услышат».
– И все равно об ней не хочу зубоскалить. Она меня любила. Да, да. Чего улыбаешься?
– Любила б – на войну не отправила.
– Я сам вызвался. Произвели в полковники, чего ж сидеть около, сердце бередить.
– А Разумовского вон в фельдмаршалы пожаловала, однако сюда не думает отпускать. Видать, у него сучок-то покрепче твоего, – хихикнул Чернышов.
– Ну и гад ты, Захар! – рассердился Бекетов.
– Ладно, Никита. Будет о ней. Давай думать, как удрать отсюда.
Но Бекетов молчал, видно, всерьез сердился на генерала.
– Кто тут еще из офицеров есть? – спросил Чернышев, решив переменить тему.
– Видел Тизенгаузена и Салтыкова.
– Которого? Старика?
– Нет, генерал-поручика.
– Хох, впору военный совет открывать. Часом, Фермор не тут?
– Нет. Вилима нет.
– Слава богу, – перекрестился Чернышов. – Значит, армия цела, коли Вилима не пленили.
Не понравилась Бекетову интонация в голосе генерала, ехидная какая-то.
– Ну и язва ты, Захар.
– Небось заязвишь, коли впереди карачун светит.
– Молись Богу, може, услышит.
– Эх, Никита, Никита, а еще с царицей любился.
– Я же сказал, помолчи об этом, Захар. Будь человеком.
– Ладно, ладно, молчу.
Но молчал Чернышев не долго, погодя несколько, спросил:
– Значит, бежать не станешь? Так?
– Так, Захар. Я слаб, не хочу тебе обузой быть. Да и, если заметят, пристрелят на месте.
– Ладно, Никита, я тоже не побегу, – сказал Чернышов, хотя в мыслях другое держал: «Черта с два. Уловлю момент – смоюсь».
И уже пожалел, что о побеге с Бекетовым заговорил, – кругом люди, кто-нибудь наверняка слышал, может и выдать. Для этих длинных ушей и произнес генерал последнюю фразу: не побегу, мол, и я.