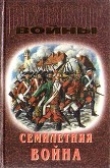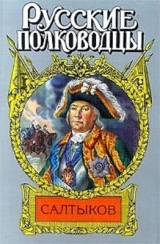
Текст книги "Салтыков. Семи царей слуга"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
С начала 1761 года Елизавета Петровна часто болела и уже слушала доклады, лежа на постели. Связь с Сенатом и Конференцией держала через кабинет-секретаря Олсуфьева, находившегося во время болезни около.
Однажды, глядя в окно на строящийся Зимний дворец, Елизавета Петровна вдруг тихо заплакала.
– Что с вами, ваше величество? – встревожился Олсуфьев.
– Адам, вызови, пожалуйста, Растрелли[64]64
Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (1700–1771) – выдающийся русский архитектор, яркий представитель русского барокко. Замечательными произведениями Растрелли являются Зимний дворец в Петербурге, Екатерининский дворец с парком и павильонами в Царском Селе, ансамбль Смольного монастыря и многие другие.
[Закрыть], – попросила государыня, вытирая платочком со щеки слезы.
Олсуфьев вышел, послал кого-то за архитектором, вернулся снова к ложу ее величества. Вскоре явился запыхавшийся, встревоженный Растрелли, остановился у порога.
– Я пришел, ваше величество.
– Подойди ближе, Варфоломей Варфоломеевич.
Растрелли приблизился, стараясь идти на цыпочках, не стучать каблуками.
– Варфоломей Варфоломеевич, скажите, когда вы закончите Зимний дворец?
– В будущем году обязательно, ваше величество.
– Но он ведь почти готов.
– Много времени отнимает внутренняя отделка, ваше величество.
Императрица повернула голову к окну, долго смотрела на дворец. Потом тихо сказала:
– Какой красавец. Как бы мне хотелось пожить в нем.
Растрелли и Олсуфьев переглянулись.
– Поживете, ваше величество. Вот бы мне… – осекся архитектор.
– Что «бы мне», Варфоломей Варфоломеевич? – обернулась к нему государыня.
– Понимаете, ваше величество, отделка задерживается из-за денег.
– Из-за денег? – удивилась Елизавета Петровна. – Сколько надо вам?
– Еще тысяч триста, ваше величество.
– Значит, еще много дел, – вздохнула императрица.
– На первый случай хотя бы сто тысяч.
– Просите в Сенате. Адам Васильевич, – обратилась Елизавета к кабинет-секретарю, – сегодня же вели Сенату найти деньги для Растрелли.
– Хорошо, ваше величество.
– И вообще объяви Сенату, что я очень-очень недовольна их работой. Дела решают медленно, заседания проводят в спорах. Когда я приказала определить купца Герасимова в браковщики пеньки и льна? И это до сих пор не исполнено. Безобразие! И еще. Многие сенаторы в присутствии бывают редко, другие вообще не являются. Пусть обер-прокурор переписывает отсутствующих и доносит мне.
– Вам нельзя волноваться, ваше величество, – напомнил Олсуфьев.
– Как же не волноваться, Адам? Все сенаторы получают приличное содержание, а в присутствие ходят через пень колоду. Вот будет Чернышев мне приносить списки нетчиков, велю вычитать с них жалованье, глядишь, и набежит на отделку дворца. Ступайте, Варфоломей Варфоломеевич, ныне придите в Сенат, объясните им, как и что. Найдут деньги, куда денутся.
Когда Растрелли вышел, императрица велела призвать канцлера. Воронцов появился, тяжело опираясь на трость.
– Что с тобой, Михаил Илларионович? – спросила императрица.
– Болею, матушка, – прокряхтел Воронцов.
– Вы словно все сговорились. Шувалов Петр Иванович постоянно болен, Шаховской стонет: болею, мол, в отставку просится. Тут еще вы… Да сядьте, не стойте.
Воронцов опустился на диванчик, вздохнул:
– Трудно мне, ваше величество. Тяжело. Дала бы мне помощника хоть.
– Кого ж вам надо?.
– Да князя Александра Михайловича Голицына бы.
– Этого ж из Лондона отзывать?
– Ну а что? Нельзя туда кого другого?
– Нельзя, Михаил Илларионович, нельзя. Александр Голицын весьма искусен в дипломатии. Он там на своем месте.
– Тяжело мне. Ох тяжело, ваше величество. Отпустила б меня. А?
– А кто ж меня отпустит, граф? Я-то посильней вас всех больна. Однако вот тружусь, не сдаюсь. А вы, мужики, разнылись, расхныкались, хуже баб: отпусти, отпусти. Вот, кстати, канцлер, почему вы не ходите в Сенат в присутствие?
– Так ведь дела, матушка. Не разорваться ж.
– Сегодня чтоб были, надо изыскать деньги для Растрелли.
– Постараюсь, матушка.
– И еще, Михаил Илларионович, надо подумать о главнокомандующем. Бутурлин никуда не годится, только то и делал, что бегал от короля. В прошлую кампанию Салтыков два таких сражения выиграл, а этот…
– Може, опять его же воротить? Петра Семеновича?
– Может, и его, если кого другого не найдем. Скажем, эвон Румянцев?
– Мальчишка, молоко на губах не обсохло.
– У Бутурлина давно обсохло, а что проку. А этот, воюет, сказывают, хорошо.
– Оттого и хорошо, что кидается очертя голову. А командующим надо рассудительного, чтоб семь раз отмерял, один раз отрезал.
– Долго они все «отмеряют», – вздохнула императрица. – Сколько лет Кольберга «отрезать» не могут. Стыд головушке. Ныне вот Румянцева туда отрядили, хоть в этом сообразил Бутурлин. Может, что и выйдет.
И на этот раз отмотался Воронцов от присутствия в Сенате. Явившись туда, подозвал Чернышева – обер-прокурора Сената:
– Иван Григорьевич, меня французский посланник ждет, дело весьма важное, ты уж не пиши меня в нетях.
– Как можно, граф? Ведь вас не будет?
– Как ты не понимаешь. Франция, того гляди, с Фридрихом мир заключит, мне ж того допустить никак невозможно, а ты…
– Но ведь не поверит государыня. Вы ж еще ни разу не были в присутствии. А тут вдруг явились.
– Поверит. Я ей обещал быть. Ныне Растрелли деньги вырешать будете, так я «за», так и напиши, канцлер, мол, за выделение.
– Ну ладно, Там посмотрим.
– Не посмотрим, а напиши «был». Ее величество больна, ее беречь надо. Вот пришел же я, с тобой разговариваю, значит, «был».
– Ладно, – согласился Чернышев, – был так был.
Уходя из Сената, Воронцов ворчал себе под нос: «Чертова говорильня. Сиди, слушай всякого…»
На Сенате, где Растрелли запросил для отделки Зимнего дворца аж триста восемьдесят тысяч рублей, решено было выдавать их по частям. На первое время сто тысяч для спешной отделки комнат, предназначенных ее величеству. Тронуло сенаторов сообщение кабинет-секретаря:
– Государыне очень хочется пожить в новом дворце.
Многим подумалось: «Успеем ли?» Но все смолчали, проголосовали единогласно: «Деньги выделить».
Хотя с деньгами туго было, ох туго. Но как молвится: «Где тонкостям и рвется». Через десять дней после сенатского решения средь бела дня вспыхнули, загорелись склады по Малой Невке. Построены были, ради экономии места, у причалов, один к одному впритык.
Елизавета Петровна, уже вставшая и ходившая по своим покоям, прильнув к окну, смотрела на этот ужасный пожар, плакала, шептала:
– Господи, Господи, да что ж это творится. Какой ужас…
А огонь бежал, как хищный зверь, прыгал с амбара на амбар. И скоро весь берег полыхал жутким пламенем. Кое-где задымились причалы, вспыхнули паруса на какой-то барке, потом еще на одной.
– Что ж они стоят? Почему не отходят от берега? – говорила Елизавета Петровна, терзая в руках шелковый платочек.
За спиной государыни ахали, пищали фрейлины.
Весь Петербург застилало дымом, по улицам носились пожарные, тревожно гудели колокола на соборах.
К вечеру огонь начал стихать, пожрав все, что мог захватить вдоль причалов. Дымились обугленные остатки амбаров, черные барки, сгоревшие на воде, разваливались прямо на глазах. Словно потревоженные муравьи бегали, суетились там люди.
От пережитого ужаса Елизавета Петровна опять слегла. Пришедший врач Шилинг пустил ей кровь, но это мало облегчило ее страдания.
– Боже мой, боже мой, – лепетала императрица. – Чем мы прогневили Всевышнего?
Придворный врач Круз принес ей успокоительные капли:
– Выпейте, ваше величество. Вам нельзя волноваться, на все воля Божья.
В ту ночь плохо спала Елизавета Петровна. Едва прикрывала глаза, как видела пожар, огонь до неба, невольно вздрагивала, просыпалась. А один раз, забывшись, увидела себя горящей в огне, испуганно проснулась, вскрикнув от страха.
На полу на своем матрасе подскочил Чулков:
– Что с тобой, матушка?
– Ох, Василий Иванович, приснилось, что горю я. Ужас! Сердце в пятки ушло.
– Успокойся, матушка, повернись на правый бочок, почитай молитовку. Оно и отстанет. То гарью пахнет, вот и снится.
– Кабы мы не загорелись.
– Что ты, что ты, матушка. Господь с тобой. Чай, сторожа бдят. Разбудят, коли что.
– Скорей бы в Зимний переехать, там все каменно, не надо трястись от страха.
– Переедем, матушка, переедем. Дай срок.
– Ты коли что, Василий, буди меня сразу.
– Не беспокойся, матушка, нешто я не знаю свово дела. Спи, родная.
На следующий день перед обедом явился к императрице князь Шаховской, пропахший дымом и копотью.
– Ну что, Яков Петрович? – спросила Елизавета Петровна, пряча страх свой.
– Плохо, ваше величество, – вздохнул Шаховской. – Более восьмидесяти амбаров сгорело с пенькой, льном, много барок, груженных товаром. Иные купцы в пух разорены.
– Ну на сколько убытков-то?
– Считают еще. Но думаю, не менее как на миллион.
– Свят, свят, – закрестилась государыня. – Что же делать, Яков Петрович? Надо помогать погорельцам-то.
– Надо бы, ваше величество. Да где ж денег брать?
– Пусть купеческий банк раскошелится.
– Да в нем всего-то и капиталу около семисот тысяч если наберется, так хорошо.
– Пусть Сенат возложит на коммерческую комиссию заботу о деньгах. Надо выручать погорельцев, Яков Петрович.
– Эхе-хе. – Шаховской чесал потылицу. – Надо бы, рази я возражаю.
– Растрелли сколько выделили?
– Пока сто тысяч.
Елизавета Петровна долго молчала, потом, вздохнув, молвила:
– Если не выдали, придержите.
– Но они нужны на отделку вашего дворца, ваше величество…
– Отделка подождет, Яков Петрович. Пусть пойдут они погорельцам. Им нужней деньги-то.
Ночью тихонько плакала Елизавета Петровна, мочила слезами подушку. Чулков догадался, спросил ласково:
– Что ж ты, милая голубушка, слезы точишь?
– Обидно, Василий Иванович, мечтала пожить во дворце, а тут вот пожар… Теперь уж, видно, не доведется.
– Что ты, что ты, матушка. Поживем еще, поживем во дворце, родная. Не расстраивайся.
Старик утешал как мог, хотя сам уже стал сомневаться: доживет ли его лебедушка до нового дворца, уж очень плоха стала.
Семнадцатого ноября Елизавету Петровну залихорадило, прибежавший лейб-медик Мунсей дал ей выпить лекарства. Сидел около, держа руку больной. Едва не клацая зубами, она спросила его:
– Ч-что с-со мной?
– Ничего, ничего страшного, ваше величество. Сейчас пройдет, – ободрял врач.
Но думал Мунсей совсем другое: «Худо дело, ох худо. Что-то грядет?»
Постепенно лихорадка миновала. Государыня успокоилась и даже уснула. Все три придворных медика, собравшись в соседней комнате, провели консилиум, предварительно выпроводив всех посторонних. Между собой они могли говорить открыто, ничего не скрывая.
– Что будем делать, коллеги? – спросил Мунсей после того, как поведал о состоянии императрицы.
– Что делать? – вздохнул Круз. – Дело ясное. Ждать.
– Я думаю, она долго не протянет, – сказал Шилинг. – Кабы она еще при обеде от наливки воздержалась, а то пьет без меры:
– Я ей уже говорил, а она мне: куда деться, я ее очень люблю, – сказал Мунсей. – Хорошо, хоть кровь нейдет. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить.
Увы, сглазил лейб-медик. 12 декабря средь бела дня у государыни начался сильный кашель, а затем и рвота с кровью. Медики, посовещавшись, отворили кровь, но это мало помогло.
Кое-как к ночи удалось остановить кашель, совершенно обессиливший больную. Елизавета тихо прошептала:
– Не оставляйте меня.
– Нет, нет, ваше величество, – успокоил ее Мунсей. – Мы уж тут за стенкой днюем и ночуем. Мы рядом с вами.
– Ложитесь тут. Около.
И пришлось для лейб-медика притащить матрас с подушкой. Мунсей лег на него у самого ложа, отодвинув даже матрас Чулкова.
Наутро императрица велела звать кабинет-секретаря. Олсуфьев тоже ночевал в одной из ближних комнат.
– Адам, – тихо заговорила Елизавета, – ступай в Сенат и объяви мой указ: всех людей в государстве, находящихся под следствием, освободить и не преследовать более, сосланных возвратить к их родным местам.
Олсуфьев, присев у туалетного столика и отодвинув пузырьки и коробки с румянами, писал спешно, едва поспевая за шепотом ее величества.
– …Повелеваю я, – продолжала она, – немедля изыскать способ, дабы заменить соляной налог, потому как он слишком разорителен для моего народа. Ступай, Адам Васильевич, зачитай им, да скажи, чтоб не медлили, что это мое богоугодное дело.
Вскоре стало лучшать императрице, про себя подумала: «Вот за мое доброе дело. Бог и ко мне смиловался».
Ко дню своего рождения 19 декабря она совсем поправилась, вставать стала. Попросила даже наливки рюмочку. На укоризненный взгляд Мунсея молвила с оттенком милого каприза:
– Не сердись, друг мой, я только глоточек ради праздника.
Однако хлопнула всю рюмку. Шилинг радовался: поправляется государыня, но Мунсей был тревожен. И Круз не скрывал беспокойства:
– Сие улучшение весьма подозрительно.
На день всего опоздала реляция Салтыкова о взятии Кольберга, которую он приурочивал ко дню рождения императрицы.
– Наконец-то, – искренне радовалась Елизавета Петровна. – Наконец-то. Надо звать его сюда, чествовать героя. Адам Васильевич, пусть реляцию напечатают во всех газетах. Пусть радуются все.
Это было 20-го декабря – радость по поводу выздоровления государыни, ликование по случаю взятия Кольберга – этой занозы в чести и славе русской армии.
Но уже 22-го вечером в 10 часов началась у императрицы сильная рвота с кровью и кашлем, мучавшие больную почти всю ночь.
Посовещавшись, медики вынуждены были объявить, что здоровье ее величества в опасности. Елизавета Петровна велела звать духовника, чтобы исповедаться. Позвали и великого князя Петра Федоровича и великую княгиню Екатерину Алексеевну. Принцесса присела у самого ложа больной, принц встал у окна.
Открыв глаза, Елизавета Петровна увидела заплаканное лицо принцессы, прошептала ласково:
– Катенька… Милая… – и кивком головы позвала наклониться ниже.
Принцесса склонилась к самому лицу ее, и государыня зашептала с горечью:
– Дурак ведь он, прости Господи, не в деда и даже не в Анницу, ты уж, милая, помогай ему. А? Будешь?
– Буду, буду, матушка, – отвечала тихо Екатерина, заливаясь слезами.
В приемной толпились все сановники, тихо перешептывались. Ждали развязки.
Вечером Елизавета соборовалась и велела духовнику читать отходную, повторяя за ним слова молитвы. Она умирала трудно, агония продолжалась всю ночь и полдня 25 декабря.
Никто не сомкнул глаз в эту ночь. Принц и принцесса не уходили из спальни умирающей.
К полудню вызван был в спальню старший сенатор князь Никита Юрьевич Трубецкой. В четвертом часу он вышел из спальни и, не отирая катившихся по лицу слез, объявил пресекающимся голосом:
– Ее величество императрица Елизавета Петровна скончались, и отныне государствует его величество император Петр Третий.
Послышались рыдания, стоны, словно прорвало плотину сдерживаемых чувств. Заголосили осиротевшие фрейлины.
Распахнулась дверь из спальни, явился перед всеми император и медленно, вздернув подбородок, проследовал сквозь плачущую толпу к себе, на свою половину.
Екатерина Алексеевна не появлялась, она, упав головой на ложе умершей, безутешно плакала.
24. Враг наш – друг нашПетр Федорович едва сдерживался, идя к своему кабинету, чтоб не начать подпрыгивать от счастья, переполнявшего его: «Теперь все, я уже не высочество, я – величество.
Черт побери, я все могу, все должны меня слушаться беспрекословно».
Едва войдя в кабинет, вскричал зычно:
– Андрей!
– Я здесь, ваше… величество, – явился словно из-под земли адъютант Гудович[65]65
Гудович Андрей Васильевич (1731–1808) – генерал-аншеф, адъютант Петра III.
[Закрыть].
Ступай в мою спальню и принеси портрет прусского короля Фридриха Второго и повесь в моем кабинете. Отныне он не враг нам, но друг.
Гудович отправился за портретом Фридриха, который хранился у Петра Федоровича в платяном шкафу. Теперь незачем его было прятать, теперь ему самое почетное место.
Драгоценный портрет обожаемого Фридриха был даже вырезан в перстне Петра III. Если раньше он не решался показаться с ним перед теткой-императрицей, то теперь ему все можно.
Когда Гудович воротился с портретом Фридриха II, у императора уже были канцлер Воронцов и конференц-секретарь Волков.
Волков сидел с пером и чернильницей над бумагами, готовый писать указы и распоряжения, которые будет диктовать государь.
– Я желаю мира с прусским королем, – говорил Петр. – Я не хочу сражаться за австрийские интересы. Если я Начну войну, то только с Данией, которая хочет оттяпать у меня мою родную Голштинию. Вы согласны со мной, Михаил Илларионович?
– Да, ваше величество, – согласился канцлер. – Прусский король давно ищет мира с нами.
– А может, все-таки вы против? – прищурился Петр.
– Что вы, ваше величество, я раб ваш. Как я могу быть против?
– Вот и отлично. Вы, помнится, просили у тетушки себе помощника?
– Да, ваше величество.
– И она отказала?
– Да.
– Почему?
– Она не хотела отзывать из Лондона Голицына Александра Михайловича. Я бы его хотел.
– Я повелеваю его отозвать. Дмитрий, напиши, – повернулся к Волкову. – И он станет вашим вице-канцлером.
– Спасибо, ваше величество, а то дел выше головы, запурхался я. А кого на его место прикажете?
Петр не долго думал: «Сделаю моей Романовне приятное».
– В Лондон отправим министром Воронцова Александра Романовича. Теперь еще. Волков, пиши указ о возвращении из ссылки Лестока, Миниха, Бирона…
– А не перессорятся они, ваше величество? – усомнился канцлер. – Все-таки Миних в свое время арестовывал Бирона.
– Не перессорятся. Столько лет минуло. Старики уж. Лопухина жива еще?
– Да вроде…
– Тоже освободить от ссылки. Пусть приезжает, но чтоб только не в столицу. Безъязыкая старуха ни к чему здесь. Пусть доживает в деревне или в Москве у родственников. Где Бестужев-Рюмин?
– Он в своей деревне сидит в Можайском уезде.
– Может, и его вернуть? – спросил Петр, с некоей игривостью взглянув в лицо канцлеру. Знал, что Воронцова с Бестужевым мир не брал.
– Как прикажете, ваше величество, – слукавил Воронцов, знавший о неприязни Петра Федоровича к бывшему канцлеру и потому уверенный, что император не захочет воротить его.
– В самом деле, к чему он здесь? Можайск, чай, не Сибирь. Пусть сидит себе, медали изготовляет. Да и к тому ж, явившись, он опять снюхается с моей женой, только мне еще этой заботы не хватало. Волков, не пиши Бестужева.
– Правильно, ваше величество, – поддержал Воронцов. – Вполне мудрое решение.
– Теперь главное, Михаил Илларионович, – сказал Петр, взглянув на портрет Фридриха II, которого Гудович водружал на стене. – Чуть выше, Андрей. Так, так. Вот будет в самый раз. Я хочу немедленно слать к нему человека с предложением моей дружбы и даже заключения союза. Как вы думаете?
– Может, с союзом пока погодить, ваше величество, – сказал Воронцов.
– Отчего вдруг?
– Да как-то очень скоропостижно уж. У нас ведь еще союз с Австрией, с Францией и как раз против прусского короля.
– Ну а что вы предлагаете?
– Пока бы перемирие.
– Хорошо, я согласен, перемирие и мою дружбу. Волков, заготовь письмо прусскому королю от меня с сообщением о моем вступлении на престол, о перемирии, ну и чтоб высылал к нам полномочного посланника. Обязательно не забудь вписать, что я ласкаю себя надеждой быть искренним другом ему.
– Слушаю, ваше величество. К утру оно будет готово.
– Гудович, ты завтра же повезешь это письмо королю. Где он сейчас, Михаил Илларионович?
– По сведениям, полученным Конференцией, он сейчас в Бреславле, в Силезии.
– Отдав визит королю, Гудович, ты должен проехать в Голштинию и привезти моего любимого дядю принца Георгия. Скажешь ему, что я на троне и с нетерпением его жду. Пусть едет со своим двором и гвардией, если она у него есть.
– Ваше величество, – заговорил Гудович, – если ехать к королю Фридриху с предложением о мире, может, следует для начала освободить знатных прусских пленников?
– А кто есть у нас из них?
– Генерал Вернер и граф Гордт.
– Господи, завтра же чтоб они были у меня. Я постараюсь их склонить ко мне на службу. А королю скажешь, что они на свободе. Если они захотят вернуться к нему, я их тут же отпущу.
Петр прошелся по кабинету приплясывающей походкой. Воронцов с осуждением подумал: «Господи, в двух шагах лежит умершая родная тетка, а он едва не пляшет от радости». Упрекнуть не осмелился даже намеком, но решил напомнить:
– Ваше величество, позвольте пойти отдать христианский долг ее величеству Елизавете Петровне, в бозе почившей ныне.
– Да, можете идти.
«Не понял, – вздохнул Воронцов, пятясь к двери. – Весьма не догадлив».
И вдруг почти в дверях его окликнул молодой император:
– Да, Михаил Илларионович, чуть не забыл, я эту вашу Конференцию упраздняю.
– Почему, ваше величество? – удивился канцлер.
– Она связывает командующих по рукам и ногам. Теперь довольно будет двух-трех человек возле меня, и мы будем решать все.
«Тех же щей да пожиже влей», – подумал Воронцов, но вслух опять вынужден был согласиться:
– Пожалуй, вы правы, ваше величество.
С первых же дней новый император развил бурную деятельность, каждый день выходили указ за указом. Над их витиеватым слогом в поте лица трудился конференц-секретарь Дмитрий Васильевич Волков. Случалось, что ныне написанный указ противоречил вчерашнему.
Например, был отправлен указ генералу Чернышеву вести свой корпус в Россию. Однако по размышлении, что такой длинный марш будет стоить дорого, а впереди война с Данией, был отправлен через день-другой указ: идти лишь до Вислы, не вступая в боевые действия против прусской армии, поскольку с королем Фридрихом II у нас перемирие.
Петр Федорович был так занят, что не счел нужным присутствовать на отпевании и даже на похоронах родной тетки Елизаветы Петровны. Нисколько не задумывался, что оскорбляет этим чувства русского народа. Зато неотступно у гроба была императрица Екатерина Алексеевна и, как истая христианка, проводила со слезами печали усопшую в последний путь в Петропавловский собор, положив ее рядом с отцом Петром Великим.
Слезы и печаль Екатерины были искренними, поскольку со смертью Елизаветы Петровны она почувствовала себя осиротевшей и беззащитной перед самодурством мужа.
Если при тетке он хотя бы внешне исполнял роль супруга, то после ее смерти в открытую стал жить со своей любовницей Елизаветой Романовной Воронцовой, нисколько не скрывая от окружающих своих планов жениться на ней:
– А что? Мой дед Петр Первый свою первую жену упек в монастырь и женился второй раз. Чем я хуже?
И действительно, чем он был хуже? Как-то в присутствии любовницы он сказал Волкову:
– Сегодня, Дмитрий, нам не придется с тобой спать. Надо подготовить очень важный указ.
– Я готов, ваше величество.
– Так что готовь чернила, бумагу. Закроемся на всю ночь и поработаем. И никто мешать нам не будет.
Однако, когда вечером они закрылись вдвоем в одной из комнат, Петр, хихикнув, сказал:
– Я, брат, это придумал, чтоб от Лизки избавиться на эту ночь. Пойду к моим голштинцам, кутнем. А ты закройся и пиши, если Лизка будет стучаться, скажи, мол, мы заняты.
– А что писать-то, ваше величество?
– А пиши что хочешь.
– Ну все-таки?
– Придумай что-нибудь, чтоб побольше было написано. А я утром подпишу.
Оставшись и закрывшись в комнате, Волков долго думал, о чем же писать новый указ? Подумывал даже завалиться спать: «Высплюсь, встану пораньше, накатаю про что-нибудь».
Однако, вспомнив про Лизку Воронцову, которая может начать стучаться, передумал: «Еще не услышу стука-то. Нетушки, надо сочинять. Чтоб такое-эдакое замастрячить? Про все вроде было. Даже про раскольников писали, велели им молиться как хотят, свободу дали дуракам. А что, если… Стоп, стоп. Почему раскольникам свобода, а дворяне чем хуже? От Петра Великого указано всем служить, почитай, всю жизнь, пока песок не посыпется. А государь-от, чуть что, на него кивает: мой дед, мой дед. А ну-ка дадим мы волю дворянству».
Осенила Дмитрия Васильевича блестящая идея, и он, умакнув перо, застрочил по бумаге «заглавие»: «Закон о вольностях дворянства». Написал, подчеркнул дважды. И пошло-поехало.
Все сводилось к тому, что дворянам разрешалось служить где только пожелают и сколько захотят, лишь в военное время они должны являться в полк.
И когда на следующее утро еще не протрезвевший император явился к Волкову, тот подвинул к нему листы с новым указом.
– О чем он? – спросил Петр осипшим голосом.
– О вольности дворянства, ваше величество.
– Дай-кось перо.
– Вы прочтите, ваше величество.
– Зачем? Я тебе верю. Прочтешь в Сенате.
И, подмахнув указ, отправился отдыхать:
– Голова, брат, трещит, отоспаться надо.
Восемнадцатого января указ был прочитан в Сенате, и генерал-прокурор Глебов, не скрывая восторга, сказал:
– Господа сенаторы, я предлагаю в знак благодарности его величеству от дворянства за высочайшую к нам милость о продолжении службы по своей воле и где пожелаем сделать его императорского величества золотую статую и о том подать его величеству доклад.
Доклад составили и представили Петру на утверждение. Но император, прочтя, сказал:
– Сенат может дать золоту лучшее применение, а я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных.
И не подписал, но вполне оценил рвение Глебова. Ровно через месяц манифест о «Вольности дворянства» был обнародован в печати. О том, сколь витиевато он был написан, можно судить по его хотя бы последнему предложению, состоявшему из ста тридцати трех слов:
«…Мы надеемся, что все благородное российское дворянство, чувствуя великие наши к ним и потомкам их щедроты, по своей к нам всеподданнической верности и усердию побуждены будут не удаляться, ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием в оную вступать и честным и незазорным образом ону по крайней возможности продолжать…» К этим словам еще восемьдесят три прицеплено, так что к концу прочтения уже забывалось, с чего ж оно началось.
Ничего не скажешь – в тиши ночной накуролесил изрядно конференц-секретарь. Тут не то что на похмельную императорскую голову, а и на тверезую над одним лишь предложением мозги своротишь.
О смерти русской императрицы Фридрих II узнал еще до приезда Гудовича. Ему сообщили об этом из Варшавы 19 января.
– Нет, я не зря просил чуда у Всевышнего, – говорил король. – Кажется, оно свершилось.
И в письме брату Генриху писал уверенно: «Благодарение Богу, наш тыл обеспечен».
Гудович вначале приехал в Магдебург, где находился двор и министры Фридриха, а оттуда уже отправился в Бреславль к королю.
Здесь его встретили как самого дорогого гостя. На письмо императора, подписанное теплыми словами: «Добрый брат и друг Петр», Фридрих с подъемом отвечал: «Я радуюсь тому, что ваше императорское величество получили ныне ту корону, которая вам давно принадлежала не столько по наследству, сколько по добродетелям и которой вы придадите новый блеск… Уверяю, что всего искреннее желаю соблюсти несказанно драгоценную дружбу вашу и, восстановив прежнее обоим дворам столь полезное доброе согласие, распространять его и утвердить на прочном основании, чему я с своей стороны всячески способствовать готов».
И, следуя почину Петра III, Фридрих приказал тут же освободить русских пленных. С Гудовичем, не имевшим никаких полномочий, король не мог вести переговоры, хотя не без удовольствия выслушал его рассказ, как тот вешал в кабинете императора портрет Фридриха.
– Значит, его величество симпатизирует нам?
– Не то слово, ваше величество, император преклоняется перед вами.
– Спасибо, дружок, – похлопал король Гудовича по плечу и велел выдать ему сто талеров.
Фридрих понял, что надо ковать железо, пока горячо, и надо немедленно слать в Петербург посланника, уполномоченного вести переговоры о мире, а если посчастливится, и о союзе.
Тем более что о таком посланнике говорит сам император. Он ждет его. Кого послать? Король позвал к себе своего адъютанта и камергера Гольца.
– Барон, я произвожу вас в полковники.
– Благодарю вас, ваше величество, – щелкнул каблуками двадцатишестилетний щеголь.
– Надеюсь, вы заслужите и генеральское звание, – продолжал Фридрих. – Для этого я предоставляю вам такую возможность, барон. Вы завтра же отъезжаете в Россию моим посланником. В чем будет заключаться ваша главная цель? В отвлечении России от союзников и прекращении этой войны. Я не думаю, что условия будут тяжкими для нас, император весьма дружелюбно настроен ко мне. Это дружелюбие вы всячески должны поддерживать в нем. Как хорошо, что я в свое время не заключил союза с Данией. Император собирается объявить ей войну за притязания на Голштинию. Старайтесь убедить его, что я всецело на его стороне, но все же доступными средствами оттягивайте его выступление. Эта война, если не дай бог она случится, ляжет непосильным бременем и на нас, Бранденбургия и так истощена этой войной до крайности.
– Какие условия я должен ставить им?
– Полковник, вы в своем уме, ставить им наши условия? Мы должны с вами подумать, что они нам преподнесут. Скажем, они согласятся отвести войска за Вислу и возвратить нам Померанию, но захотят оставить себе Пруссию, соглашайтесь на это без колебаний.
– Но Пруссия, считай, это половина нашего государства, ваше величество.
– Знаю. Но я уверен, если Пруссию император оставит за собой, то обязательно вознаградит меня с другой стороны. Попытайтесь выторговать у них гарантию Силезии.
– Вряд ли они пойдут на это.
– Ваше дело попробовать, Гольц. Если император потребует моего нейтралитета во время войны с Данией, дайте им его, но чтоб эта статья была секретной. Вы должны возбуждать в Петербурге недоверение к австрийцам и саксонцам. Вешайте на них всех бешеных собак. Особенно налегайте на то, что во время войны австрийцы совали русских в самые опасные места. Это так и было в действительности. Уж я-то это знаю.
Дабы не тыкаться в Петербурге слепым котенком, по приезде в первую очередь посетите английского посланника Кейта, он вам обскажет обстановку, посоветует, с чего и с кого начинать, назовет самых влиятельных людей при дворе. И только после этого приступайте. И последнее, помимо моего письма императору и полномочной грамоты, вы отвезете ему наш высший орден Черного Орла. Я знаю, молодые люди весьма падки до побрякушек. Петр, я догадываюсь, не исключение, он весьма радовался раньше высланному знаку с моим портретом. Вы поняли вашу задачу, Гольц?
– Так точно, ваше величество. Я должен обаять императора и его двор.
Фридрих, несмотря на серьезность разговора, вполне оценил шутку барона:
– И императрицу, барон, не забудьте. Она тоже наша землячка. И обо всем подробнее доносите мне, я буду ждать ваших реляций с таким же нетерпением, как с поля боя. Вперед, полковник. Желаю вам успеха.