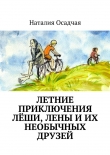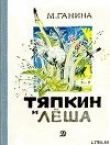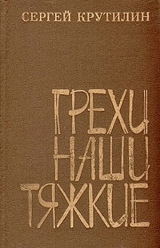
Текст книги "Грехи наши тяжкие"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц)
26
Автобусы начинают ходить рано – особенно в Новую Лугу и в Березовку.
Березовский автобус уже стоял возле станции, ждал пассажиров в совхоз. Был там самый дальний совхоз в районе и самый запущенный. Посмотрев на полупустой автобус, Долгачева вздохнула, улыбнулась. Ей вспомнилось первое посещение совхоза.
Екатерина Алексеевна считала, что, придя в район, надо больше работать самой, не снимать с себя ответственность и не перекладывать ее на другие плечи.
Однажды вечером к ней заглянул председатель райисполкома Почечуев. Он только что вернулся из Березовского совхоза. Долгачева просила всех, кто ездил в хозяйства, рассказывать о настроении людей, о трудностях в районе. Почечуев сказал, что совхоз такой запущенный, что он не представляет себе, как к нему и подступиться. И дороги-то к хозяйству нет, и директор плохой, и дела идут плохо.
Долгачева не могла этому поверить. Ей все хотелось выспросить: ну а есть в хозяйстве хоть что-нибудь хорошее? Но Почечуев ни о чем хорошем не мог рассказать. Екатерина Алексеевна велела еще съездить в хозяйство, поглубже во все вникнуть. Но он отказался, считал это бесполезным. Ждал, чтобы Долгачева поехала сама. Екатерина Алексеевна все понимала, но в то же время тянула с поездкой, надеясь, что дела как-то сами собой наладятся.
Наконец не выдержала: раз первый секретарь – бери все на себя, перекладывать трудные дела не на кого. Поехала. «Газик» тогда был новый, почти не буксовал. Остановилась у небольшого двухэтажного дома – низ кирпичный, а верх деревянный, – типичное купеческое зодчество. Контора совхоза на втором этаже. По крутым и грязным ступеням поднялась в контору. Открыла дверь с табличкой «Директор». Из-за стола вышел худой и, как показалось, довольно пожилой мужчина.
Поздоровалась.
Екатерина Алексеевна уже знала, это Серафим Ловцов. Одно время Серафим был инструктором райкома. Когда райком в Туренино ликвидировали, Ловцова перевели сюда, в отстающее хозяйство.
Начали разговор. Говорить с Серафимом было трудно. Ловцов был глуховат на одно ухо. Тогда ее поразило полнейшее неверие Ловцова в то, что можно вывести совхоз в число хороших хозяйств. В глазах его – отрешенность ото всего; во всем облике – равнодушие, апатия. «Как сонная муха!» – подумала Долгачева.
Екатерина Алексеевна решила, что начинать надо с него, Серафима, стряхнуть с него апатию. Растормошить. Заставить поверить в силы хозяйства.
Но как это сделать?
Поехали с ним по фермам – где на машине, а где и пешком. Доярки с интересом рассматривали Долгачеву: баба, а первый секретарь! Общий язык с ними Екатерина Алексеевна нашла быстро.
«Почему у вас мал надой?» – спрашивала она. «Коров мало!» – «А почему коров мало?» – «Урожаи плохие». – «А почему урожаи плохие?» – спросила и сама смутилась: походила на «почемучку». «Вон директор пусть скажет».
Выяснилось: семян своих нет. Каждую весну в район завозят нерайонированные семена. Севооборот на соблюдается. Пшеницу по пшенице сеют. Навоз не вывозится. За лугами ухода нет.
«А почему коровы грязные?» – спросила у доярок Долгачева.
Доярки заговорили разом – Екатерина Алексеевна их не перебивала.
«Мы и так закабалены! С шести часов утра и до полуночи – на ферме. Корм таскаем на себе. Навоз чистим сами. Фляги с молоком носим по двору. Телят поим и ходим за ними – по месяцу и более. Нет помещения для маленьких. Доим коров вручную. На дворе – холодно, соломы для подстилки нет. Домой приходим – без рук и без ног!»
Долгачева понимала, что в таких условиях ругать их за грязных коров вроде бы и неудобно. Но ведь молоко? Когда грязная корова, то сколько грязи попадет и в молоко!
Объехали все фермы.
Под конец зашли в мастерские.
Холод. Все заставлено деталями тракторов. В углу мастерской стоял длинный стол и такая же скамья. Долгачева попросила механизаторов присесть к столу. Подошли человек десять. Ловцов представил Екатерину Алексеевну. «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха», – подумала она. Надо же начинать разговор. Механизаторы смотрели на Долгачеву безразлично.
Екатерина Алексеевна спросила, как идет ремонт. Механик – толстый, мордастый мужик – ответил:
«Хвастаться нечем. Вот разбросали трактор. А нужных запасных частей нет. Сколько ни ездили – и в район, и в Новую Лугу, – ничего нет».
В общем, разговор оказался деловым, довольно заинтересованным. У Долгачевой на душе даже стало легче. Позвонила в облсельхозуправление, попросила помочь с запчастями. Провели общее собрание. Собрались все, сами удивлялись. Приехали соседи. Ловцов сделал доклад. Самокритичный. Серафим ведь умный.
С Ловцовым Екатерина Алексеевна даже подружилась. Хотя Серафим оставался себе на уме.
Вот прошлогодний случай.
В апреле объявили субботник по внесению минеральных удобрений. Распределили всех членов бюро по хозяйствам. Долгачева думала побывать и там и тут. Но утром, как сегодня, встав ни свет ни заря, она взяла «газик» и поехала в Березовку. Смотрит: сидят на мешках минеральных удобрений два деда, курят. Поздоровалась с ними, спрашивает:
«А где же рабочие?» – «Дома». – «А директор?» – «Не знаем». – «А бригадир?» – «Не видели». – «А почему вы здесь?» – «Вчера объявили: в восемь всем быть на поле. Уполномоченные ваши так говорили».
Судя по всему, дедки знали, с кем они говорят; побросали окурки, взяли ведра, насыпали в них удобрения да и пошли по полю, разбрасывая нитрофоску словно при севе, руками.
Екатерина Алексеевна, не долго думая, взяла у шофера ведро, насыпала удобрения и пошла следом за стариками. Слава – видит такое дело (а физическую работу он не любил), – вытащил из-род сиденья ведерко для воды и пошел рассеивать удобрение.
Через какое-то время на околице села показался бригадир. Увидев секретарский «газик», постоял, всматриваясь, и опрометью бросился назад. Первыми прибежали уполномоченные, за ними – все рабочие совхоза. С ходу сыпали в ведерки удобрения и давай догонять Долгачеву. Смущенно здоровались, что-то говорили в свое оправдание, но Екатерина Алексеевна молчала.
Ближе к полудню земля стала сильно оттаивать. Особенно внизу, по оврагу. И тут Долгачева увязла. Чувствует, что грязь засасывает ногу, а вытянуть не может. Кричит: «Товарищи, спасайте!» Рабочие – те, что было поближе, – подбежали к Долгачевой, взяли ее за руки, вытянули из грязи. Причем в земле остался ее бот. Его тоже со смехом вытащили.
Это небольшое происшествие разрядило обстановку. Все заулыбались, и работа пошла уже с шутками, со смехом. Устала тогда она очень, но виду не подала.
Екатерина Алексеевна и теперь, вспомнив субботник, не сдержала улыбки. Урожай на «секретарском» поле был отменный.
27
За сквером сразу же открывалась Ока.
Тут, на площади, начинался крутой спуск к реке, к паромной переправе. Когда-то, до войны, в Туренино был наплавной мост через Оку. Для моста – по обе стороны реки – отсыпан банкет из камня. Но мост был помехой пароходам, возившим по реке баржи с туренинским «мрамором» – известняком, который добывали возле городка, и городские власти продали мост.
Оттого-то и нет в Туренино моста, а есть паром. И теперь – снизу, от парома – на площадь выползали клочья тумана. Туман облизывал успевший нагреться на солнце асфальт и от тепла таял, рассеивался. Яснее становились звуки. Это были уже иные звуки, чем в городе: звуки реки.
Вот протарахтела моторка. Но ее тарахтенье быстро смолкло, – видать, лодка удалилась. Возле берега кто-то шлепал по воде веслами, судя по всему, греб вверх. Негромко переговаривались рыбаки.
– Ерофеич, у тебя какая нажива?
– Ручейник.
– А я хочу попробовать на геркулес.
– Попробуй!
Долгачева вслушивалась в этот разговор и улыбалась. Она любит Туренино, любит городок в эти ранние часы. Ведь лишь утром, идя в райком, Долгачева и принадлежит себе. Ей хорошо думается. Она строит светлые планы на день.
Сегодня должен приехать Грибанов.
Какой-то он – этот ученый, который думает о селе, знает его беды?
Екатерина Алексеевна с беспокойством вспоминает о доме: как соберется в школу ее девочка? Но чем ближе к райкому, тем она незаметнее убыстряет шаги, и мысли ее заняты уже другим. Сейчас она придет в свой кабинет, откроет балконную дверь, выходящую на Оку, в городской парк, и, подставив лицо горячему солнцу, выкатившемуся из заречных лесов, постоит на балконе. Потом она вернутся в кабинет – чистый, с рядами стульев вдоль стола для совещаний, – сядет за свой рабочий стол и займется тем, над чем билась все эти годы.
Уже давно, наверное на протяжении трех последних лет, Долгачева думала о том, почему хозяйства района топчутся на месте. Мало людей в селах? А почему люди не остаются работать на селе, а тянутся в город? Надо проанализировать причины. Надо, чтобы каждое хозяйство имело план социально-экономического развития.
Чем дольше Долгачева билась над этим, тем сложнее ей казалась задача. Положиться в этом деле на интуицию нельзя. Нужна точность. А кому доверить статистику? Надо расспросить колхозников, рабочих совхозов об условиях их жизни, о том, что думает сельская молодежь, какие у нее планы.
Однажды Екатерине Алексеевне попала в руки книга доцента Московского университета Грибанова по социологическому исследованию села. Оказывается, такие работы давно уже ведутся.
Долгачева обрадовалась, написала доценту. Грибанов отозвался на ее письмо. Между ними завязалась переписка. Сегодня впервые доцент должен был приехать.
Из-под арки старого купеческого дома вышел Андрей Мезенцев – полнотелый, кривоногий. Он нес на плече весла и удочку. Шел он степенно, как и подобает в его возрасте. Мезенцев не молод, он, как и Тобольцев, воевал, получает пенсию. Мезенцев не видел Долгачеву, и она исподволь наблюдала за ним.
Казалось бы, он сделал в жизни свое дело: живи, грей свои косточки на солнце! Ан нет! Не довольствуется этим. Мезенцев руководит авиамодельным кружком во Дворце пионеров. Он так сумел увлечь ребят, что они не раз завоевывали первое место на областных соревнованиях. Кружковцы занимаются вечером, после школы. К тому времени Мезанцев, порыбачив, вернется с Оки, отдохнет часик-другой после утренней зорьки. Пообедав, – посвежевший, загорелый, – он так же степенно идет во Дворец пионеров, который помещается в приокском парке, рядом с райкомом.
В парке зеленели старые липы и пахло медовыми сережками, которые еще не распустились.
Долгачева считала рыбалку блажью, делом несерьезным. Но страсть, увлеченность ей в людях нравилась. «Хорошо, если б Николай увлекся чем-нибудь, хоть рыбалкой». Поведение Тобольцева все больше беспокоило ее. Он каждый вечер задерживался в сельхозуправлении, куда устроился на работу, не имея никакой другой профессии, кроме зычного голоса, кроме умения кричать на плацу: «Рота! Равняйсь!» Да-а… Не совершила ли она ошибки со своим замужеством?
Как спокойно жилось без Тобольцева. Никто не спрашивал, когда будет дома. Никто не спрашивал у нее – и она не спрашивала ни у кого. Долгачева уже привыкла к своему положению – к положению одинокой женщины. Какое дело людям: замужем она или нет? На нее привыкли смотреть не как на женщину, а как на первого секретаря. Мужчины говорили с ней только о деле, и в кабинете, и в правлении. Она знала, что каждого надо выслушать: и председателя, и доярку. И всегда, по возможности, надо быть доброжелательной, быть веселой. Это нравится людям, с которыми она общается.
Но Леночка? Девочка росла одна, без отца. Она уже большая. Скоро подружки будут пытать ее: почему отец бросил их, не живет с ними?
Долгачева готова была пойти даже на собственное унижение, но дочь должна иметь отца. Это надо. Это необходимо.
28
Екатерина Алексеевна любила это светлое, пахнущее меловой побелкой, здание. Ей нравился просторный вестибюль, широкие лестницы, настенные бра. Но особую радость доставлял ей кабинет – не только место ее работы, где она порой проводила весь день, но и пристанище для раздумий. Она любила оставаться тут одна, любила посидеть за столом. Особенно ей нравилось приходить сюда рано утром, как сейчас.
Ночной сторож, ворчливый старик по прозвищу Кулат, открыл ей дверь. Она поздоровалась, дед спросил ее о погоде, о том, как спалось.
– Никто не звонил ночью? – спросила она в ответ.
– Никак нет. Тихо было.
– Ну и хорошо.
Долгачева не спеша поднялась к себе. Ее кабинет находился в глубине коридора, справа. Два окна, вдоль которых стоял продолговатый стол для совещаний, выходили на площадь, а застекленная дверь на балкон к Оке. Войдя в кабинет, Долгачева прошла в дальний угол, открыла дверь на балкон. Комната стала словно бы просторней – от солнца и хлынувшей с реки прохлады.
От Оки подымался туман. Местами гладь реки уже освободилась от рыхлого белого покрывала. В этих плешинах виднелась рябь – вся в солнечных бликах. Блики эти до боли слепили глаза. Было тихо; на Оке еще не слышно ни урчания водометных толкачей, ни трескучей скороговорки лодочных моторов. Хотелось как можно дольше сохранить эту тишину и эти смутные, еще не до конца осознанные мысли о сегодняшних делах. Отойдя от балконной двери, Долгачева осторожно сняла плащ, боясь резким движением спугнуть этим мысли.
Через час эту утреннюю тишину нарушит шум парохода «Заря», певучий говор лодочных моторов. Через час наверняка заглянет кто-нибудь или позвонит муж – объявит, что он встал и поел, и, чтобы смягчить свой вчерашний проступок, скажет, что он целует ее, что у него сегодня трудный день – поездка в Березовку. А если не Тобольцев, то позвонят из какого-нибудь колхоза и сообщат, что на ферме нет воды и коровы уже вторые сутки не поены.
Долгачева начинает звонить.
Будто и не было этой тишины – начинается обычная дневная круговерть.
Пока эта круговерть не началась, до прихода Грибанова надо приготовить необходимые материалы, собраться с мыслями.
Екатерина Алексеевна закрыла балконную дверь, чтобы звуки, доносившиеся снаружи, не отвлекали ее от дела. Только вернулась к столу, как скрипнула дверь, ведущая в приемную.
Долгачева насторожилась: кого недобрая несет в такую рань?
В кабинет вошел человек средних лет, с бородкой.
– Можно, Екатерина Алексеевна?
– Пожалуйста.
И не успела Екатерина Алексеевна выйти из-за стола, чтобы встретить раннего гостя, как тот уже толкался посреди комнаты.
– Екатерина Алексеевна, извините ради бога, что так рано явился к вам… Грибанов. Надеюсь, вы уже догадались? – говорил он напористым говорком, будто очень спешил. – Я заглянул к вам так рано потому, что знаю: вас можно застать только ранним утром.
– Заходите, заходите… – Долгачева помялась, вспоминая имя-отчество ученого. – Заходите, Юрий Митрофанович. – И сделала несколько шагов навстречу Грибанову. – А я как раз о вас вспоминала.
– Ну и что: как вспоминали?
– Хорошо вспоминала. Спасибо вам за письмо, за то, что были так внимательны. Быстро отозвались на нашу просьбу. Прошу, садитесь. Как вы устроились?
– Хорошо, в вашей гостинице. Номер мне дали – почти люкс.
– Вы приехали вчера?
– Да, вечерним автобусом.
– И не позвонили. Завтракали?
– Пил чай.
– Моей помощи вам не требуется?
– Нет, спасибо.
– Тогда прошу садиться.
– Деревня – это наша забота. – Грибанов снял плащ, повесил его на вешалку. – Решили помочь вам. – Он сел в кресло и внимательно всмотрелся в лицо Долгачевой.
– Каким образом? – спросила она.
– Самым простым! Мы проделаем всю черновую работу. Мы опросим всех колхозников и рабочих совхозов: довольны ли они своим положением, работой, отдыхом, бытовым обслуживанием? Одним словом, все. У нас заготовлена для них специальная анкета.
Грибанов говорил, а Долгачева присматривалась к нему.
Без плаща Юрий Митрофанович выглядел моложе, был проще. Ему на вид было лет тридцать – тридцать пять; мужиковатый, с большой тяжелой головой. И эта голова с большой копной волос и бородка как-то смущали Долгачеву, и она не очень-то вникала в то, что он говорил. Ей все казалось, что уход за своей внешностью должен отнимать слишком много времени, в ущерб науке.
А Грибанов говорил, что он первый на кафедре взялся за новое течение в науке, за социологию, и поэтому его в университете очень ценят. Ректор предоставил ему лабораторию, которую он доверху забил карточками социологических исследований. Юрий Митрофанович объяснил Долгачевой свою систему анализа, дал ей анкету.
А кто будет обрабатывать их – не сама же Долгачева?
Губанов как бы уловил ее сомнения.
– Мы обрабатываем анкеты на электронно-вычислительной машине. Мало того, студенты снимут фильм и жизни колхозников и рабочих совхозов.
Юрий Митрофанович коренаст, и, хотя на нем был хороший костюм и в полоску галстук, все равно деревенская закваска давала о себе знать. Это чувствовалось и в его обличье, и в фигуре и в речи. «А может, и хорошо, что деревня в нем дает знать о себе, – подумала Долгачева. – Ведь городской человек, у которого душа о деревне не болит, не может заниматься и ее проблемами. Только такие люди, как Грибанов, – решила она, – и болеют за наше село».
– Вы задумали хорошее дело. – Юрий Митрофанович порылся в кармане: видимо, хотел закурить, но постеснялся Долгачевой. – Важнее ничего в жизни нет. Мы все виноваты перед нашим селом и перед нашей землей. Мы не уедем, пока не окончим всех дел.
И, желая быть учтивым, Грибанов сделал Долгачевой комплимент, сказав, что он надеется, что с ней будет легко работать: она – тоже ученый и будет понимать их с полуслова. Екатерина Алексеевна улыбнулась. Она считала, что ученый – это тот человек, который занимается наукой. А она каждый день занята только планом. Для науки времени не остается.
Нечего скрывать, эта похвала Грибанова была ей приятна. Но Долгачева нашлась, пошутив, что если и надо кого хвалить, так это вычислительную машину: она вскроет все сомнения и боли.
– Да, от фактов, вскрытых ею, никуда не уйдешь! – подхватил Грибанов. – Однако ее программа узка и ограниченна. Тут машина полагается на людей.
29
Екатерина Алексеевна присматривалась к Грибанову: можно ли ему доверять тайные мысли? Однако как ни была Долгачева осторожна – не высказывать все малознакомому человеку, – не удержалась, заговорила о наболевшем.
– Село – это наш грех тяжкий! – Она постучала ладонью по краю стола. – И мы должны его искупить. Надо строить в селах современное жилье, новые фермы. Надо благоустраивать быт. Тут сомнений быть не может. Но ваша вычислительная машина не даст совета: где взять столько денег, чтобы построить на селе современные жилища, механизированные фермы, благоустроить быт?
– Вы слишком много хотите от нашей машины, – пошутил Грибанов. И лицо его, уже успевшее обветриться, покрылось мелкими морщинами. – Уж за одно то, что она вскрывает наши беды – скажите ей «спасибо».
– Нет, я шучу. И за это не ей, а вам – большое спасибо.
Юрий Митрофанович пожал плечами: не за что.
– Мы делаем это по плану кафедры.
– Все равно.
– А о деньгах и о строительстве в колхозах вы правильно заговорили, – согласился Грибанов. – Если мы хотим поднять деревню, то деньги нам нужны большие. Запущено село – вот в чем беда. На Ставропольщине, где мы работали раньше, – там, я должен вам сказать, вопрос о деньгах не стоял так остро. – Юрий Митрофанович старался выражаться гладко. – Там хозяйства богатые. Скажем, если колхоз задумал оставить у себя молодого работника, он выделит средства. Колхозы строят благоустроенные дома для молодоженов. Дают ссуды вернувшимся из армии. Выдают единовременные пособия – на приобретение мебели, на покупку коровы. На все у них есть деньги.
– У них-то есть, да у нас нет! – воскликнула Долгачева.
– Но теперь, надо полагать, Нечерноземью помогут.
Эти успокоительные слова – надо полагать – выводили Долгачеву из себя. Но она сдержалась.
– Теперь все надеются на «надо полагать»… – выделяя последние слова, продолжала Екатерина Алексеевна. – А дело все не в помощи государства, а в развитии самих хозяйств, в расширении их производства. Может, и подсобят на первых порах. Но государство в первую очередь заботится о другом: оживить село. Помогут ссудами, машинами, затратами на мелиорацию. Но нельзя же переложить всю тяжесть на чужие плечи! Если в колхозе некому доить коров, то райком доярок не пришлет. Колхоз сам должен вести свое хозяйство. Завтра производить больше, чем сегодня. Только такое хозяйство жизнеспособно. К сожалению, это не зависит от нас с вами, от нашего «надо полагать».
– Но согласитесь: хозяйства и развиваются.
– Согласна. Но очень медленно.
– А что вы предлагаете?
– Я? – удивилась Долгачева. – Я ничего не предлагаю, а делюсь с вами. Я двадцать лет работаю на селе – и все двадцать лет думала. Повысили закупочные цены на зерно, на мясо, на молоко. Но вот беда! – зерно никогда не приносило денег нашим хозяйствам. Но и теперь их не приносит. Почему? – спросите вы. Скажу. Слишком малы у нас посевные площади, занятые под зерновыми. Да и урожаи невелики. Земли – супеси паханные и перепаханные. Беднее этих земель не бывает. Поля – пятачки: самое большое поле – полсотни гектаров. И вот каждое лето мы говорим председателю: «Паши! Сей!» Он сеет. И что же? Получаем одни слезы – восемь центнеров с гектара. Только и живем за счет «Рассвета» и колхоза имени Калинина, где земли получше. Молоко и мясо – вот наше богатство. Но опять беда: мяса мы выращиваем мало. Молока надаиваем мало. Не хватает кормов. Распахали все луга, даже заливные по Оке, по берегам других рек. Только и слышим: хлеб, хлеб, хлеб.
– Я вижу, вы против зерна?
– Нет. Я не против зерна. Зерно надо получать, но только там, где урожаи его высоки.
– Что ж, выходит, надо обратно залужить заливные луга и малопродуктивные пашни? – заулыбался Грибанов. – Вам это никто не разрешит. Мы и так каждый год списываем тысячи гектаров пашни: то овраги, то города, то наступает мелколесье. А фермы где? Они ведь тоже чего-то стоят.
– Фермы мы можем кое-как осилить. Фермы построили – и полвека никаких тебе забот.
– И с зерном никаких забот.
– Верно. Потому мы и цепляемся за зерно. Это единственное, что механизировано: машина пашет, сеет, убирает – и зерно готово. На молочнотоварных фермах, к сожалению, нет такой механизации. Потому и мала их продуктивность. А между тем мы живем по соседству с большими городами, насчитывающими миллионы людей. Это наша забота – снабжать их мясом, молоком, овощами. Вот, к примеру, совхоз «Успенский». Он всем показал, что настало время менять направление наших хозяйств, их специализацию. Он построил три птицефабрики. Каждая фабрика механизирована. Дает яиц столько, сколько их давал весь район. Завалили нас яйцами и бройлерами.
– Почему же вы не перенимаете его опыт? – заметил Грибанов. – Ведь от вас многое зависит.
– Их опыт… – повторила Долгачева чуть слышно. – Опыт этот пока что ударяет по интересам государства.
– Почему?
– Успенцы – исключение. Мы разрешили им изменить структуру посевных площадей. Они сеют зерно исключительно на корма птице. Трава растет лишь для питательной муки. Они не продают зерно государству, а дают лишь яйцо, молоко и мясо. А государству нужен еще и хлеб.
– А разве мясо – это не тот же хлеб?
– Нет! Мясо – это мясо. Хлеб – всему голова. А что зерно? Область наша дает зерна столько же, сколько его дает один целинный район. Но уж привыкли так: если мы даем по десяти центнеров вкруговую, то уж это победа. Звучат фанфары. А какая это победа? – слезы одни.
Грибанова взволновали мысли, высказанные Долгачевой. Он уже не мог усидеть. Юрий Митрофанович встал, принялся ходить по кабинету – взад-вперед.
– Ваши рассуждения, Екатерина Алексеевна, очень интересны, – сказал он, останавливаясь перед Долгачевой. – Заманчивы. Вы заглядываете вперед. И мысли эти высказывает не кто-нибудь, а вы – первый секретарь райкома. С этим сейчас считаются. Напишите об этом. Статья будет боевая.
– А для кого? – Екатерина Алексеевна вскинула глаза.
– Для газеты.
– А кто ее напечатает?
– Гм! – Грибанов задумался. – Как говорится, под лежач камень вода не течет. Вы напишите, а напечатать – это уж не ваша забота.
– Хитрый вы, Юрий Митрофанович, – проговорила Долгачева. Серые глаза ее, которые еще миг назад улыбались, потемнели, словно они уже видели то замешательство, которое вызовет она своей статьей – и не в районе вовсе, а в области.
– Нет, серьезно! Подумайте!
– Хорошо, я подумаю.
– Да. Значит, я скоро привезу группу студентов и мы начнем. Давайте договоримся о плане нашей работы: с какого колхоза или совхоза мы начнем беседы? Какова будет последовательность?
Грибанов присел рядом, и они заговорили обо всем подробно – и о том, сколько в хозяйствах работающих, и о школах, и о молодежи.
Это отняло не менее часа.
Подымаясь, Грибанов вновь напомнил о статье, над которой обещала подумать Долгачева, и сказал, что будет заходить к ней по ходу работы.
– Заходите, вам всегда двери открыты, – Долгачева встала из-за стола.
Грибанов пожал ей руку, взял плащ, портфель и вышел.
Рука у него была крепкая.