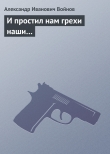Текст книги "Грехи наши тяжкие"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
25
«Он еще надеется возродиться. Надо же!» – подумала Прасковья, осматривая Гришкино жилье.
Это жилье было ей отвратительно – пристанище опустившегося человека. Отвратительно ей было все, начиная от комнат и кончая запахом. В доме стоял затхлый запах ночлежки. Ей отвратительным был и сам дом – с подслеповатыми окончами, с громоздкой печью, занимавшей чуть ли не половину всех комнат.
– Да-а… – вымолвил Игнат, он бесшумно ступал следом за Прасковьей. – Дак ничего. Стены я это – сухой штукатуркой обобью. А потолок – фанерой. Да проолифлю его. И жить, думаю, можно.
Прасковья понимала, что от ее слов, от того, что она сейчас скажет, зависело все. Да! – она согласна. Нет! – весь этот разговор, все эти смотрины, выходит, впустую. И Прасковья ничего не сказала, промолчала.
Да и что она могла сказать? В ответ она могла лишь разреветься.
Куда она пришла?
Зачем?
Она выросла в селе. Там, на «барской паже» она играла в лапту. Там родился сын. Сколько лет кряду она бегала на ферму. Кормила ребят, не подвела Игната. Прасковья привыкла к своему дому. Это были, правда, не бог весть какие хоромы. Простая деревенская изба, поставленная еще перед войной, когда Игнат, обзаведясь семьей, отделился от отца. Изба уже осела малость, скособочилась. Но Прасковья привыкла к ней. Придя к Игнату, она выскоблила, вымыла содой все стены и половицы. В первую же весну она поморила в Игнатовой избе тараканов, вытряхнула каждую тряпку. Но он тоже был трудолюбив, и они вдвоем довели избу до дела. О другом жилье себе Прасковья и не мечтала.
Но вот ей захотелось стать горожанкой…
– Мам, надо что-то сказать Гришке определеннее, – шептал Леша. – Ведь не уезжать же ни с чем? Он ждет.
Леша видел, что мать молчалива, что она слова своего не говорит.
– Сказать? – Прасковья словно очнулась. – Надо подумать прежде. Вам ведь тоже угол нужен?
– Нет, мам. Мы с Зиной прописаны. Нам обещали квартиру.
– А нам, вдвоем со стариком, чего ж еще надо? Зал тут есть. Спальня – тоже. Поставим в зале телевизор и будем смотреть.
– Ну вот и хорошо! Надо так и сказать Гришке.
– Так и скажи.
Леша в ответ пожал плечами.
– Григорий!
Гришка протиснулся в дверь.
– Я знаешь что подумал, – заговорил Леша. – Ведь чтобы обмен совершить, нужны будут какие-то бумажки?
– А-а, какие бумаги? – Гришка уже успел набросить на плечи пиджак – помятый, длиннополый, знать, с чужого плеча. – У меня есть домовая книга. Я – хозяин этой половины. Что захочу, то и делаю. Хочу – продаю. Хочу – меняю. Я вашу избу знаю. Бывал в ней не один раз. Так что мне смотреть нечего. Вам нужна справка, что колхоз не возражает против обмена.
– Такую справку нелегко добыть.
– Ну да? – Гришка взмахнул руками. При Варгине – конечно. Он вас знал давно и ценил. Особливо Прасковью, раз она дояркой работала. А новому председателю море по колено. Пенсионеры? – пусть в городе и живут.
– Со справкой морока, однако, будет, – подал голос Игнат.
– Попробуем.
– Попробуйте. Выправите справку, и пойдем к нотариусу, – пояснил Гришка. – Я бы мог и продать, да себя боюсь. Продать-то продам, а новой избы не куплю. Все деньги пропью. Я себя знаю. А так, без денег чтоб. Ну, я думаю, на пропой вы мне прибавите сотню-другую.
Прасковья молчала. Она оттягивала основной разговор. И чтобы отсрочить его хоть на какое-то время, она спросила о жене – не возражает ли бывшая жена против обмена?
– А чего ей возражать? Это моя половина. Как хочу, так и распоряжаюсь.
– Это так рассуждаете вы. А она ведь молодая женщина. Может, она не теряет надежды. Потом нам с ней жить.
Гришка ничего не сказал, но по его лицу видно было, что он о чем-то думает.
– А за чем дело стало? Она дома. Я сейчас ей постучу.
Он подошел к стене – в том месте, где стоял диван, – постучал кулаком в стену раз, другой.
– Какого черта? – послышался голос из-за перегородки.
– Валь, люди просят. Зайди на минутку, – сказал Гришка.
Вскоре пришла женщина лет тридцати пяти, с изможденным и усталым лицом. Она поздоровалась с незнакомыми людьми и, увидев бутылку на столе, что-то хотела сказать, но передумала.
Прислонившись к дверному косяку, она постояла, присматриваясь.
– Вы уж извините нас за беспокойство, – заговорила Прасковья. – Тут такое дело: может, мы будем вашими соседями. Решили познакомиться.
– Соседями? Вот хорошо-то, – обрадовалась она. – А то от него спасу нет… только и знает – компания у него за компанией.
Все помолчали – даже Гришка не вступил в разговор.
– Он издергал меня. И ребят замучил, – продолжала она. – Вы что ж, покупать решили или как? Денег ему не давайте на руки: пропьет.
– Мы решили меняться. Он переедет к нам, в Загорье, а мы сюда. Говорит, что тут его друзья одолели.
– Меняться? Это вы правильно решили. Пусть он поживет в деревне. Это ему на пользу. Только Марфуша будет против.
– А какие такие она имеет права – не позволить? – вступил в разговор Гришка. – Я хозяин! Хочу – стены сворочу! Хочу – переменяюсь. И вся недолга.
– Марфуша, – пояснила соседка, – это его полюбовница теперешняя. Гришку держит, как держат кот коня за узду. Так и она.
– Все вы держите за узду! Только пусть она попробует заикнуться против. Я ей покажу узду!
– Но моя обязанность предупредить людей. Такие дела надо не с ним, а с Марфушей решать. Она трезвая и потом – хозяйка. Но Марфуша сейчас на работе. Тут я вам не помощница.
Она прошла в комнату и села с краю дивана, где, наверное, любила сиживать за шитьем, пока не отчаялась и не ушла от Гришки.
Прасковья смотрела на уставшую женщину и молчала.
– Меняйтесь, – снова заговорила соседка. – Мне будет легче и спокойнее. За ребятами приглядите, когда я на работе. А то уйдешь, а сердце все болит: опять небось у него попойка? Ведь не ровен час керосинку оставит. Вот и пожар.
– Не бойся, я керосинку не зажигаю, как выпью.
Женщина отмахнулась, будто не слушала его.
– А что вам, двоим, надо? Молодые ведь хотят отдельно жить?
– Отдельно. Они квартиру ждут.
– Так вот. Дом хороший. Крышу мы еще в первый год, как купили, перекрывали. Правда, она не крашена давно. Да вы покрасите. Свои руки-то. Будете сидеть да телевизор смотреть.
Прасковья устала стоять, села на другой конец дивана.
Гришка посчитал, что деловой разговор окончен, и потихоньку вышел в столовую. Ему не терпелось допить остатки водки. Ради приличия следом вышел Игнат с Лешей, а женщины остались наедине.
– Вы будете разговаривать с Марфушей – не кричите на нее. Пусть она выговорится, – учила соседка. – Потихоньку обходитесь с ней. Вы послушайте ее, а делайте что надо. Она накричит, наговорит бозныть что. Права свои доказывать будет. А Гришка наступит ей на хвост – ничего, притихнет. Может, и она ему надоела, как я. Может, он от нее надумал избавиться.
– Спасибо тебе, – вырвалось у Прасковьи искренне. – У тебя-то самой есть помощник или одна обходишься?
– Ох уж эти помощники, – вздохнула соседка. – Как горлышко бутылки покажешь, так и помощники объявляются.
Прасковье больно было слышать такие слова, но в них была доля правды.
– Гришка что ж… в деревне за ум хочет взяться?
– Говорит, в пастухи попрошусь.
– Варгин не принял бы – знал Гришке цену. А этот возьмет. Работники на новой ферме нужны.
Помолчали.
Было слышно, как в соседней комнате тикают часы.
– Ну, если я вам не нужна больше, то я пойду, – сказала женщина. – Заглядывайте, коль решите. Конечно, сначала все кажется непривычным. Попомните меня: в городе вам будет хорошо. Встали и пошли, ни стада вам, ни на ферму ходить не надо. Считайте, что вам повезло.
26
Вернувшись из Новой Луги, Долгачева зашла к себе. Было еще не очень поздно. Однако по углам уже прятались тени; в кабинете было тихо.
Екатерина Алексеевна посидела, сумерничая.
Как она устала за день!
Казалось, убрано все – даже картошка. По утрам гулко в поле, прихваченном первым морозцем.
Самое подходящее время осуществить то, к чему Долгачева так давно готовилась: поговорить о планах развития хозяйств, наметить то, что надо сделать в первую очередь, чтобы в селах оставалась молодежь. Но с таким настроением, какое было у Екатерины Алексеевны, говорить об этом не хотелось; не получается прямого разговора. Почему? Она и сама не знала.
«Главное, в обкоме меня не поддерживают, – думала Долгачева. – Степан Андреевич – еще так-сяк, но и он ко мне относится настороженно».
Даже при одном воспоминании об этом настроение становилось пакостным, подавленным.
Долгачева зажгла настольную лампу, осветившую ее лицо, и подняла телефонную трубку.
– Мам, это ты? – отозвалась Лена.
– Да, это я. Как ты провела день без меня, моя девочка?
– Хорошо, мам. Я сегодня «пятерку» получила по сочинению. Знаешь, мам, я все верно написала, лишь одну запятую не там поставила. Но Любовь Владимировна зачеркнула запятую и написала красным карандашом «пять».
– Молодчина, девочка!
– Ты когда придешь?
– Сейчас приду. А-а… – Екатерина Алексеевна не знала, как назвать Тубольцева: отцом или просто по имени и отчеству? Решила, что по имени-отчеству проще. – А Николай Васильевич дома?
– Нет. Никого нет. Я и тетю Машу отпустила. Ей слякотно идти в темноте.
– Умница! Я сейчас приду. Мы будем пить чай и делать уроки.
– Хорошо, мам. Приходи скорей! – кричала Лена.
Поговорив с дочерью, Долгачева посидела неподвижно минуту-другую. Подумала: это плохое настроение свалилось на нее не сразу – не от одного только разговора на совещании. Одна неудача накладывалась на другую, удручая ее. Сначала неважно вышло со статьей, потом дело Варгина и, наконец, этот разговор о картофеле, конфликт с Батей. «Но если даже я вынуждена буду уйти из секретарей, – рассуждала Екатерина Алексеевна, – то и тогда я не пропаду. Жила же я и раньше, до райкома? Беда в другом».
Долгачева до поры до времени никому об этом не говорила, даже от себя старалась скрывать. Но скрыть можно от посторонних людей. А от себя, сколько ни прячь, этого не скроешь.
Трещина у нее была в отношениях с Тобольцевым. И день ото дня она, эта трещина, все увеличивалась, ширилась. Поначалу Долгачева думала: поживем – увидим. Ведь оба они немолодые. У каждого из них уже сложился определенный уклад быта, свои привычки. Жить вместе значило быть готовым каждый день поступиться чем-нибудь. Долгачева была готова на все ради девочки, ее будущего – чтоб она росла как все дети – в семье.
Но то, что со временем обнаружилось, было самым страшным: он пил.
Думать, что Николай Васильевич алкоголик, – думать так Долгачева себе не позволяла. За этим стояло очень многое: необходимо было длительное лечение.
Наедине с собой Екатерина Алексеевна решила, что надо объясниться с Тобольцевым.
Надо же было случиться такому именно с ней. Не она ли, Долгачева, воспитывала партийный актив, чтобы запаха спиртного ни от кого не было. На пленумах или зайдет ли она в правление – учует перегар – так выходи! Председателю выволочка.
И вот пьяный человек не в зале, не в правлении колхоза, не какой-нибудь возчик на ферме, а дома, и не чужой, а родной для нее человек.
Екатерина Алексеевна приходит домой, и они сидят с дочерью, пьют чай, делают уроки. Девять часов вечера, Лену пора укладывать спать, а Тобольцева все нет. Наконец свет фар «газика» ударяет в окно, слепит. Долгачева уже знает, что это привезли Тобольцева.
Екатерина Алексеевна бежит навстречу мужу. Она говорит дочери: «Иди, Лена, укладывайся спать». А сама, набросив на плечи пальто, спешит на террасу.
Тобольцев входит, пошатываясь. На плаще и на шляпе грязь, видно, где-то упал.
«Катя! Такое дело: встретил сапера, – сочиняет он. – Оказался в соседнем районе, в военкомате. Ну, выпили за встречу».
То встретил сапера, то обмывали уход сослуживца в отпуск – у Тобольцева каждый день находится причина для выпивки. Иногда Николай Васильевич сидит на террасе и кряхтит – голова раскалывается. И кажется, что после этого он не будет брать в рот больше водку.
Но вот настает завтра, и Тобольцев снова пьян. Пьян до того, что не может расшнуровать ботинки. Тогда Долгачева, превозмогая отвращение, опускается перед ним на колени – расшнуровывает ему ботинки, снимает галстук и, как мать ребенка, с ласковыми причитаниями укладывает его на тахту.
«Надо поговорить с Подставкиным, – подумала Екатерина Алексеевна. – Поговорить начистоту. Ведь мы же старые друзья».
Подумала о Подставкине, и ей вспомнилось, как в Тимирязевке на комсомольском собрании выступал вихрастый паренек – Женька Подставкин, студент агрофака. Девчата над ним смеялись, называли его про себя Таквотом. Он ни одной речи не начинал по-иному, а только словами: «Так вот». Когда Долгачеву выбрали секретарем Туренинского райкома, она отыскала Подставкина где-то в захудалом совхозе и пригласила его к себе – заведовать сельхозуправлением. Он – с радостью. Еще бы: и оклад, и положение, и, главное, Туренино – это столица перед тем совхозом, где он был.
Несмотря на поздний час, Долгачева позвонила в управление сельского хозяйства.
Подставкин сам поднял трубку.
– Евгений Павлович?! – удивилась Долгачева. – Что так поздно сидите?
– Да дела все. Думаете, что только вы перерабатываете?
– Вот хорошо: на ловца и зверь бежит, – пошутила Екатерина Алексеевна.
Подставкин охотно поддержал шутку:
– Доле в том, какой зверь? А зверь-то – так себе.
– Брось прибедняться. Скажи лучше, сколько картофеля мы будем иметь от перепашки?
– Не много будем иметь. Тонн триста.
– Мало.
– Да… и то если постоит погодка.
– Сегодня была в обкоме. Настаивают вскрывать бурты.
– Поздновато.
– Где там Тобольцев? – неожиданно спросила Долгачева.
Подставкин замялся. Промолчал, сопя в трубку. Потом, видимо, подумал, что молчать нехорошо, отозвался с неохотой:
– А разве Николая Васильевича нет дома?
– Нет.
– Он поехал в Березовку. Там есть опасение за совку. Скоро должен вернуться. Тогда я его подожду.
– Скажите, чтоб он ехал домой, – произнесла Екатерина Алексеевна упавшим голосом. А сама подумала: «Значит, Николай опять вернется пьяным».
У нее уже отпада охота говорить с Подставкиным о муже. «Как-нибудь в другой раз, – решила она. – Надо пригласить Подставкина к себе и поговорить с ним наедине.
– Спасибо, – бодрясь, сказала Екатерина Алексеевна и медленно опустила трубку.
27
Долгачева считала, что какая-никакая, а у них – семья. Есть и муж – плохой или хороший, но все ж есть мужчина в доме; есть и ребенок. И ей хотелось быть нарядной и нравиться мужу. И самое главное, ей хотелось, чтобы муж, придя домой, застал на столе ужин, чтобы он видел, что он тут хозяин и его ждут не дождутся.
Переодевшись, Екатерина Алексеевна суетилась на кухне. Она решила на ужин поджарить картошку и разогреть тушеное мясо, которое тетя Маша приготовила к обеду. Долгачева стояла у раковины и чистила картошку. Нож был острый, с деревянной ручкой, а работа успокаивала ее.
Екатерина Алексеевна все думала о Тобольцеве: что с ним делать? Устроить на лечение или отправить его обратно в Новую Лугу?
Они познакомились прошлой осенью.
Закончив уборку, Долгачева решила отдохнуть. За шесть лет секретарствования она заслужила право на отдых. «Заслужила», – сказали ей в обкоме. Екатерина Алексеевна давно уже замечала, что сердце у нее пошаливает. Порой, когда ложилась спать, кружилась голова.
Долгачева знала, что это давление.
И впервые за долгие годы она решила провести свой отпуск не в деревне, у стариков, а поехать на курорт, в Кисловодск. В санатории лечащий врач долго ее слушал, мерил кровяное давление и все качал головой. «И давно у вас высокое давление?» – спросил он.
Долгачева искренне призналась, что она не знает, давно ли… последний раз она была у врача, кажется, лет десять назад, когда готовилась стать матерью, проходила освидетельствование… за беременными женщинами смотрели. Заставляли их раз в месяц показываться врачу.
В санатории определили Долгачевой режим: лечебные процедуры, диету. Но через три дня Екатерина Алексеевна взмолилась: еда вся протерта и без соли. Ей и дома надоело питаться кое-как. Врач без особой охоты перевел ее на общий стол. На следующий день диетсестра усадила ее в противоположный конец столовой, к окну:
«Вот ваше место!»
Было утро. Было солнечно, ярко, как бывает в эту пору в Кисловодске. Из окна столовой виднелся парк. Листва деревьев хоть и поредела, но еще держалась. Горы, манившие своей недоступностью, были пестры, ярки. Глядя на их вершины, Долгачева думала, что в санатории – все такие важные люди и у нее нет попутчика, чтобы отправиться далеко наверх, в горы.
Стали собираться застольники.
Вежливо раскланивались, желали приятного аппетита и садились. Слева от нее сел моложавый мужчина – очень сердитый, с неулыбчивым лицом, гладко выбритый, без морщин. Оказалось потом, что он – строитель, начальник треста. Затем на завтрак явился пожилой полинялый мужчина с пушком на голове. Он сел напротив Долгачевой и, обратившись к соседу, сказал: «А плотица, поди, клюет?»
«Клюет».
Оказалось, что оба застольники – рыбаки. Только и разговору у них – о рыбалке, о том, кто куда ездит, на Селигер или на Верхнюю Волгу, на какую снасть ловит, чем подкармливает, что наживляет на крючок, и т. д. Словом, было очень смешно слушать их со стороны, настолько каждый преувеличивал свои успехи.
Потом пришел третий застольник. «Слава богу, – подумала она. – Этот не рыбак». Это был еще крепкий мужчина с орденской планкой на груди.
«Утро доброе!» – сказал он, громыхая отодвигаемым стулом.
Он сел и сидел внушительно, не горбясь, и снисходительно слушал рыбаков, которые, перебивая друг друга, хвастались своими успехами.
«Гляжу, судак! Около метра длиной. Ей-богу, не вру. Во!»
«А у меня однажды щука сорвалась. Как есть весло, такая длинная. Голова у нее шире резиновых сапог».
Так судьба свела их вместе. Судьба, помимо их воли, толкнула на сближение. Они оба не были рыбаками, и им было скучно слушать болтовню увлеченных людей. И потом, оба они были свободны – не связаны ни службой, ни семьей.
Давление у Долгачевой упало. А вместе с падением давления у нее улучшилось и общее настроение.
У Екатерины Алексеевны была хорошая палата – светлая, с балконом, выходящим в парк. Осень выдалась чудесная. Долгачева словно бы сбросила с себя двадцать лет. Отлетели все заботы – о надоях, о плане по мясу. Она была обыкновенной женщиной – изящной, остроумной.
Утром Долгачева распахивала балконную дверь, делала зарядку, принимала ванну и, посвежевшая, счастливая, являлась в столовую. Застольники давно уже перезнакомились. Рыбаки – даже за столом – говорили об одном и том же – о рыбалке. А Тобольцев, который не вникал в их разговор, считал своим долгом развлекать Долгачеву.
Однажды вечером, на терренкуре, где прохаживались отдыхающие, Николай Васильевич неожиданно встретил Екатерину Алексеевну. Сначала он прошел – раз, другой, потом осмелел, решил подойти к ней.
«Можно с вами поговорить, леди?» – шутливо обратился он в Долгачевой.
«Попробуйте! – ответила она. – Небось разучились ухаживать за дамами?»
«Посмотрим!» – Он вежливо наклонился, взял ее под руку, и они пошли вдвоем.
Замечание Долгачевой о том, что Тобольцев разучился ухаживать за дамами, смутило его, и он не нашелся сразу, что ответить. Он бросил только: «Посмотрим!» Потом, когда они прошли наверх, к «мостику вздохов», Николай Васильевич признался, что она своими словами задела его. Ему ничего не оставалось, как только доказать обратное – что он умеет ухаживать.
«Я буду рада», – сказала она и рассмеялась.
Однако шутка была напрасной. В этом Екатерина Алексеевна очень скоро убедилась.
Теперь Тобольцев постоянно уделял ей внимание.
«Леди! – говорил он за завтраком. – Сегодня вечером мы идем слушать «Цыганского барона» в исполнении артистов краевой оперы».
«Дорогой, Николай Васильевич! Хлопотун мой, – с улыбкой отвечала Долгачева. – Да у меня нет с собой даже вечернего платья. Не в чем идти в театр».
«Ничего. Все мы тут не в выходных костюмах. Главное – мы идем слушать музыку Штрауса».
И они шли слушать Штрауса. И как в юности, сидя в полуосвещенном зале, боялись коснуться друг друга. Гуляли в тесном фойе городского театра, пили лимонад и ели мороженое.
И ей было хорошо как никогда!
На курорте, где люди освобождены от быта – от очередей, от плиты, – у людей очень много свободного времени. Они и знакомятся легче, чем дома.
Долгачева уже знала, что Тобольцев – земляк, из Новой Луги, что когда-то был женат, но в войну семью свою растерял. Окончив войну подполковником, Николай Васильевич еще какое-то время служил. Но теперь – на пенсии.
Екатерина Алексеевна кое-что рассказала Тобольцеву о себе. Рассказала самую малость, чтобы не напугать его и не оттолкнуть: о том, что она землячка, что работает в глубинке, в Туренинском районе, и воспитывает одна, без мужа, дочь.
Долгачевой было хорошо с Тобольцевым, с этим «милым увальнем», как она называла Николая Васильевича.
В увлечении своем она не заметила одного маленького подвоха со стороны Тобольцева. Он всегда увлекал ее не в горы, не на «храм воздуха», а выдумывал такие маршруты прогулок, чтоб на пути обязательно попадались злачные места. Тобольцев был знаток кафе и ресторанов. Во время прогулки, когда они уставали, он вдруг радостно потирал руки. «Здесь есть чудесный ресторанчик «Замок», – говорил он. – Можно занять столик и хорошо посидеть. Ну его, с обедом, не будем спешить».
Они так и поступили.
Заходили в ресторан «Замок». Он и вправду был чудесен: на скале под вид старого замка сделан современный ресторан. Тут было уютно, Тобольцев заказывал себе рюмку-другую коньяку; выпивал, а подвыпив, становился более весел и оживлен.
Иногда Долгачева позволяла себе выпить рюмку красного вина, и тогда они гуляли допоздна, и дурачились, и шутили, как дурачатся и шутят только в молодости.
Так наметилось их сближение.
А остальное случилось позже, в Новой Луге.