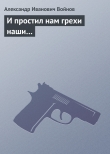Текст книги "Грехи наши тяжкие"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
18
Лена была одна. Екатерина Алексеевна догадалась об этом сразу же – по яркому свету, горевшему всюду. Девочка боялась темных углов и, когда оставалась одна, включала все светильники, какие были в доме: на террасе, в кладовой, на кухне.
Лена сидела за уроками в большой комнате.
– Пройди к себе, Лена.
Девочка молча собрала книги, тетради и пошла в свою комнату. Лена знала: мать всегда просила ее об этом, когда следом за ней в комнату вваливался пьяный Тобольцев. Дочь хотела быть незамеченной. Она пыталась прошмыгнуть в свою комнату, но в это время в дверях, поддерживаемый Славой, показался Тобольцев.
Лена – бочком-бочком – прошла к себе, закрыла дверь.
– Спасибо, Слава. Подожди минутку.
Долгачева с Тобольцевым остались вдвоем.
Екатерина Алексеевна подошла к окну. Плечи ее вздрагивали. Она плакала, и лицо, влажное от слез, вытирала платком.
Тобольцев, шаря руками, как слепой нашел кресло и сразу же опустился в него. Он чувствовал себя хуже, чем на улице, на морозном воздухе. Он опустился в кресло и громко икнул.
Вытерев лицо, Долгачева повернулась к Тобольцеву и некоторое время молча наблюдала за мужем, словно раздумывая над тем, что предпринять.
Постояв так минуту-другую, она решительно шагнула к платяному шкафу, сняла сверху чемодан, с которым приехал Тобольцев, и, бросив его на пол, сказала властно:
– Собирай!
Екатерина Алексеевна сказала это не очень громко и спокойно, но в голосе ее чувствовалась решимость. Решимость женщины, которая готова пойти на все: одной, как прежде, растить ребенка, жить так, как она хочет, – без снисхождения к себе и другим, без ежедневного унижения.
– Катя! – заговорил было Николай Васильевич. Он сделал попытку подняться. Но это было выше его сил, и он снова опустился в кресло. – Катя, извини, в последний раз. Понимаешь: критический момент. Подставкин уходит в отпуск. Пригласил. Как отказать? Мы ведь все лето работали. Старались.
– Все лето пил! – подхватила Долгачева. – Сколько у нас было разговоров на эту тему? И все «в последний раз». Предупреждала. Терпение мое иссякло. Все. Собирай вещи!
– Катя!
Галстук у Тобольцева сбился набок, лицо – бледное, потеряло свое обычное выражение. Было неприятно смотреть на такое лицо, и Долгачева брезгливо отвернулась.
И она так долго доверяла этому человеку свои мысли? От этого ей стало гадко, мерзко, будто он предал ее. Побеждая теперь эту неприязнь к нему, Екатерина Алексеевна бросилась к шкафу, где были его вещи. Она не знала, что сделает в следующее мгновение. Ей важно было само действие.
Обе створки шкафа распахнулись. И когда они распахнулись, Екатерина Алексеевна увидела на поле его, мужнино, белье. Оно было выстирано и выглажен и лежало на самом виду.
Долгачева схватила стопку и, роняя на пол белье, топча его ногами, шагнула к чемодану. Бросила.
– Собирай!
– Катя… – Тобольцев встал; он топорщил руки, мешая ей носить белье, и что-то говорил, оправдываясь. Но слова его больше походили на лепет, чем не уговор. – Катя, прости.
Екатерина Алексеевна не слышала его слов. Она снимала с плечиков все, что попадалось ей на глаза: холщовый костюм, в котором Тобольцев ходил летом (она собиралась отнести его в чистку, но так и не отдала!). Она взяла его костюм вместе с другими вещами и бросила в чемодан. И выходной его костюм с орденами на лацкане.
Хоть и бросила, но вспомнила, что в этом костюме он был на их свадьбе. Она сама советовала ему надеть именно этот костюм.
И лишь одно воспоминание об этом – о том, что надежды не оправдались, – всколыхнуло в ней что-то необъяснимое. Долгачева подумала, что поступает неразумно. Но остановиться, перестать укладывать его вещи она уже не могла.
Присев на колени, Екатерина Алексеевна стала закрывать чемодан. Застежки не закрывались – мешали вещи. Она торопливо засунула их внутрь и захлопнула крышку.
Тобольцев, наблюдавший за ней, понимал, что она делает. Но был так пьян, что не мог встать и помочь ей.
Он сидел в кресле напротив, согласно кивал головой и время от времени повторял:
– Так его. Так.
Долгачева кое-как собрала чемодан, поставила его среди комнаты:
– Забирай и, как говорится, – с богом!
До Тобольцева наконец-то дошло, что она не шутит.
От этих ее слов Николай Васильевич протрезвел даже. Он поднялся и, пошатываясь, подошел к Долгачевой. Взял ее руку в свою, стал целовать.
– Катя, прости… Обещаю.
– Ты уже обещал! Ты уже в таком состоянии, когда человек – не хозяин своих слов. Такой мне не нужен. У меня своих забот хватает. Поезжай. Лечись.
Она брезгливо высвободила свою руку из его потных рук и, открыв дверь, позвала шофера:
– Слава!
От калитки отозвался шофер, и тут же послышались его шаги – заскрипел снежок под его ногами.
Из темноты на ярко освещенную террасу вышел Слава – длиннорукий, в модной тужурке. При ярком свете абажура – легкого, плетенного из соломки, – который так счастливо светил им летом, видно было, что лицо у Славы усталое.
– Слава, ты устал, конечно. Но, будь добр, сделай мне одолжение.
– Какая усталость у человека, который сиднем сидел весь день?
Слава не все понял. Он понял только, что в доме Долгачевой нелады. Да и как им было ладить? Он не один раз по просьбе Долгачевой привозил Тобольцева домой пьяным, бессвязно бормотавшим извинения. Он думал, что Екатерине Алексеевне нужна помощь – управиться с пьяным, и поэтому шагнул в комнату.
Долгачева пошла следом за ним. И это было кстати, ибо сказать Славе все она боялась.
Екатерина Алексеевна не любила, когда шофер становится свидетелем семейных сцен; как, к слову, не любила она и тех, кто сует свой нос не туда, куда положено.
Долгачева понимала, что, может, завтра она пожалеет о том, что сделала этот шаг. Но остановиться на полпути она уже не могла. И, войдя следом за Славой в комнату, она указала на Тобольцева.
– Слава, дорогой! Будь добр, отвези Николая Васильевича в Новую Лугу. В другой раз я дам тебе отгул.
– Сейчас? Ночью?
– Да.
19
Яркое-яркое солнце.
Оно греет с утра до самого заката. Солнце слепит, бьет из каждого угла, из каждой щели. Кажется, никогда еще не было такого обилия тепла и света, как ныне.
Ничего не поделаешь: весна!
Она приходит на землю не случайным гостем, а владыкой. Весна властная над всем: по улицам городка журчат ручьи. Деревья, стоявшие всю долгую зиму голыми, черными, загустели, налились тяжелыми почками. Нежные сережки свисают с ветвей ракит. На вершинах тополей сидят грачи – белоклювые, с черными лоснящимися боками, – кричат, суматошно летают над городком.
Шуршит лед на реке.
Ледоход!
Все высыпали на улицу. Люди стоят на берегу Оки, на мосту через Туренинку, возле больницы. Стоят кучками, нарядные, как в праздник.
В Туренино сохранился обычай людей, жизнь которых тесно связана с жизнью реки, исчислять новый год не по календарю, а с полой водой.
Половодье чтится у туренинцев превыше всего. Это, как бы поточнее сказать, праздник духа – очищение.
Половодье не приходит враз. К полой воде все готовятся. По вечерам, когда высоко еще стоит солнце, туренинцы выходят на Коммунальную.
Это туренинская набережная, улица в пять или шесть домов, которые окнами смотрят на Оку. Туренинцы гадают: будет большая вода или не будет? Если будет, то вода зальет набережную. На самом углу Коммунальной на старом купеческом доме, где теперь музыкальная школа, на высоте окон второго этажа есть отметина уровня воды, который был пятьдесят лет назад. Как рассказывают старожилы, ледоход случился на пасху. На службу попали лишь те горожане, у которых были на плаву лодки: вода доходила до церковной паперти.
Люди ходят по набережной в ватниках и резиновых сапогах (в эту пору без резиновых сапог в Туренино не пройти), люди ходят по улице; подолгу стоят, всматриваясь в знакомые очертания Оки, далей, открывающихся за рекой.
Ока, словно роженица, полнеет на глазах, наливается невидимой силой. Уже давно – неделю назад, а может, и больше – на реке появились закраины. Ручьи сверху шумят. Ошметья грязи на дороге и все, что накопилось за долгую зиму, все несется вниз, в Оку.
Вода все прибывает, маслянисто поблескивая у берегов. Вода течет поверх льда. Закрайки ширятся день ото дня. Рыбаки их не боятся. По мосткам они проходят в затон и рыбачат.
Лед посреди реки вздуло; он изогнулся дугой, треснул посередине, но все еще стоит.
Проходит день-другой – и как-нибудь в теплый вечер сверху, от Алексина, вода как поднапрет. На глазах у всех: «Трах!» Лед напротив Коммунальной треснул. Черная трещина между льдин – все шире и шире. Наконец льдина, стоявшая всю зиму перед городом, нехотя двинулась вниз.
«Пошла! Пошла!» – радостно кричат малыши.
Но пожилые люди знают: радость их преждевременна.
Это всего-навсего лишь передвижка льда.
Ока здесь, на Быку, сразу же после впадения в нее Туренинки, делает крутой поворот. Вот в эту косу и упирается льдина и стоит тут, под Лысой горой, пока ее не столкнут льдины, находящиеся повыше.
Люди ходят, смотрят на полынью и качают головами: надо же, ушла.
Проходит еще какое-то время.
Все так же тепло, горланят грачи, устраиваясь на тополях и ракитах. Можно снять телогрейку и дотемна ходить в демисезонном пальто.
Молодежь гуртует, ходит по берегу.
Закрайки на реке уже настолько большие, что их нигде, даже в затоне, не перейдешь. Лед выше парома, напитавшись водой, прибывающей сверху, посерел, набух. Но у воды еще нет сил сдвинуть его.
Тихо угасает вечер. Наступает темная ночь, какие бывают только по весне, в середине апреля. Небо заволакивают тучи. Начинает моросить дождь.
Люди расходятся по домам.
И лишь древние старики не уходят, сидят себе на лавочках, понаделанных вдоль речного берега. Смотрят на реку и курят. Старики знают, что Ока трогается не днем, а вот в такую темную ночь.
Туренино засыпает.
Только лают собаки в дальних концах городка да бормочут на тополях сонные грачи, потревоженные сварливыми галками.
В полночь, однако, всех будит треск на реке: «Трах!» И через минуту опять: «Трах!»
В стороне Оки слышится какой-то живой шорох, будто что-то движется по реке.
Набросив на плечи что попало, люди выбегают на крыльцо. «Лед пошел! Как же так: дежурил на реке весь день – и проморгал!»
20
Лед пошел!
Леша Чернавин знал, что ледоход на Оке лучше всего смотреть не с берега, а с Лысой горы.
В конце работы Леша поставил свою машину в гараж и, как был в ватнике и резиновых сапогах, решил сходить на Лысую гору. Благо гора рядом.
У выхода из гаража его окликнул знакомый парень – шофер автобуса, находящегося в ремонте:
– Привет, Леша!
– Привет. С весной тебя!
– Спасибо. Тебя-то еще рано поздравлять?
– Утром заходил: было еще рано.
– Ну, бывай.
Дорога, ведущая в гору, бурлила вешними ручьями. За гаражом почти сразу же началось мелколесье. Но Леша очень скоро вышел к самой горе. Подминая ногами жесткую прошлогоднюю траву, он подымался вверх. Дорога уже кончилась, и идти стало труднее.
Склоны горы поросли шиповником и сосняком.
Однако Леша поднялся на самую вершину и остановился, пораженный видом, который ему открылся с высоты.
Справа, на крутом берегу Оки, виднелось Туренино.
Городок террасами выбирался все выше и выше, поблескивая окнами домов и ручьями, сбегающими вниз. Город был пестр от солнечных бликов и радостного чувства обновления.
Прямо, сколько мог охватить взгляд, видны были заокские дали с лесами и лугами. А внизу, у самых ног, теснились льдины. Величаво проплывали большие льдины – с санными дорогами, черными от клочьев сена и конского помета, с вешками, натыканными по краям. Льдины время от времени останавливались у берега передохнуть. Однако передыха им не давали другие – они налетали на них со всего маху, ударялись в края; льдины разворачивались, крошились. Тупые удары слышались отовсюду.
«Тук! Тук!»
Льдины, как живые, недовольно стонали, чавкали; вода подхватывала их и уносила прочь. Вода не знала преград. Она затопила пойму до самого леса. Березы на опушке стоят, смотрятся в темную воду.
Полая вода подмывает вековые деревья, росшие на том берегу. Ракиты нехотя падают, течение подхватывает их и, с корнями, с распущенной кроной ветвей, несет, кружит, увлекая за собой.
Полая вода.
Она смывает с земли нечисть, накопившуюся за год жизни. Пройдет неделя-другая, вода утихомирится, Ока войдет в свои берега. И люди забудут о половодье.
Было в бурном потоке воды что-то очищающее мир. От этого движения на реке нельзя было оторвать взгляда, и Леша стоял на горе до тех пор, пока не стали погасать лучи солнца.
Леша огляделся. Весь южный склон горы был испятнан желтыми цветами мать-и-мачехи. Упругие бутоны, пока еще без листьев, усеяли поляны; росли вдоль глиняных откосов – росли прямо из земли, как свечки.
Леша обрадовался цветам. Вечером он думал снова зайти к Зине. Она уже вторые сутки лежала в родильном доме. Утром, перед сменой, он уже заходил к ней, передал ей узелок с едой и зубную пасту «Мэри», которую она позабыла дома.
Теперь он занесет ей цветы, а заодно и узнает, как она там – не осчастливила ли его наследником?
Леша нагнулся и стал срывать желтые лохматые пуговки. Он так увлекся, что какое-то время только и делал, что собирал цветы. Он набрал целый букет их и остановился перевести дух.
Было еще тепло, но дальние перелески, затопленные водой, уже покрылись голубоватой дымкой.
Над городом ложился туман.
Туман выползал из-за речных лесов и прятал все: и улицы, и дома, еще недавно освещенные солнцем, и они погасли, скрываясь в сумерках.
Было волнующе легко, как бывает лишь весной, и было такое настроение, что хотелось свершить что-то великое, необычное.
21
Неподалеку от моста через Туренинку, возле городской бани, стоит деревянный дом с высокими венецианскими окнами.
Дом обшит снаружи тесом и покрашен. Но от времени краска на досках облупилась, и видны многие наслоения. Люди красили этот дом чуть ли не каждый год. От времени и от ветхости тоже дом врос в землю. Окна его стали почти вровень с тротуаром.
Крыша дома латана и перелатана и сейчас покрыта, кажется, шифером.
Возле дома, закрывая его от пыли и спасая от грохота машин по мостовой, разрослись вековые тополя, усеянные грачиными гнездами.
Люди проходят и проезжают мимо, не обращая на него внимания, не снимая, как говорится, шляпы. А между тем кому-кому, а туренинцам при виде этого дома стоило бы преклонить колени. Ведь в этом доме родился каждый туренинец.
Построенный еще в прошлом веке, дом этот ветх, дряхл, доживает свои последние дни. Однако на этот суетный мир дом смотрит с достоинством: он хорошо послужил на своем веку и пока еще служит горожанам.
Сюда-то, к роддому, с букетом цветов и спешил Леша Чернавин. Он уже знал палату, где лежала Зина. Леша без труда отыскал окно, которое ему нужно было. Приподнявшись на цыпочки, он просунул голову в форточку палаты: точь-в-точь как заглядывают галки в скворечню в поисках птенцов.
– Зин, опять твой пришел, – услышал Леша.
К окну подошла Зина. Отдернула занавеску, подставила табурет, поднялась на него, стала вровень с форточкой.
– Ну, какие дела?
– Хорошо. Шевелится. Врач сказал, что вот-вот.
– Вот тебе подарок: первые цветы. Сам набрал. На Лысой горе.
– Цветы? – удивилась Зина. – Спасибо. – И когда брала, то коснулась Лешиной руки своей горячей ладонью.
– Поставь в воду! – крикнул он и, боясь, что слова его услышит дежурная сестра, добавил потише: – Найди там пустой стакан или вазу.
Пока Зина искала вазу, чтобы поставить в нее цветы, Леша стоял у окна.
Но вот Зина снова появилась в палате. Леша занял свой прежний пост – просунул голову в форточку.
– А врач что говорит: сын или дочь? – спросил он.
– Чудной ты, Леш. Кто может заранее угадать?
– Можно! Я хочу сына. Я уже и ленту голубую купил.
– Ленту – обожди. Купи пока самое необходимое: простынку, одеяло, пеленки. Да. Еще – коляску. Зайди к сестре – я тебе письмо написала.
– Коляску бабка купит.
Зина заулыбалась.
– Знать, смирилась с нелюбимой невесткой? – сказала она.
– Почему – нелюбимой?
– Так. А разве я не знала?
– Просто каждой матери до поры до времени кажется, что ее сын достоин лучшего. – Леша посмеялся. – А со временем они все смиряются. Тем более для меня ты – самая лучшая.
– Да?
– Да! – И он убрал голову из форточки: в палате появилась сестра.
На перекрестке, у роддома, стояли люди. Знакомые, незнакомые – какая разница?
Леша подошел к мужикам, достал пачку сигарет. Две или три руки сразу же потянулись к его пачке, взяли по сигарете. Не от жадности взяли, а так – от нечего делать.
Задымили, лениво переговариваясь.
– Ну как, не замочило твою Зинку?
– Нет.
– Ну и не замочит. Я своей так и сказал. Утром отвез. Нынче не будет большой воды, – проговорил незнакомый мужик, рабочий пилорамы. – Конец ей, воде. Не поднимется она больше. Снега нет.
– Говори…
– Ведь она – Ока – как устроена? Она две недели прибывает, а две недели убывает. А вода подымается уже на двенадцатый день.
– Да, говори! – возразил парень в полушубке, по виду шофер. – Ока вон как поднаперла, Туренинка всклянь полна. На Коммунальную сейчас выйдет. Видел? Перышкин своих кур уже перевез.
– Перышкин – известный паникер. Его отец в восьмом году, сказывают, иконы в избе поснимал. С крестным ходом ходил, чтобы воду остановить.
– И как: помогло? – спросил насмешливо Леша.
– Помогло. Лавки в избе плавали, а божница – нет. К стене прибита.
Пошутили, посмеялись – уж пора по домам расходиться.
Только обернулись, а она, вода-то, тут как тут: движется к роддому как живая. Мутная, она на глазах людей лилась по кюветам. Впереди себя гнала какие-то ветки, солому, все, что лежало всю зиму на дороге. Посмотрели, а на площади, перед гостиницей, воды – по колено. А от реки, с Коммунальной, Перышкин на плоскодонке плывет – скарб домашний в лодке, и видно лишь, как он веслами взмахивает.
На какой-то миг все опешили от неожиданности. Однако через миг мужики посмотрели друг на друга и пришли в себя.
– Этто пора баб из роддома увозить, – сказал парень в полушубке.
– А куда их вывезешь?
– Куда-нибудь, а вывозить надо.
– Я только свою машину поставил, – с сожалением проговорил Леша. – Побегу, заведу – и перевезем.
– Не успеешь. Надо бежать за автобусом. На остановке всегда какой-нибудь рейсовый стоит. – И, бросив недокуренную сигарету, он побежал к автобусной остановке.
Он побежал к автобусной остановке, а Леша, перепрыгивая через лужи, – к крыльцу родильного дома. Низкий его порожек уже был залит водой. Леша перепрыгнул через порог и приоткрыл дверь. Он не раз бывал у Зины и знал, что в доме были тамбур и темный коридор. А в конце этого коридора, у окна, выходившего во двор, стоял стол дежурной сестры. Их было две – медицинских сестры: одна – постарше, ничего, и молодая – строгая, шумливая. Они дежурили по очереди, и Леша не знал, на какую наскочит.
Едва скрипнула дверь, как сестра – та, что моложе, закричала:
– Кому сказано не ходить! Носит вас тут.
– Вода! – крикнул Леша, кивая во двор, на окно.
Сестра обернулась к окну. Оно было заделано на зиму двумя рамами. Но даже и через грязное окно, засиженное мухами, сестра увидала, что двор заполнила вода. Она по-бабьи всплеснула руками: батюшки, а что же делать?
– Надо эвакуировать рожениц.
– А куда?
– Куда? – Леша задумался, сказал первое, что взбрело в голову: – Да хоть в парткабинет.
– Обождите: я позвоню Долгачевой.
Сестра набрала номер телефона. В райкоме никого не было. Но в таком маленьком городке, каким является Туренино, все знают друг друга; и через минуту о беде, в которой оказались роженицы, уже знали телефонистки. Они принялись разыскивать Екатерину Алексеевну, звоня ей туда-сюда, но Долгачевой нигде не было. Отыскали ее помощницу Людмилу Тарасовну, и та попросила деда Кулата открыть парткабинет; сама взялась посмотреть, как разместятся роженицы.
Леша вошел в палату.
Роженицы – их было четыре или пять – в халатах, с волосами, собранными под марлевые косынки, слышали разговор в коридоре. Они уже собрали вещи.
Леша видел только Зину.
– Зина, вода! – Он снял с себя ватник и набросил его на плечи жены. – Одевайся.
– Зачем? Сумасшедший.
– Я не шучу: вода!
Она оделась, с трудом отыскав рукава, и в ватнике, в больничном халате, с большим животом, стояла рядом. Зина была смешна в своем одеянье и, уж конечно, некрасива. Но было не до того, чтобы разглядывать ее.
Леша подхватил Зину на руки и понес ее к выходу.
Зина обхватила его за шею, шептала на ухо:
– Милый… Как хорошо, что большая вода.