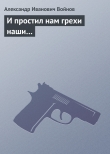Текст книги "Грехи наши тяжкие"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
14
– Миграция молодежи в город продолжается, – говорил Грибанов. – Остановить этот процесс – вот наша задача. В ответ на вопрос: «Довольны ли вы своей работой?» – большинство старых кадров ответили положительно. А у молодежи ориентация другая. Более четверти молодых людей и девушек уже приняли решение оставить село, а треть еще колеблется.
Екатерина Алексеевна слушала Грибанова.
Ведь бесспорно, что к такому обоснованному разговору были готовы все, – начиная от специалистов сельского хозяйства и кончая дояркой.
Ей вспомнилось выступление Юртайкиной.
Надежда Михайловна говорила о наболевшем.
Долгачева несколько удивилась, слушая ее выступление.
«План социально-экономического развития? – заговорила Юртайкина, едва Долгачева обмолвилась. – Чего придумали? Какие могут быть планы, когда колхоз латает одну дыру за другой. Нет хранилища для картофеля. Зерносушилки нет, колхозный клуб ютится в мужицкой избе – негде молодежи кино посмотреть, потанцевать. А они планы придумали!»
И за свое:
«Если уж говорить о будущем деревни, то надо браться за самое главное. Вот, скажем, неподалеку от села проходит государственная газовая трасса. Поговорите с кем надо, добейтесь, чтобы нам разрешили подключиться к трассе. Тогда бы мы газифицировали село. Молодежь понемногу стала бы оседать в хозяйстве».
«Ну что ж, мысль хорошая», – согласилась Долгачева.
Согласиться-то согласилась, а не подумала, что стоит за этими словами «разрешить подключиться». За этими словами стояли мытарства по министерским кабинетам. И за каждой дверью, обитой дерматином, сидел неразговорчивый человек, который знал только одно: «Нет».
«Нет!» и «нет!». Этих газовщиков тоже можно понять: если разрешить всем присоединяться к газопроводу, то газ не дойдет до Ленинграда.
Суховерхов, который знал все пути и выходы, по-свойски подсказал, к кому обратиться. Михаил Порфирьевич и сам поговорил с кем надо. Поговорили в Госплане, и деревням Юртайкиной было разрешено подключиться к газопроводу.
Теперь можно перестраивать село, возводить дома в двух уровнях, и клуб, и зерносушилку – все, что твоей душе угодно.
Надежда Михайловна взялась за главное в хозяйстве. Оттого настроение у нее было хорошее.
Говорила Юртайкина метко, с юмором.
«Однажды звонит мне заведующий фермой: «Надежда Михайловна, что делать? – пропала доярка». – «Как так – пропала?» – спрашиваю. «Так! Уже два дня как ее нет. На дверях избы – замок. Пытали знакомых: не видели ли? Может, позвонить в милицию, дать розыск?» – «Обожди», – говорю. А сама, понятно, тоже забеспокоилась. Да-а… вдруг на третий день доярка как ни в чем не бывало является. Я на нее, разумеется, в этаком повышенном тоне: «Как ты смела бросить коров, не предупредив?» то да се. А она спокойненько так и говорит: «Дорогая Надежда Михайловна. Что ты на меня кричишь? Я у дочери в Москве была. За весь год можно хоть один раз в ванне понежиться?» И осеклась я: на все пять деревень, что в колхоз входят, – ни одной путной бани! У механизаторов, которые посильнее баб, у которых семьи, дети, есть бани, на задах стоят, и топятся они по-старинному, по-черному. Но общей благоустроенной бани нет. Тогда-то я решила построить в колхозе финскую баню. Она пока единственная в районе».
Говорила Юртайкина бойко, без бумажки. Она хвалила свих колхозников – аккуратный и трудолюбивый народ. С гордостью говорила о семьях, о целых трудовых династиях: колхозники работали самоотверженно.
«Но-о! – Надежда Михайловна развела руки в стороны. – Но все это пожилые люди. А молодежи в колхозе совсем нет. Из четырех десятков выпускников средней школы в прошлом году в колхозе осталось лишь трое».
Юртайкиной никто не аплодировал: смешно одобрять потерю людей.
Долгачева тоже слушала ее молча.
Екатерина Алексеевна была подобна дирижеру огромного оркестра. Она внимательно слушала всех и при малейшей фальши репликой или вопросом исправляла эту фальшь.
Речи на пленуме были ею просмотрены, уточнены. Но как отнесутся его участники к выступлению Грибанова, который, как известно, мог наговорить с три короба?
Выступление Юрия Митрофановича Екатерина Алексеевна слушала особенно внимательно. Она была готова в любую минуту поправить его, подсказать нужное направление.
И когда Юрий Митрофанович заговорил о слабом развитии спорта на селе, как о частице общей культуры, Долгачева в сердцах подумала: «А спросить бы его: кто на селе будет заниматься физкультурой – восьмидесятилетние старики?»
И она, подавляя внутреннее раздражение, сказала:
– Юрий Митрофанович! Вы много лет занимались социологическими исследованиями, вы проводили эти исследования во многих районах страны: на Алтае, в Ставропольском крае, а Калининской и Калужской областях. Скажите нам: а каково положение с молодежью в этих областях? Что делают другие хозяйства, чтобы удержать молодежь на селе?
Грибанов обернулся, поправил очки и поглядел поверх их на Екатерину Алексеевну.
– Да, правильно. Мы работали во многих областях страны, – заговорил он. – И должны вам сказать, что повсеместно причины миграции молодежи одни и те же: бытовые условия. Еще десять лет назад ведущими мотивами такого ухода была материальная сторона. Но теперь картина резко изменилась. Теперь на вопрос: «Что привлекает вас в городе?» – лишь пять процентов молодых людей ответили: «Материальные условия». Теперь на первое место выдвигаются другие мотивы: возможность продолжать учебу, получить хорошую специальность, благоустроенную квартиру, культурно проводить свободное время.
– Это нам понятно, – перебила его Долгачева. – Но нам интересно знать другое: чем хозяйства удерживают молодежь? Есть ли какие-нибудь ваши рекомендации, как ученого?
Грибанов слушает Екатерину Алексеевну рассеянно. Юрий Митрофанович не очень понимает, что от него хотят. Чтоб он молодежь задержал? Он шелестит своими бумагами. Наконец, видимо, находит ту, которая ему нужна, и, уткнувшись в нее, начинает говорить:
– Какими методами? – повторяет он. – Да разные тут применяются методы. Так, в ряде колхозов Оренбургской области выпускники школ и демобилизованные солдаты… Одним словом, молодежь, оставшаяся на селе, в течение первых трех лет получает надбавку к зарплате. Им выдается безвозвратное пособие на обзаведение хозяйством, коровой. Молодоженам, вступившим в брак, колхоз предоставляет готовую квартиру.
– Денег много надо! – крикнул кто-то из-за угла.
– Да, конечно, деньги нужны, – соглашается Юрий Митрофанович, стараясь вглядеться в того, кто крикнул. – Но и за примерами далеко не надо ходить. Возьмем ваш «Успенский» совхоз. Там молодежи – хоть отбавляй. Комсомольская организация – сто человек. А почему в совхозе много молодых рабочих? Да потому, что там для жизни людей созданы нормальные условия. Дома – в двух уровнях: внизу быт – столовая, кухня, ванная, а вверху – спальня и кабинет. Пусть Суховерхов выйдет сюда, на мое место и расскажет, как он собрал вокруг себя молодежь.
– Деньгами собрал! – крикнул Размахов.
Суховерхов сидит за спиной Долгачевой. Михаил Порфирьевич шелестит бумагами – готовится выступать.
– Нет, не одними деньгами! – подает он голос. – Я создал рабочим совхоза такие же условия жизни и быта, какие есть в городе. И люди пошли ко мне.
15
В зале погас свет, и сразу же – без звука и титров – на экране замелькали кадры.
Все затихли, присматриваясь.
Будто что-то знакомое, свое, и вместе с тем чужое, непривычное. И лица людей – такие близкие и вместе с тем далекие.
Каждый старался узнать себя.
Картофельное поле. Оно простерлось до самого горизонта. Побеги растений вывернули землю, приподняли ее кверху, и она топорщится. Побеги стараются увернуться от повители, которая, как паутина, обвила их. Безобидные цветочки-пятачки уже забелели вдоль всего поля.
Люди смотрят на поле. Они словно бы говорят сорняку: «Обожди, сейчас ты помрешь под лемехом культиватора».
Вот она, машина: идет вдоль плантации, оставляя за собой прямые рядки картофеля. Лемех культиватора взрыхлил междурядья, окучил кусты. Они словно выросли, стали заметнее.
Но что такое? Культиватор прошел, а повилика осталась. Ее пружинистый ствол с цветами-пятачками оплел куст картофеля и стоит себе как ни в чем не бывало.
Меж грядок появляются женщины.
Все узнали их: это шефы – бухгалтер и парикмахерши из комбината бытовых предприятий. Они идут между грядок и тяпками разбивают комья земли, оставшиеся после того, как прошел окучник. Исчезает и цветущая повилика, сорванная их руками.
То, чего в избытке на полях, – сорняки – растут быстро. Зато то, что так необходимо в хозяйстве, что надо запасти на всю долгую зиму, скажем, силос, – накапливается медленно.
Бетонная яма нового Загорьевского комплекса. То и дело подъезжают к яме самосвалы, опрокидывают кузова, полные зеленой массы. Бабы в ватниках посыпают измельченную массу солью. Гусеничный трактор укатывает ее.
Самосвал за самосвалом.
А трактор все ползает взад-вперед.
Машины заезжают уже внутрь ямы и вновь опоражнивают кузова, наполненные доверху. Тракторист разводит в сторону руки, испачканные мазутом: мало!
На опушке леса в широкополой шляпе стоит дядя Саша. Вдали пасется стадо. Пастух заскорузлыми руками свертывает цигарку.
Пшеничное поле.
Окаймленное березами, оно простерлось до самого горизонта. По полю плывет «Нива», оставляя за собой широкий прокос, заваленный копешками соломы.
С мостика в зал смотрит запыленное лицо – Ефим Ядыкин.
– Ефим! – толкает кто-то сосредоточенно уставившегося на экран Ефима Ядыкина. – Что ж ты не побрился ради такого случая? Ведь видел – снимают в кино.
Ефим не отвечает – смотрит.
Сейчас будут показывать, как он с хедером возится. Заминка у него вышла с этим самым хедером. Варгин предупреждал, а он не послушался.
Мелькают руки – Ядыкин чинит комбайн.
Как бы мимоходом показан сельский труд – кропотливый, тяжелый.
Вот Клава – доярка. В белом фартуке, стоит, улыбается.
Она налаживает «Тэндем», готовится к дойке. Руки доярки протирают доильный аппарат.
Руки…
Руки тракториста, испачканные мазутом.
Руки комбайнера, спокойно лежащие на штурвале «Нивы».
Руки доярки.
Руки с мотыгой.
Руки и руки.
Руки, словно бы рефрен в стихах. Нет! – больше, это симфония труду. Не машина все делает, а человеческие руки: очищают поле от сорняков, перебирают картошку, стогуют сено, убирают хлеб.
Руки… Но где их взять?
Их мало. Их не хватает в деревнях.
Вот добротный дом из силикатного кирпича. Над входом – вывеска: «Детский сад колхоза имени Калинина». С открытой террасы вниз ао ступнеькам бегут дети. Девочки – с бантиками, вплетенными в косички, мальчишки с челками – лобастые, смышленные. Дети бегут мимо цветников, по дорожкам, усыпанным песком. Они спешат к игркшкам – качалкам и каруселям.
Кохозные дети.
Они ухожены, довольные жизнью.
При виде их в зале все светлеют: вот она – наша смена.
И вдруг в тишине слышится голос:
– Да-а, и только троим из них определено на роду такое – остаться жить и работать в деревне.
В темноте Долгачева не разглядела, кто это сказал. Но радость любования детьми была уже омрачена, и, сама того не замечая, Екатерина Алексеевна по внешнему виду – по челкам и платьицам, по тому, как тот или иной парнишка крутил руль игрушечной «бибики», – старалась определить: кто ж они, эти трое, которым на роду написано остаться жить и работать в деревне.
«Троим», – думала Долгачева.
Была в этом слове боль и тревога за будущее нашего села.
16
Екатерина Алексеевна сидела у себя и, не зажигая света, перебирала в уме то, что было сегодня.
Конечно, самое важное – это пленум. Он прошел хорошо. Первый этап позади. Каждое хозяйство имело теперь свой, конкретный план работы. Но Екатерина Алексеевна знала, что никакие хорошие планы сами по себе не выполняются.
Долгачева не зажигала света. В райкоме никого не было, и никто не звонил, что на такой-то ферме нет воды. «Все в этом беспокойном мире утихомирилось, – думала Екатерина Алексеевна. – Вода на всех фермах была, и доярки в каждой группе были, и с полей убран в общем-то неплохой урожай».
Однако настроение у Долгачевой тревожное. Ощущение ноши не прошло. Она понимала, что хозяйства подымались медленно, не хватало рабочих рук, денег.
Екатерина Алексеевна решила все-таки зажечь настольную лампу. Лампа осветила ее усталое лицо. Долгачева зажмурилась на миг от яркого света.
А когда она вновь открыла глаза, то увидела, что в дверях стоит Перышкин и в растерянности смотрит на нее, не зная, входить или нет. Она сразу же узнала его, хотя он был одет по-зимнему. На нем был кожаный реглан, короткий и вытертый, какие донашивают бывшие летчики, и добротные валенки.
Перышкин помолодел, посвежел, но это был, несомненно, он – бывший бригадир рыболовецкой бригады.
– Проходите, проходите, – сказала живо Долгачева, поднимаясь ему навстречу.
– Ради бога, простите за позднее вторжение.
– Ничего. Садитесь.
Перышкин молча сел в кресло.
Екатерина Алексеевна какое-то время рассматривала его. Ей не терпелось узнать, что привело к ней Перышкина в такой поздний час. «Или он приходил днем и не застал меня? Выходит, он пострадал зря, – думала Долгачева. – А виновата во всем я. Ничего же не изменилось на Оке. Вновь восстановлена рыболовецкая бригада, и рыбаки, как бывало, по утрам будят всех туренинцев».
Чтобы сгладить замешательство, Долгачева стала расспрашивать Перышкина о том, чем он теперь занимается. Тоскует ли он по бригаде.
Перышкин помялся, стал рассказывать.
– Чем занят? – повторил он. – Да как вам сказать – ничем. Я ведь пенсионер. Воевал. Был летчиком-истребителем. Ранен. У меня уже дети взрослые. Сын пошел по моим стопам. Курсант Борисоглебского военного училища. Пишет: «Весной будут выпускные экзамены, а потом – аттестация на офицера». Дочь кончает десятый класс. Небось тоже в институт метит. Снова – анкета.
– А теперь как, не пьете?
– Случается, но редко. Ведь раньше в бригаде-то оно как было? Поймали – хорошо, обмыть это дело надо. Пустые, мокрые вернулись – с горя выпьем. С радости и с горя.
– Рыбачите? – спросила Екатерина Алексеевна.
– Рыбачу. Я люблю это.
– Что ж вы, без мотора едите или с мотором?
– На Оке нельзя без мотора. На моторе езжу. – И улыбнулся, вспомнив, на каком моторе он ездит. – Вы не поверите, Екатерина Алексеевна, я мотор свой в армейском ранце ношу. У меня «Чайка». Теперь никто на таком моторе не ездит. Все на «Вихрях» да на «Юпитерах» носятся. А я – на «Чайке». Самый тихий мотор. Мне скорость не нужна. Мне спешить некуда. Мою рыбу никто не выловит. Зато едешь – никакого тебе шума. А по мне чем тише, тем лучше.
Когда-то, во время бригадирствования, у Перышкина была лодка со стационарным мотором, который таскал за собой плоскодонки всех рыбаков.
Что это был за мотор такой – Екатерина Алексеевна не знала. Но он так оглушительно трещал, так шумел, что от его трескотни чуть свет, когда рыбаки ехали на свою тоню, просыпались все туренинцы.
Сама Долгачева не раз вздрагивала.
А теперь выходило, чем тише, тем лучше.
Теперь улыбнулась Долгачева. Но тут же погасила свою улыбку. «Как переменился человек, – решила она. – А может, переменился не человек, а время переменилось?»
– Вы очень изменились, – сказала Долгачева. – И внешне помолодели и, как говорится, просветлели взглядом.
– Спасибо, – Перышкин смутился от похвалы, на лице его выступил румянец. – Вы уж извините, Екатерина Алексеевна, что так поздно. Я днем приходил к вам, но вы были на пленуме. Устали небось, вам одной хочется побыть. Да? А тут я заявился со своими болячками.
– Ну что вы. Пожалуйста, говорите, что у вас там.
– Я хочу подать заявление, чтоб с меня сняли взыскание. Как вы на это смотрите? Что мне надо сделать? Поговорить с секретарем парторганизации?
– Вы где на партучете?
– В комбинате бытовых предприятий.
– Понятно. Будете разговаривать со своим секретарем, скажете, что вы у меня были. Вы уже подали заявление?
– Нет.
– Тогда подавайте.
– Хорошо.
Долгачева встала из-за стола, чтобы проводить до двери позднего посетителя.
Перышкин поднялся – мешковатый, не очень высокий ростом, плечистый.
По-военному, как и Тобольцев, пожимая ей руку, стукнул задниками валенок.
17
Вернувшись к столу, Долгачева села, придвинула к себе телефон. Набрала номер сельхозуправления. У не была пометка в календаре, что сегодня уходит в отпуск Подставкин, и надо бы с ним проститься.
На самом же деле Екатерина Алексеевна хотела узнать, там ли Николай Васильевич и когда он собирается домой. Может, она подбросит его, пока еще не отпустила Славку?
Против ожидания ей ответили.
– Да? – отозвался мужской голос.
От растерянности Долгачева не спросила, кто это. А спросила Подставкина; ей хотелось узнать, когда он идет в отпуск, и пожелать ему всего самого хорошего.
– Его нет, – сказал тот же мужской голос и положил трубку.
Екатерина Алексеевна не успела даже спросить, кто это говорит – не Тобольцев ли?
Переждав минуту-другую, Долгачева снова набрала номер.
– Николая Васильевича можно? – спросила она.
– Его нет!
– А кто это говорит? – спросила она.
Но было уже поздно: в управлении снова положили трубку.
Ясно, что с нею не хотят разговаривать – она мешала. Чему мешала? Кому мешала? Любопытство разбирало ее.
Долгачева задумалась. Отвечал ей один и тот че мужской голос. «Уж не сам ли Николай? – подумала она. – А мешала я выпивке».
Екатерина Алексеевна встала, походила по кабинету. Мысль о том, что она обманута, мысль эта не давала ей покоя. Она бьется, думает обо всем, а они нашли время шутить с ней? Ради рюмки Тобольцев может и от себя отречься.
Долгачева вновь подошла к столу, набрала номер телефона. Как только там подняли трубку, не ожидая, что ей ответит мужской голос (она уже не сомневалась, что отвечал Тобольцев), Екатерина Алексеевна спросила:
– А кто это говорит?
– Посторонний!
И снова частые гудки.
Разом все пропало: и усталость, и неопределенность. Была лишь злоба на шутников и желание узнать: кто ж все-таки разговаривал с ней? Кто дурачил ее, как девчонку?
Неизвестность заставляла ее действовать.
Долгачева оделась и сошла вниз.
Ее «газик» одиноко торчал возле райкома. В ожидании Екатерины Алексеевны Славка подремывал.
– В сельхозуправление! – бросила Долгачева, стараясь умерить свое раздражение.
Управление сельского хозяйства находилось в другом конце города, за оврагом. Этот район построен сразу же после войны. Над Окой стояло сотни две домов, ничем не отличимых от подмосковных дач. Долгачева не любила эти ухоженные, с садиками и палисадниками дачи. Но у нее не было выхода – все помещения в центре города были заняты, и ей пришлось управление сельского хозяйства поместить здесь.
Все время, пока ехали, она с трудом сдерживала себя. К черту! Надо все кончать разом. Носится она с этим Тобольцевым, как курица с яйцом. А он – пьет, роняет свое достоинство, бросает тень на нее. У Долгачевой было уже все продумано, что она скажет и как себя поведет. Надо представить степень опьянения Тобольцева, если он даже не узнал ее голоса? Не узнал, хотя она звонила трижды. «Да если бы Николай даже и узнал меня, он не мог бы подумать обо мне, настолько он был пьян».
Мысли у Долгачевой работали быстрее, чем ехал «газик».
«Неужели Подставкин устроил своим сотрудникам отвальную? С завтрашнего дня он в отпуске, уезжает в санаторий. Только когда он успел? После пленума?»
Подставкин занимал отдельный дом возле военкомата. Дом стоял одиноко, в глубине двора, над оврагом. Палисадник, огороженный штакетником, тонул в сугробах. Серебристые ели, тоже припорошенные снегом, чернели кругами мерзлой земли. Во дворе, у самого крыльца, прилажен был флагшток. На высоком столбе надпись: «Флаг трудовой славы». Но флаг на древке не трепыхался, его не было. Проходя мимо, Долгачева поругала себя за то, что давно не смотрела, как величают передовиков.
Екатерина Алексеевна поднялась на крыльцо.
Тут было тихо, уютно. Не мела поземка, не гулял ветер. На белом снегу, на пороше, виднелись следы: кто-то выходил недавно.
«Николай домой ушел!»
В тишине слышно было, что в доме веселье. Раздавались звонкие женские голоса и глухие, мужские.
– Земля – моя радость… – лениво тянул женский голос, повторяя одни и те же слова песни, которые запомнились.
– Земля – моя радость… – отвечал ей мужской голос.
Долгачева открыла дверь. Они были настолько увлечены весельем, что даже не заперли входной двери. А может, поначалу и запирали, но кто-то из них раньше ушел, и тем, кто остался, не до замков было.
Екатерина Алексеевна вошла в коридор.
Дверь направо, ведущая в кабинет Подставкина, была открыта, и оттуда, в коридор, бил яркий свет.
Долгачева и заглянула сюда, на свет.
В углу сидел Подставкин.
Увидев Долгачеву, он изменился в лице. Был такой миг, когда ни Екатерина Алексеевна, ни сотрудники управления не могли справиться с неожиданностью и растерянностью.
– Екатерина Алексеевна, прошу к столу. Отметим мой отпуск, – пришел в себя хозяин.
– Спасибо, мы с вами еще поговорим, после отпуска, – пригрозила она Подставкину. – А теперь скажите, где Николай Васильевич?
– Николай Васильевич? – растерянно повторил Подставкин. – Вышел покурить. А там, в коридоре, разве его нет?
Долгачева обернулась и увидела, что дверь в соседнюю комнату открылась. Екатерина Алексеевна невольно заглянула туда.
Тобольцев – без пиджака, в белой рубашке, которую она сама постирала и выгладила, – сидел на диване возбужденно-красный, со сбитым набок галстуком.
А рядом с ним, на том же диване, сидела молодая женщина, лет тридцати – розовощекая, с волосами, обесцвеченными перекисью водорода.
Долгачева знала женщину. Это была бухгалтер управления. Ворот кофточки не ней был расстегнут и в широком разрезе виднелись полные груди.
Бухгалтерша сидела рядом с Тобольцевым, и не ясно было, чем они занимались. Во всяком случае – не курили.
Женщина заметила взгляд Долгачевой. Она прикрыла груди ладонью и встала.
– Духотища-то какая, – сказала бухгалтерша, подымаясь с дивана.
Она поспешно шмыгнула в дверь. Настолько поспешно, что Долгачева не успела проводить ее взглядом.
– Поедем домой, Коля, – обронила чуть слышно Долгачева.