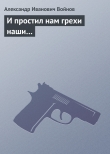Текст книги "Грехи наши тяжкие"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
21
Она хоть и решила так, но сдвинуться с лавки не могла – устала, бегая по жаре. И только сознание того, что сейчас на обед прибежит старик, заставило ее подняться. Прасковья подхватила подойник и понесла его на кухню.
И пока несла, думала, что пастухи плохо пасут стадо: Красавка всегда в полдник давала почти по полному ведерку. А вот уже какой день Прасковья дергает соски, а они – пустые. Надаивает по полподойника и того меньше.
Оставив подойник с молоком в кухне¸ Прасковья вышла на улицу. На столбах старого забора сохли махотки. Она сняла кринки, прожаренные на солнце. Прасковья готова была бежать уже обратно, но ее окликнула Зоя Квашня:
– Прасковья!
– Ой ли!
Прасковья остановилась, постояла у забора, вдыхая приятный запах смородиновых листьев. Ягода была еще зелена, но густа, и листья, разморенные на солнце, терпко пахли.
Из-за густых зарослей смородины и крапивы, успевшей вымахать в рост человека, показалась старуха во всем черном. Прасковья недолюбливала соседку – за сварливый характер, за то, что та сует нос не в свой огород.
Но сейчас, глядя на то, как бойко семенила Оля Квашня, Прасковья подумала, что соседке есть что сказать, и подождала ее.
– Слыхала, Прасковья: нашего-то снимают, – запыхавшись, выпалила Оля Квашня. – Так его и надо.
– Кого снимают? – не поняла Прасковья.
Оля Квашня подошла к самому забору, примяв крапиву. Старуха была сгорбленная, сухонькая: темно-голубая кофта на ней изрядно засалена, а потому казалась черной.
Прасковья с сожалением уставилась на соседку. Она вдруг отошла сердцем, подобрела. Ведь Оля не всегда была Квашней – неопрятной, безразличной к одежде. «Это ведь и мое будущее, – подумала Прасковья. – Надену я на себя какую-нибудь невзрачную одежонку да и буду по хозяйству сновать день-деньской. На ферму бегать не надо, как сейчас бегаю. На люди показываться не будет нужды. Что остается делать? Только и остается слухи разносить по селу, второй Олей Квашней стать».
– Кого снимают-то? – переспросила Прасковья.
– Да Варгина, председателя! Говорят, к следователю его вызывали.
– С другим лучше не будет, – сказала Прасковья.
– Можа, лучше не будет, но и этого барина – по шапке! «У меня есть правление. Заходите, там и поговорим», – передразнила она Тихона Ивановича, сказавшего ей когда-то, чтобы для разговора она заходила в правление. – Над старухой измывается. Не может на улице с ней поговорить.
– Да мы пока что живем в своих избах. Даст бог, и помрем в них. А молодежь наша в таких избах жить не хочет. Вот он, Варгин, и старается им угодить: квартиры новые дает. А нам пора в Морозкин лог.
– Воротила – вот кто он! – не унималась старуха. – Все его проделки небось следователь наружу вывел. Так ему и надо!
– Еще вспоминать будете Варгина, – сказала Прасковья и сделала вид, что очень торопится. – Ой, молоко-то у меня еще не убрано. Побегу! А то небось старик сичас объявится. Тоже – рабочий мне. А обед ему, как порядочному, подай вовремя.
– Супостаты! – воскликнула Оля Кваша.
Прасковья только улыбнулась, не зная, к кому относилось это восклицание.
Она процедила молоко, но относить махотки в погреб не стала, заторопилась с обедом. Прасковья зажгла обе конфорки на газовой плите. На одну поставила разогревать щи, а на другую – сковородку для картошки. Щей было мало, только и хватит на обед.
Прасковья вспомнила, как в войну-то мыкалась с ребятами. В обед, бывало, лишь одну загнетку топили. Вязку соломы сожжешь, а тепла от нее нету. А сейчас – газ. Пусть баллонный, но не кто-нибудь, а Варгин провел. Чисто, уютно, прибежала с фермы – пять минут, и все разогрето.
Кто-то скрипнул дверью.
Прасковья выглянула из кухни: Леша.
– Здравствуй, мать!
– Здравствуй, здравствуй, сынок, – в тон ему ответила Прасковья.
Она была рада приходу сына. Но не показала, что рада. Вид сына – всегда шумного, куда-то спешащего – невольно будоражил Прасковью. Она вспомнила, как он родился, ее единственный, какой был грудным ребенком. Был крикун, каких мало. Только ел и орал. Чего только не делали с ним – и люльку качали, на руки его брали, а он все продолжал свое. «Наверное, потому орал, – решила теперь Прасковья, – что молока у меня мало было. А подкармливать грудного ребенка тогда не умели».
– Садись. Как хорошо, что ты пришел. Вовремя. Я как раз обед разогреваю. Сейчас отец придет, – торопливо говорила Прасковья, и в этой торопливости чувствовалась радость ее.
Леша хоть и похудел малость, но, как показалось матери, возмужал и еще больше стал походить на мужика. «Небось забот-то прибавилось. Ничего, узнает, как без матери родной, у чужих людей, жить. А Зинка, поди, в постели нежится – нет чтоб мужика собрать на работу да накормить».
Прасковья была уверена, что Леша ушел из дому только из-за нее, из-за Зинки, которая не захотела жить в деревне, под одной крышей с Чернавиными. «Леша всегда небось голоден, – думала она, смотря на сына. – Разве он скажет, спроси его об этом. И неужели у него не дрогнет сердце, когда переступает порог родительского дома? Ведь вырос вот в этих стенах».
Леша тем временем снял куртку – модную, под кожу, – знать, Зинке по нраву. Помыл руки и, садясь за стол, схватил кружку, налил в нее молока из махотки, стал жадно пить, дергая кадыком.
– Обожди, сынок. Сейчас щи подам, – сказала Прасковья, с состраданием глядя на сына.
На спине Лешки – черные пятна пота. Сидел в машине спиной к сиденью, вспотел весь. И как они, молодые, любят на себя напяливать всякие полиэтилены. Ведь не кожа, а как есть стекло: холодное, тепло не пропускает. То ли дело, бывало, холщовая рубаха на тебе. Ходишь, только почесываешься.
– Щи, мама. Не хочу. Я забежал на минутку.
– Сейчас отец придет. Расскажи, как живешь? Хозяйка-то не сварлива? Не оговаривает, что не тут ходите да не то делаете?
– Хорошо живем, мам. Суетно только. Завтрак надо сготовить. Машину заправить. Но кто сейчас без суеты живет?
– Оля Квашня говорила, что проштрафился наш хозяин. Судить хотят.
– Треп, – сказал Леша. – Вызывали его, и не раз, как и меня, свидетелем. Это все Косульников намутил воду. Варгин выкрутится. Что он – виноват, что ли?
– Виноват не виноват, – подхватила Прасковья. – Где-то разберутся, а где-то нет. На председателя все шишки валят. Так уж принято у нас.
Прасковья вышла из кухни с миской щей. Поставила ее на угол, где посвободнее. Нарезала хлеба. Леша хоть и отказывался, а пододвинул к себе щи, стал есть.
«Не готовит небось молодка-то, – сокрушалась мать. – Голодный парень».
Леша, хлебавший щи, вдруг отставил миску, положил ложку на край ее, с усмешкой глянул на мать.
– Слушай, мама… – сказал он. – Я вам с отцом дом в Туренино присмотрел. На обмен. Чего вам старость в колхозе коротать? Хватит, свое отработали. Отцу давно можно на пенсию уходить. Ты тоже свое отработала. Будете вдвоем получать сотни две. Хватит вам. Не пойму: зачем вам карусель эта? Красавку держите, овец, теленка. Ни разу ты не пришла с поля без связки. Сено колхозное в мешке воруешь. А-а! Вечером хочешь у телевизора сиди, хочешь – в кино иди. Красота!
– Это кто ж такой, который из города да в нашу канитель задумал опуститься? – спросила Прасковья.
– А Гришка Воскобойников.
– Эвон, нашел с кем меняться, – засмеялась Прасковья. – Да у него, пьянчужки, семь пятниц на неделе. Как выпьет, так меняется. А трезвый, так это того… Хо-хо-хо! Гришка… Насмешил! – И Прасковья рассмеялась до слез.
22
Гришке Воскобойникову под пятьдесят. А такое пренебрежительное имя – Гришка – сохранилось за ним, несмотря на годы.
Когда-то (теперь уж, правда, немногие помнят то время) Гришка был человек человеком – имел жену, детей. И жена его работала, и сам он работал. Был дом и достаток; одним словом, жил, как и все туренинцы живут.
Он работал возчиком в райпотребсоюзе. Отвозил на лошадях пустые ящики. Возил со склада макароны, крупу, сахар. Ну, конечно, и водку. Все привозил, чем торгуют магазины Туренино. Эти магазины, к слову, ютятся в тех же купеческих лабазах, которые спрятаны под арками: наверху – какое-нибудь учреждение, вроде: «Изготовление одеял» или: «Суд», а внизу – магазин. Люки подвалов окованы железом.
Вся водка, которую горожане выпивали за день, привозилась в магазин Гришкой на полке′. Полок был запряжен мерином темно-красной масти. Лошадь паслась ночью возле Туренинки.
Было так: сидит Гришка на полку, увязанном веревкой; длинные ноги его слегка касаются земли. В руках у Гришки кнут, не очень длинный, с тонким, из орешника, кнутовищем. На голове у возчика соломенная шляпа или мохнатый волчий треух – все зависит от времени года.
Вот он подъехал к магазину и: «Тпру!»
Меринок останавливается. Гришка бросает кнут и начинает поспешно распутывать веревку, которой увязаны ящики. Из магазина вышла Аня – заведующая, она же и продавец. В белом халате, с бумагой в руке – накладная.
«Ну, как, Гришка?» – спрашивает.
«Все путем», – отвечает Гриша.
Аня стоит, считает бутылки. А Гриша носит ящики с водкой, с портвейном «Кавказ» и настойкой, пахнущей одеколоном. Носит и ставит ящики в подсобку.
Сосчитав ящики, Аня спешит за прилавок.
Тем временем Гриша грузит ящики с пустыми бутылками: коричневые, малиново-розовые – одним словом, разные. Увяжет он их веревкой, обвязывая полок повнимательнее, и… Вы думаете, что Гришка взял вожжи и понукает своего мерина? «Но-о!» – мол. Ничего подобного. Нагрузив телегу, он идет обратно в подсобку и останавливается перед столом, где лежат накладные.
«Ну, как, Аня?» – говорит Гришка.
«Все в порядке. Спасибо».
«Это, как там…» – лепечет Гришка, глядя на Аню водянистыми глазами.
«Ты чего?» – спрашивает она. Ей некогда: пока она возилась с приемом водки, у прилавка скопилась очередь мужиков – нетерпеливых, горластых.
«Ну, можа, бой какой есть?» – спрашивает Гришка, а сам осматривает стол. Иногда среди бумаг и сумок тут стоят и нестандартные бутылки, принятые продавцом по ошибке.
«Ох, голову ты мне заморочил, Гришка, этим своим боем. Ведь каждый день одно и то же».
«Там, куда нас отнесут, там не дадут», – шутит он.
Аня в сердцах бросает очередь, заглядывает в бытовку, откуда-то достает бутылку портвейна с отбитым горлышком. Выставив на стол разбитую посудину, она уходит, задергивая за собой занавеску.
Аня возвращается к прилавку, а Гришка начинает священнодействовать. Он ставит рядом с бутылкой стакан, накрывает его не очень чистым платком и процеживает вино, чтоб, случаем, в посудине не оказалось стекла. Убедившись в том, что стекла нет, Гришка жадно выпивает стакан. За ним второй…
Довольный, вытирая влажные губы, выходит из подсобки.
«Спасибо, Аня», – бросает он на ходу.
И так, наверное, продолжалось не один год. Бились бутылки не только с портвейном, но и с наливкой, даже с водкой. Гришка процеживал водку и пил. И до того увлекся этим питьем, что стал нарочно бутылки бить – и доказывает Ане, будто разбил случайно. А сам с ящиком чуть на ногах держится. Раза два, а то и больше на Аниных глазах падал, с ношей-то.
Был скандал: в райпотребсоюз его вызывали.
Гриша платил убытки. Но ничего не помогало, он продолжал пить. По причине этой, оттого что был пьян, Гриша часто засыпал на телеге или на складе райпотребсоюза, среди пустых бутылок. Гриша к тому же стал неопрятен. Денег заработанных он домой не приносил. Жена с двумя малышами терпела-терпела да и бросила его. Суд постановил, что жене с детьми принадлежит большая часть дома. Жена отгородилась от Гришки и жила в своей половине, жила трудом да заботами о детях.
А Гришка продолжал пить.
Из райпотребсоюза его скоро уволили. А выпить с самого утра он уже привык. Побегав так, с места на место, Гришка стал определяться пастухом в соседние деревни. Пас он коров и у них в Загорье. Пас два или три лета кряду, и Прасковья хорошо знала его: не раз вот так, как сегодня, суетилась, стараясь ублажить его.
Высокий, с испитым лицом, в телогрейке, прожженной не в одном месте, Гришка поутру выгонял коров в луга (луга тогда еще были) – и мучительно тягостен был для него день. День ожидания вечера, когда он наконец-то снимает с себя мокрую или, наоборот, тяжелую при жаре телогрейку, войдет в избу и увидит на столе бутылку и закуску, и миску горячего борща. Чаще Гришка не мог выдержать день. Не выдержав, он всякими правдами и неправдами находил денег на «портвешок». Если не находил денег, то сцеживал молоко у какой-нибудь коровы и продавал туристам, которые летом ходят по берегу Оки.
Заполучив рубль, он тут же посылал в деревню подпаска.
Выпив, Гришка быстро пьянел. Он ложился где-нибудь в тенечке, подстилал под бок телогрейку; солнце размаривало его, и он засыпал. Случалось, засыпали они оба, и подпасок тоже. Коровы разбредались. Как-то они зашли в овсы, переели, был падеж. Бабы пошумели меж собой да и отказали Гришке.
С тех пор Прасковья и не слыхала ничего о нем – о Гришке-то Воскобойникове.
А он, оказывается, жив-здоров и даже к земле возвращаться надумал.
23
– Вон отец идет. Его и пытай, будет ли меняться, – сказала Прасковья, вставая навстречу мужу.
Вошел Игнат. Он поздоровался с сыном, снял с головы картуз и повесил его. Без картуза он казался еще меньше и старше своих лет. Обширная залысина покрыта сбившейся прядью волос.
– Как она – жизнь-то?
Игнат прошел в чулан, загремел рукомойником.
– Да ничего, – отозвался Леша. – Вот, батя, уговариваю мать, чтобы вы переезжали в город.
– А чего, – вытирая руки полотенцем, Игнат вышел из кухни. – По мне – хоть сейчас.
Присев на коник, Игнат стянул сапоги, размотал портянки и сунул ноги в тапочки.
– Я не шучу, пап, – сказал Леша.
– И я не шучу, – отозвался Игнат. – Поедем, мать? Хоть напоследок поживем горожанами. А то работа и работа. Каждый день – одна ругань.
– С кем это ты не поладил? – спросила Прасковья.
– Известно, с кем ругаемся! С зоотехником вашим. Сейчас заскочила – злая. Куда, говорит, пустую телегу везешь? Это значит, что я мало зеленой массы положил. Больше косить надо. А не спросят, где я ухитряюсь каждый день ее косить.
Помолчали.
– Болтают, снимать хотят нашего председателя, – заговорила Прасковья. – Из-за этих промыслов.
– Без Тихона Ивановича все в хозяйстве прахом пойдет. Тем более уходить на пенсию надо.
Отец сел к столу. Прасковья подала обед и ему. Некоторое время только и слышно было постукивание ложек о края тарелок.
Мужики ели. Леша продолжал хлебать щи, черпая по полной ложке. Прасковья мельком взглянула на сына, снова подумала, что Зинка ленится ухаживать за ним. Сын небось хватает что попало, есть всухомятку. Но мать ничего не сказала – только собрала морщинки возле губ.
Игнат ел не спеша, то и дело дул на ложку. Он не боялся горячего – просто у него было плохо с зубами: своих было мало, а вставленные доктором разжевывали плохо.
– И с кем же ты надумал меняться? – Игнат пристально поглядел на сына.
– С Гришкой Воскобойниковым.
Прасковья вновь засмеялась. Игнат же погасил свою улыбку и, чтобы показать, что принимает Гришку всерьез, сказал:
– А чем он думает заниматься, живя в селе?
– Пастухом хочет проситься.
– Его, может, и не возьмет Варгин, – сказал Игнат.
– Гришка решил бросить пить. – Леша похлебал щи и, пока мать накладывала ему в тарелку жареную картошку со свининой, рассказывал: – Говорит: почему пью? Дом стоит на таком месте. А изба его и вправду у самого винного магазина, – заулыбался Леша. – Говорит, с утра заходят дружки, то один зайдет, то другой. Зовут опохмелиться. А в деревне, говорит, совсем брошу пить. Наймусь коров пасти – весь день на воздухе. Один буду, без подпаска. Гришка почему-то уверен, что и бабы его опять примут.
«Горбатого – могила исправит»? думала Прасковья, чуть заметно ухмыляясь.
Леша не видел этой улыбки матери; он взял из рук ее тарелку с картошкой, помолчал, разглядывая: жирная картошка или не особо? Не особо, есть можно.
– Мало того, – продолжал он. – Гришка надеется, что Варгин не откажет ему. «Писатель» надоел Тихону Ивановичу.
– Как бы не так. – Прасковья засмеялась. – Да Тихон Иванович ни за что не расстанется с дядей Сашей. Он у него как дятел в лесу – санитаром работает. Как где на ферме непорядок, так сигнал ему. А уж луга эти, где можно стадо накормить, никто лучше дяди Саши не знает.
– Возьмет Варгин Гришку или нет, – не наше дело, – заключил Игнат. – Наше дело – надо поглядеть Гришкину половину.
– Если будет такое пожелание, можно и поглядеть, – оживился Леша. – Машина пока под рукой: минутное дело. Хоть сейчас съездим, посмотрим.
Прасковья приумолкла знала, что такие дела только молодежь может решать быстро. А им, старикам, нелегко будет с места сдвинуться. Отказаться ото всего, чем жили. Привычки свои бросить. Разве это легко?
– Вот что, Леша. Мы с отцом подумаем, – сказала лона выходившему из-за стола сыну. – Кто к селу привычен, как мы со стариком, того нелегко с места сдвинуть. Леш! Ты лучше съезди в Туренино. Может, привезешь кусок какой свинины. Пастухи сегодня, а кормить их нечем.
– Пастухи? Охо-хо-хо! – повторил Леша. – Сами и придумали себе эту суету. Неужели не надоело?
Леша взял сумку, деньги, протянутые матерью, чертыхнулся, выходя из дому.
«Надоело», – подумала Прасковья, слушая, как сын завел машину.
24
– Тихон, ты ведь не по делам в правление, а к первому секретарю райкома партии домой идешь, – говорила Егоровна, оглядывая мужа, – Подвяжи хоть галстук.
– Да ладно, старуха. Как-нибудь без галстука обойдусь. Он меня душит.
– Не выдумывай, – и посмотрела на Тихона Ивановича как на озорного ребенка – внимательно и с улыбкой. – Да ты здоров ли? Какой-то вид у тебя, не пойму. Помятое лицо, будто спросонья.
– Я – ничего.
– Тогда брось свои капризы и повяжи галстук. Он тебе идет, – сказала Егоровна. – Мы небось недолго пробудем. Посидим часок, – посмотрим суженого ее да домой. А то я знаю вас, мужиков, выпьете лишнюю рюмку и – але-ля! У Долгачевой много не пей, лучше дома добавишь.
– Ну что ты, старуха. Совсем считаешь меня грудным ребенком? Напутственную речь держишь. На свадьбе да не пить? – прихорашиваясь, сказал Варгин; он подвязал галстук, поправил его. – Теперь душенька твоя довольна?
Тихон Иванович повернулся налево, потом направо, чуточку красуясь перед женой, точь-в-точь, как делал, когда был молод. Егоровна посмотрела на него, сдержанно улыбнулась. Тихон Иванович давно уже был немолод: волосы поседели, лицо стало одутловатое, округлое. Правда, без морщин, но от молодого улыбчивого лица только и остались глаза – темные, чуть-чуть раскосые.
– Довольна, – сказала Егоровна и занялась своим делом.
Она распахнула дверцы шкафа и стала перебирать свои наряды. Долго не могла остановить выбор на чем-либо. Надеть черное вечернее платье? Но она давно не надевала его. С той самой поры, когда Егоровна надевала его в последний раз, она раздалась, располнела, и платье небось будет мало, – решила она. – Это когда женщина каждый день ходит на службу, в присутствие, тогда у нее все наряды под рукой. Не будешь же ходить каждый день в одном и том же.
А когда женщина, хоть та же Егоровна, все дни дома сидит или роется в огороде, то ей и одного халата хватит. Как утром она наденет его, так и ходит до самого обеда.
Утром, еще по-темному, надо мужа проводить. Редкий день, может, летом он без света уходит. А чаще всего зажигает свет, собирается. На тощий желудок его не проводишь: хоть яичницу ту же надо приготовить. А то, глядишь, и картошку пожаришь.
Утром Тихон бреется, одеколоном лицо освежает. Одним словом, фасон наводит. А Егоровна ему про свое: «Яичница на столе. Поешь малость». А сама полотенцем глаза протирает.
И как она накинула халат, так и суетится в нем до той поры, пока не уберется. Фасон-то ей некогда наводить.
Только Тихон Иванович из дому выйдет, надо Наташу, дочку, будить да в школу ее собирать. «Последыша своего», – шутит Егоровна. Дочка-то у них – поздняя, только в седьмом классе учится. Но ростом большая вытянулась. Сейчас дети все большие, а несмышленыши еще совсем. Мать утром, чтобы разбудить дочь, затевает с ней игру: словно она, девочка, – переводная картинка. Егоровна накрывает Наташу с головой, а потом потихоньку гладит ее, приговаривая: «Сейчас сведем картинку. Увидим, что там?» А другой рукой стаскивает одеяло. «У-у, что-то черное, лохматое, – говорит она, а сама освобождает лицо девочки. – Да тут Наташа, наша девочка! – говорит мать. – Вот мы и проснулись! Вставай, дочка!»
Наташа встает, лениво потягиваясь, идет умываться. Пока девочка завтракает, мать заплетает ей косички.
Дочь уходит в школу. Егоровна приводит в порядок дом: убирает посуду, подметает, моет полы. Уже в половине двенадцатого, схватив что-либо, чаще всего доев за мужем яичницу, Егоровна переодевается, берет бидон и бежит в магазин.
У Варгина небольшая семья – всего их трое. Но редкий день Егоровна не бегает за молоком. Конечно, Тихон Иванович – известный в районе человек. У другого мужа, который, как он, несет свою службу тяжелую, председательскую, жена небось сидела б дома, как барыня, на всем готовом. Но Егоровна же все из магазина носит, даже молоко. Агроному, механику, зоотехнику и другим специалистам колхоза Варгин и мясо, и молоко у себя в хозяйстве выписывает. Тихону Ивановичу одно-разъединое слово сказать бы – и Егоровне возили б молоко на дом. Но он не прикажет никому и сам не привезет. Небось каждый день не позабывает – обедать домой едет. А бутылку молока с собой не принесет. Когда она ему сказала однажды о том, чтоб он выписывал молоко, Тихон как закричит на нее: «Не сахарная! Не растаешь, не развалишься от лишнего шага! Молочный магазин рядом – сходишь!»
А не знает он того, какие очереди в том магазине. Особенно летом, когда в Туренино наедут дачники. Ну, молоко хоть девочке нужно. А ведь мясо-то подай ему и зажарь.
Продавцы Егоровну знают и часто оставляют хороший кусок, от чужих глаз подальше под прилавок прячут. Кто-то оставит, а кто-то нет.
Да в молочном магазине простит она полчаса, да в мясном. Сейчас Тихон приедет обедать, а она все бегает. А тут еще Варгин манеру такую взял: один редко является на обед.
Передохнешь лишь, когда он в область уезжает.
А если он в правлении, то у него всегда дела и люди. В обед еще с террасы слышится его бас: «Мать, борщ готов? А то вот мы с товарищем (и он называет фамилию товарища) проголодались. И точно: открывается дверь – Тихон не один, а с гостем. Варгин каждого, кто ему нужен, домой зазывает, хотя и сам страдает от этого. С гостем надо водку пить, ублажать его разными разговорами. От водки у Тихона голова болит. А от пустых разговоров – и того хуже. Были б разговоры стоящие, а то так: как достать запасные части к машине да где раздобыть цементу побольше?
Но за компанию и самому хозяину выпить приходится. А потом Тихон весь вечер головной болью мучается. Страданье одно.
А второе страданье от гостей в том, что Тихон Иванович после обеда любит часок-другой вздремнуть, похрапеть, как он в шутку говорит. А какой же тут храп – при чужом-то человеке? Сиди за столом, ублажай гостя водкой да разговорами.
Варгин – красный от выпитой водки, а больше всего оттого, что загорелый, с самой ранней весны на ветру, все зудит гостю про колхоз.
«Вот беда, – говорит он. – Дойных коров ставить некуда. Не хватает коровников. А какие есть – ветхие. Отсюда и надои низкие».
«Надо переоборудовать старые помещения», – советует гость.
«А как же! Все старые коровники ухвоили, – говорит Варгин. – Но все равно мало. Надумали строить новый комплекс. Начали, стены выложили, а бетонных плит нет. Как у вас: нельзя ли добыть? Хотя бы сотенки две».
И они сидят, толкуют часа три.
А Егоровна все это время на кухне, возле плиты хлопочет. Она знает, что раз у Тихона гость, то надо приготовить что повкуснее да получше.
Ушел Тихон. Надо прибрать после него, посуду помыть.
Дверь за ним захлопнулась – Наташа из школы бежит: встречай, мама! Про школу, про отметки расспрашивай.
И лишь под вечер, надев поверх халата безрукавку, выходит Егоровна в огород – прополоть огурцы, окучить картофель.
Так и кружится она весь день, председательская жена.
Потому-то все ее наряды и висят в шкафу: некогда носить их, наряжаться-то.