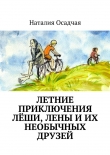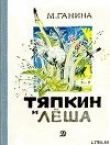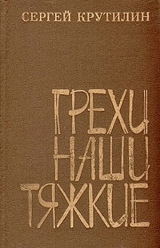
Текст книги "Грехи наши тяжкие"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
5
Тихон Иванович не спеша шел сверху, от кладбища. Он здоровался со старухами, которые, как галки, стайками чернели на снегу. Обсуждали похороны: хорошо ли сказала Долгачева да как голосила Серафимова жена…
Варгин шел расстроенный еще и тем, что ему не удалось поговорить с Екатериной Алексеевной. Он решил пройти не центром, а проулком – мимо дома Долгачевой, в надежде на встречу. Никого!
Возле молочного магазина Варгин неожиданно столкнулся с Прасковьей Чернавиной. Тихон Иванович не сразу узнал ее. Было не так холодно, однако Прасковья повязала на себя клетчатый платок – теплый, много раз стиранный. Старое пальто с вытертым воротником было застегнуто на все пуговицы. В одной руке она несла бидон с молоком, а в другой – хозяйственную сумку с покупками.
– Прасковья? – Варгин остановился.
Прасковья, видимо, спешила в мясной магазин, что за углом. Но, удивленная окриком, остановилась.
– Тихон Иванович…
– Какими судьбами? – спросил Варгин.
Он хотел спросить: «Какими судьбами?», но спросил так, чтобы скрыть свое замешательство неожиданной встречей. А на самом деле Тихон Иванович знал, наслышан был, что Чернавины живут теперь в городе. Еще осенью Варгин встретил как-то Лешу, и тот рассказал ему, что новый круто поворачивает. Стариков, мол, от хозяйства отстранил, на молодежь держит ставку. Думал на машине доить, да что-то никак не наладит ее. Силос теперь не в телеге подвозит, а на самосвале, прямо к кормушкам. Только молоко знай давай!
Старики остались не у дел. Оба вышли на пенсию и живут теперь в городе: переменялись с Гришкой Воскобойниковым. Гришка, мол, проживает в их избе, в избе Чернавиных, а они – в городе, в его половине. Леша и улицу назвал.
– Прасковья Аверьяновна? Вот не ожидал!
– Я тоже не чаяла встретиться. Хоть мы теперь и соседи. Топчем одну и ту ж землю, а не встречались. Егоровну я иногда вижу. Она тоже стоит за молоком. А вот с вами, Тихон Иванович, не встречались ни разу.
– Да-а, – протянул Варгин.
– С похорон?
– С похорон.
– Хороший, говорят, был директор.
– Хороший, – согласился Тихон Иванович, внимательно глядя на Прасковью.
Что ни говори, встреча с ней была встречей с его прошлым, которое он любил, которым он гордился. Это была встреча со своими лучшими годами. Он приходил на ферму, разговаривал с доярками – и среди них была Прасковья Чернавина. Доярки оживлялись при виде председателя. И Прасковья – все в смех да в смех. А уставала, поди! Колхозных коров руками доили.
– Расскажи, Прасковья: как ты в городе живешь? – попросил Варгин.
– Что говорить? Настоящей горожанкой стала. До полуночи телевизор со стариком смотрим. Спим как все грешные спят – вдоволь. В магазин вот сбегаю да опять в телевизор уставлюсь и сижу.
– В молочном была?
– В молочном. Невестке надо. Это ей. Молоко привезли, а творога и сметаны нет.
– Время такое! – вздохнул Тихон Иванович. – Коров с летних пастбищ на зиму поставили. А в коровниках, известно, сыро. И корма другие. Вот они, коровы-то, и сбавили надой.
– Это где как. У нас теперь, в новых коровниках, коровы как царицы: под ногами у них сухо, корма есть.
И она заговорила о самом главном для них: о коровах и надоях. Человек со стороны, посмотрев на них, подумал бы, что сейчас, только разойдутся, побегут к своим красавкам, по которым соскучились. Но такое впечатление было обманчивым. Когда Тихон Иванович осторожно спросил Прасковью, не тоскует ли она по своим комолкам – она только поджала губы.
– Нет, не вспоминаю даже, – сказала Прасковья с нескрываемым раздражением. – Если вспоминаю, то каждый раз с болью. Думаю: господи, спасибо тебе, что хоть на старости лет освободил меня от оков тяжких! Ведь только он один, господь бог, знает, сколько я в этих коров вложила – и в колхозных, и в своих! Ведь не сосчитать всего. Бывало, Игнату скажешь про покос, а он только фыркнет в ответ: «А кто будет колхозное стадо кормить?» все сено на зиму в подоле своем носила. Ни одного раза домой с пустыми руками не приходила: в подоле несешь сор, в мешке – траву. В стойло – бегом! На ферму – бегом! Пастухов повстречай да напои, накорми. Тьфу! А теперь до самой полуночи телевизор смотрим. Никто тебе – ни бригадир, ни завмытыфы – утром в окно не постучит: «Прасковья, выходи сено убирать!» спи хоть до обеда. Да и то – я ради молодежи стараюсь. Мы-то со стариком без молока бы обошлись, да Зинке молока надо. Врач посоветовал: молоко и творог. Она ведь мне внука обещает. Ну вот я и бегом.
– Да-а, позабыл спросить, как поживает ваша молодежь?
Варгин спросил больше из вежливости. У Тихона Ивановича было слишком много своих забот.
Но Прасковья преобразилась. Казалось, она только и ждала этого вопроса.
– Хорошо живут! – заговорила она. – Лешка, может, слыхали, квартиру получил. Двухкомнатную, со всеми удобствами. Большая прихожая и кухня. Светло. Тепло. Уж на что я этих городских квартир не люблю: душно мне в них как-то и все кажется тесно. А к ним приду – так не уходила бы. На работе Лешу очень ценят.
Прасковья хвалила своего сына, будто Тихон Иванович не знал его. Знал, что Леша машину любит. А кто хорошо работает, тому у нас почет и уважение.
Варгин стал прощаться:
– Счастливо тебе, Прасковья Аверьяновна.
– Счастливо.
Она была так увлечена, что не спросила даже, как у него дела со следствием.
Прасковья подумала об этом, но уже поздно – видна была лишь спина Тихона Ивановича. И вся его фигура и спина говорили: «Вот она – жизнь-то какая!»
6
«Вот она – жизнь-то какая! – думал Варгин. – Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. А в городе пока все же лучше, чем в деревне».
Для Варгина разговор с Прасковьей был итогом его жизни. Этот разговор открыл ему истину, о которой он не думал. Тихон Иванович сколачивал группы коров на ферме и зазывал туда доярок. Ему казалось, что он воспитывал любовь к труду. Воспитал навсегда. А оказывается, нет. Оказывается, человеческий труд имеет две стороны: материальную и моральную. Пока у человека оба эти интереса совпадают, до тех пор он мирится со своим положением. Едва нарушается это единство, как он покидает свое любимое место в поисках лучшей жизни.
А Тихон Иванович всю свою жизнь думал только об одном – о материальном благополучии. Думал, остальное придет само собой. А оно не пришло.
Выходит, одного достатка мало людям: удовлетворенности своим трудом нет… выходит, что в погоне за материальной стороной жизни он что-то упустил.
Скрепя сердце Варгин подписывал справки о том, что правление колхоза «Рассвет» отпускает для продолжения образования того или иного парня, девушку. Но вот горожанкой стала не девушка, а доярка, всю жизнь проработавшая на ферме, любящая свой труд и прожившая в деревне всю свою сознательную жизнь. И Варгин чувствовал свою вину перед Прасковьей.
«С какой озлобленностью она говорила о прошлом своем труде! – Тихон Иванович не мог успокоиться и все думал о словах Прасковьи: о коровах, о надоях, о самой жизни. – Да, наверное, Прасковья права: труд доярок на ферме пока что тяжелый. Электрическую дойку ввели недавно. До последнего времени доярка все делала своими руками: задавала корм скоту, доила, убирала. К тому же Прасковья все время имела и свою корову. Корова была опорой семьи – особенно пока были дети».
Для малышей лучше молока – ничего в семье не было.
Теперь же редко кто натуральным молоком поит ребенка, даже молодые матери предпочитают молочные смеси, купленные в городе.
Тем временем в семье появился достаток, и корова стала не нужна.
Значит, Красавку надо заменить колхозной коровой.
И Варгин заменил ее. Он только не догадывался о том, что город так прожорлив. Сколько бы колхоз ни давал молока, его все мало. Тихон Иванович только и слышал: «Мало!»
Варгина хвалили: его колхоз давал молока больше других. Его хвалили, и он старался. Вместо разрозненных старых ферм он построил комплекс: коровники, телятники, кормоцех. Он механизировал дойку. Машины на комплексе делают все: подвозят корм, доят коров, убирают навоз, отвозят молоко. Одна доярка на «Тэндеме» обслуживает коров втрое больше, чем переносным доильным аппаратом.
Прасковья осталась не у дел.
Жить стало нечем. А моральный интерес, о котором Варгин никогда не думал до этого, у Прасковьи утрачен. Да, наверное, Тихон Иванович и переоценил его силу.
И вот Прасковья переехала в город.
Этот процесс закономерен. Надо уже сегодня думать об этом и готовиться к тому, чтобы меньшим трудом производить больше. Надо надаивать от коровы втрое больше, чем надаивала Прасковья вчера; надо брать от земли впятеро больше, чем мы берем от нее.
Тихон Иванович не мог осмыслить закономерность всего. Выходило так, будто Прасковья Чернавина предала его. Потому он так близко и принимал все то, что с нею стало.
И чем больше Варгин думал об этом, тем больше думы эти угнетали его.
Был такой момент, когда Варгин подумал, что напрасно прожил свою жизнь.
7
– Лена, – чуть слышно сказала Долгачева. – Вставай. Пора.
Лена открыла глаза. У нее были такие же светлые ресницы, как у матери.
– Уже пора? Еще темно.
– Половина восьмого, дочка.
Теперь, зимой, когда Долгачевой не надо было так спешить, как летом, Екатерина Алексеевна всегда сама собирала дочь в школу. Они завтракали вместе и вместе выходили из дому – мать шла на работу, а девочка в школу. Иногда – это случалось, правда, редко – к завтраку успевал и Тобольцев, и тогда они сидели на кухне вместе и на душе у Екатерины Алексеевны было спокойно. Хоть вчера вечером Николай Васильевич был навеселе, но сегодня, искупая свои грехи, старался угодить жене во всем.
Да, но это было редко.
Чаще Екатерина Алексеевна выходила из дому вместе с дочерью, а Тобольцев еще отлеживался.
Городок в это зимнее утро только пробуждался.
Бодро поскрипывал снежок под ногами. На улицах – ни души, только тянутся кверху дымки из труб. Иногда по той же тропинке, по которой ходила Долгачева, проскрипят санки. Это какая-нибудь молодая мать спешит на работу, везет ребенка в ясли: ясли – рядом, на углу улицы.
Проскрипят санки с полусонным младенцем, укутанным в отцовский полушубок, и снова тишина. Ни удара молотка по забору, ни стука топорища во дворе, у поленницы.
Тихо – до самого райкома дойди.
– До свиданья, мама! – Лена сворачивает налево, ей – в школу.
– До свиданья, девочка. Я позвоню, когда ты придешь из школы.
– Хорошо! – Лена скрылась.
Долгачева осталась одна.
Одна со своими мыслями.
А мысли Екатерины Алексеевны все о том же – о селе. Все лето студенты ездили из деревни в деревню – раздавали мужикам анкеты. С теми же колхозниками, которые не хотели отвечать, разговаривали, выясняя их отношение к работе. Особенно их интересовала молодежь.
Студенты, как говорили мужики, щупали народ, выспрашивали: доволен ли он своей работой, семьей, домом? Что думает о будущем – останется ли в деревне или мечтает о городе?
Анкет набралось много. Студенты обработали анкеты не где-нибудь, а на вычислительной машине.
Машина жестока.
Машина сказала: село наше стареет!
А где старость, там работа вполсилы; не за горами болезнь и смерть… Молодежи в наших селах осталось мало. Да и тот, кто остался в деревне, мечтает о городе. В ответ на вопрос: «Довольны ли вы своей работой?» – старики в один голос ответили: «Да, довольны!» А у молодых людей свои планы. Более четверти из них уже приняли решение покинуть село, а треть еще колеблется. Мало того: студенты сняли фильм о жизни и быте тружеников села. Долгачева надеялась, что каждому интересно посмотреть кино про себя.
«Не надо сидеть сложа руки! – думала Долгачева. – Надо что-то делать с селом. Если мы будем бездействовать, то недалеко то время, когда наши хозяйства придут в запустение, останутся без рабочей силы. В деревне все будут делать горожане, так называемые шефы. Даже доярок на ферме не останется».
Екатерина Алексеевна решила, что пора с чего-то начинать. Каждое хозяйство района должно иметь план социально-экономического развития. На основе материалов, сделанных студентами, Долгачева подготовила доклад и решила обсудить его на пленуме райкома, чтобы постановление приобрело для каждого силу закона. Екатерина Алексеевна знала, что это определенный итог работы ее в районе, поэтому и волновалась.
Доклад был готов. Оставалось дело за малым: надо было подготовить резолюцию. Екатерина Алексеевна не хотела передоверять ее никому.
Думая об этом, Долгачева, помимо своей воли, убыстряла шаги. И была даже рада, что улицы Туренина пустынны и никто не остановил ее.
Холодно!
Тетя Даша не убирает площадь возле автовокзала. Под елочками нет торговцев, даже Грачихи нет! лишь возле крутого спуска к Оке мелькнула фигура рыбака с коробом за спиной. Рыбак показался Долгачевой знакомым. Он был долговяз, поношенный полушубок едва доходил до колен.
«Уж не Борис ли Прохорович? – подумала Долгачева. – Вот кого я давно не видела!»
Екатерина Алексеевна заспешила, надеясь догнать рыбака, но тот сделал вид, что не заметил Долгачеву, и стал осторожно спускаться по заснеженному откосу.
Екатерина Алексеевна хотела было окликнуть Бориса Прохоровича. Но потом одумалась и не окликнула. Не она ли обидела его? Может, после того, что было, он не хотел видеть ее? Потому и прибавил шагу. Может, нарочно прибавил, чтобы не встречаться с нею…
8
Года три назад старый учитель был у нее.
Секретарша Долгачевой была когда-то ученицей Бориса Прохоровича и замолвила словечко, чтобы Екатерина Алексеевна приняла его. Пожалуйста! У Долгачевой такое правило – принимать всех.
Время было горячее – началась уборка. Екатерина Алексеевна весь день моталась по колхозам и только вечером заскочила к себе, чтобы позвонить в Сельхозтехнику о запасных частях.
И тут-то Борис Прохорович застал ее.
Долгачева ожидала, что старый учитель заговорит о музыкальной школе, где он преподавал. Музыкальная школа ютится в старом купеческом доме, который давно уже требует ремонта. Но Борис Прохорович вдруг заговорил о другом – об Оке.
«Мне больно видеть, как гибнет река, – говорил он. – После войны в Оке еще ловили стерлядь. Теперь радуемся, если поймаем ерша. Рыбы в реке стало совсем мало. Причины тому известны: сброс в Оку промышленных вод, вырубка прибрежных лесов. Возьмем, к примеру, нашу рыболовецкую артель. Есть такая у нас в городе. Считается, что бригада работает на договорных началах с райпотребсоюзом и сдает улов в торговую сеть для улучшения общественного питания. Но поинтересуйтесь: сколько рыбы артель сдала за лето? Теперь другое: бригада ловит рыбу закосом – методом, запрещенным даже в промысловом лове. Стучат цепами и уключинами, улюлюкают. Рыбаки продают лучшую рыбу налево: щуку и судака. Я вам все тут описал. Будет время, почитайте мою тетрадку. Поинтересуйтесь. Любопытно – не будете меня ругать».
Борис Прохорович положил тетрадь на стол.
«Это я еще не все описал. А самое главное», – заметил он.
Слушая старого учителя, Долгачева думала об Оке. Река и то, что связано с ней, – целый мир. И этот мир, к огорчению, мало доступен ей. Она ни разу не была на реке и не интересовалась ею. Есть Ока – ну и очень хорошо. Одно беспокойство от этой реки. Ходят туристы, жгут костры. За Оку никто не спросит. За ферму, за урожай – спрашивают. И она садится в «газик» и уезжает в колхоз.
«Но мы уже занимались рыболовецкой бригадой, – пыталась оправдаться Долгачева. – Освободили старого бригадира и назначили нового. Как его? Перышкина. Он майор запаса».
«Вот майор запаса все и делает!» – сказал Борис Прохорович и ушел.
Екатерина Алексеевна полистала тетрадь, и сердце у нее похолодело. Рядом с нею творились такие дела, о которых она даже не подозревала.
Долгачева решила всерьез заняться Окой.
Начала она с того, что заслушала бригадира рыбаков на бюро. Явился уже немолодой человек, опухший от постоянного перепоя. Першкин держал в руках бумагу, в которой были записаны все требования рыбаков, – и то, что у них нет настоящего, рыбацкого траулера, и о нехватке снастей. Перышкин не обмолвился только об одном: куда сбывалась рыба, которую они вылавливали?
Масла в огонь подлил Ковзиков, который готовил вопрос, проверял работу артели. Он рассказал о закосе – о том, как они варварски уничтожают всю молодь, куда они сбрасывают пойманную рыбу.
Перышкин стал хитрить, не рассказал все честно.
Екатерина Алексеевна не удержалась – резко выступила против бригады.
Бюро под горячую руку решило рыболовецкую бригаду распустить, а Перышкину, как не справившемуся с партийным поручение, объявить строгий выговор.
Рыбаки понуро обходили Долгачеву.
Зато любители рыбной ловли ликовали.
Старый учитель вдохновился. У него появилась надежда: выходит, можно бороться с рыболовецкой бригадой. Борис Прохорович организовал общество любителей рыбной ловли.
Долгачева одобрила его начинания.
О задачах «общества» он твердил на всех собраниях, и любители рыбалки с любовью прозвали Бориса Прохоровича фундатором. Они остолбили на Оке зимовальные ямы, чтоб в них никто, даже удочками, не ловил. Они запустили в Оку малька судака. Сделали в городе лодочную станцию.
Но радость любителей ловли – увы! – продолжалась недолго.
Как-то, может через год, у Екатерины Алексеевны был полон дом гостей, и их надо было чем-то накормить. В этот день, в сумерках, без звонка, заявился майор, военком. Долгачева вышла к нему на террасу. Она не пригласила майора в дом. Да он и не очень навязывался. Майор сунул Екатерине Алексеевне в руки какой-то сверток:
«Это вам подарок от рыбаков».
«От каких рыбаков?»! – не сразу поняла она.
«От тех, которых вы гоняете!»
Руку под козырек – и был таков.
Долгачева развернула сверток. В нем были живые, лениво шевелившиеся судаки и лещи.
Окликнуть бы майора, вернуть бы ему «подарок». Но из комнат слышны были голоса гостей. Гостей надо было чем-то угостить, и лучше всего тем, что можно было отведать лишь в Туренино. Дома ничего такого не было, и Екатерина Алексеевна даже обрадовалась «подарку».
У рыболовецкой бригады нашлись ходатаи и кроме майора. Они стали уверять Долгачеву, что она ничего не добилась, разогнав бригаду. Рыбаки по-прежнему ловят рыбу, но делают это ночью, тайно; без Оки они жить не могут. Рыбу ловили их деды, и бригаду лучше всего восстановить. Появилось и разрешение на закос, правда, со всякими оговорками: сети при этом должны быть без цепей, лодок столько-то.
Но какие могут быть ограничения, когда бумага сверху дадена?
Столбы, поставленные возле зимовальных ям, посбивало льдом в первый же паводок; мальков судака потравили нефтью да мазутом. Видя свою беспомощность, общество любителей рыбной ловли само собой распалось.
Общество распалось, зато рыболовецкая бригада процветает!
Рыбаки в тех же самых зимовальных ямах бьют закос, звенят по дну реки цепями, стучат веслами о борта лодок, спугивают рыбу с гряды, загоняя ее в сети. А потом – под радостные крики, под улюлюканье – выбирают сети, бросают рыбу в лодки.
Вот почему старый учитель хоть и видел Долгачеву, но не имел охоты встречаться с ней.
Вскоре спина Бориса Прохоровича скрылась за косогором, ведущим к Оке. Еще какое-то время его долговязая фигура виднелась вдали, но вскоре слилась с такими же силуэтами рыбаков, сидящих на реке.
9
Долгачева поднялась в кабинет. Она подошла к окну, отдернула штору. Было неяркое серое утро. На Оке виднелись черные точки – это сидели рыбаки, которые удили рыбу со льда. Но Екатерина Алексеевна думала об Оке лишь единый миг. Ее тут же захватили новые заботы.
«Зима!» – сказала Долгачева, пораженная переменами в природе.
Зима в этот год наступила как-то сразу. Выпал снег – много снега. Когда – она не знала. Утром, вечером ли? Долгачева заметила снег только теперь.
По всему берегу Оки, где летом был городской пляж, ровным слоем лежал белый-белый снег. А луг на той, заречной стороне, до самого голубеющего вдали леса, пестрел отавой, ушедшей под снег; чернели голые ракиты, росшие по самому берегу реки. Сгорбившиеся от времени и паводковых вод ракиты, казалось, были ниже, чем летом.
Ока встала – от берега и до берега виден был припорошенный снегом лед. А раз Ока встала, то туренинцы, жизнь которых тесно связана с рекой, считают, что год прожит. Зима самое скучное время. Зиму надо как-то скоротать, пережить.
А там – снова будет весна; полая вода унесет лед, река очистится, и опять будет грачиная карусель, дымки возле реки, когда рыбаки смолят плоскодонки, и будет первый удар весел о воду.
«Все будет так, как оно бывает в Туренино каждый год», – решила Екатерина Алексеевна.
Балконная дверь, которую Долгачева любила раскрывать, была наглухо заклеена бумагой. Неужели опять будет такое счастливое время, когда, подойдя к двери, она распахнет ее и в кабинет, вместе со звуками Оки, ворвутся запахи лугов и воды?
Екатерина Алексеевна прошла к столу, села.
Первая мысль ее была о докладе.
Доклад и все материалы к пленуму были у нее под рукой.
Когда выбиралась свободная минута, вот как теперь, Екатерина Алексеевна раскрывала папку, перечитывала написанное; иногда вычеркивала из доклада два-три слова и продолжала писать.
Теперь доклад на пленуме у нее уже был готов.
Самое подходящее время поговорить о планах. Ни посевной, ни уборочной – никаких тебе кампаний. Животноводческие фермы занесло под самую крышу. Лишь утром, по-темному, прокладывая тропу сквозь снег, спешит на ферму доярка.
Раскрыв папку с докладом, Екатерина Алексеевна задумалась. Когда она в последний раз смотрела написанное? Наверное, дней десять назад. Да и то – она сидела над докладом часа полтора. Замечаний на бюро было мало. Потом позвонил Суховерхов, – что-то ему надо было от нее. Долгачева сорвалась и поехала. С зимовкой скота не все было гладко, и она моталась по району всю последнюю неделю: не до бумаг было.
Теперь Долгачева быстро просмотрела свой доклад. Остановилась на фразе: «Наша деревня стареет. В районе нет ни одного хозяйства, где молодежи было бы больше пяти процентов. На сто рабочих, которые старше шестидесяти лет, приходится лишь пятеро тридцатилетних».
«Но даже стариков становится все меньше и меньше», – подумала Екатерина Алексеевна.
Она решила, что в резолюции надо особо отметить старение деревни.
Долгачевой вспомнилось, как новый директор Березовского совхоза жаловался ей вчера по телефону. «Екатерина Алексеевна! Коровы не доены. Нет доярок на фермах. Что делать?» – спрашивал он.
А Екатерина Алексеевна сама не знает, что с этим делать.
Все время, пока Долгачева секретарствует, – постоянно, днем и ночью, она ощущает физическую тяжесть: село!
Это ощущение ноши не покидало ее ни на миг – даже тогда, когда она была дома. И тогда даже, когда она стояла у плиты, ей звонили, звонили домой – требовали, советовались, просили.
Это ощущение ноши складывалось у нее из повседневной суеты – из объяснений с председателями, из встреч и звонков.
«Неужели всегда будет так?» – спрашивала себя Долгачева.
В конце концов, все упиралось не в материальную сторону, не в механизацию даже, а в нехватку людей. Русская деревня до предела оголена. Не хватает механизаторов. Тракторы есть, трактористов нет.
И Долгачева бросает все и едет в автохозяйство. Она уговаривает начальника автоколонны, чтобы хоть на время уборочной он дал шоферов. Бывших трактористов, ушедших в город.
«Но в городе же не конфетами людей кормят? – в сердцах подумала Екатерина Алексеевна. – Нет, не материальный достаток привлекает молодежь. Теперь и в деревне люди зарабатывают неплохо. Зачастую больше, чем в городе. Но в городе – квартира со всеми удобствами, отоплением и теплой водой. В городе ты отработал свое и свободен. Можешь идти в клуб, в кино, смотреть телевизор».
В а колхозе, – скажем, та же доярка, – она с темна до темна на ферме. В резиновых ботах, в телогрейке; задай коровам корм, подои, протри аппарат, обсуши его.
«Нет, – решила Долгачева. – Труд в наших хозяйствах еще очень тяжел. Надо менять в деревне быт. Надо строить хорошее жилье – лучше, чем в городе. Да и животноводческие фермы должны быть другие – хотя бы как в Успенском совхозе.
Люди не хотят жить в деревне из-за трудностей быта: негде пошить костюм, платье; нет прачечных, чтобы постирать белье.
Бездорожье.
Люди хотят жить не хуже горожан!
Вот в чем главная причина. Вот в чем должно быть содержание ее доклада и резолюции.
Долгачева знала: оттого, насколько она будет искренна, вскрывая недостатки, настолько зависит все – и глубина выступлений, и постановление, принятое пленумом.
Екатерина Алексеевна пододвинула к себе стопку чистой бумаги и на первом листе размашисто написала: «Резолюция».