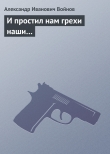Текст книги "Грехи наши тяжкие"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
15
Гужов растерянно оглядел дверь, ведущую в сенцы: кнопки звонка не было. Увесистая щеколда и кольца для замка. «Подойти к окну и постучать?» – подумал он. Вспомнились слова: «Не стесняйтесь, заходите. У нас тут просто». Гужов решил не заглядывать в окно. Поднявшись на крыльцо, он стукнул раз-другой щеколдой, чтоб предупредить хозяйку, и, открыв дверь, вошел в сенцы. Однако в избу он не спешил, надеясь на то, что хозяйка, услышав шум в сенцах, сама откроет дверь. Но дверь избы не открывалась, и, выждав минуту-другую, он пошарил рукой по стене. Нащупав дверную скобу, потянул ее на себя.
– Кто там? – послышался глухой, хрипловатый голос из избы. – Какого лешего скребешься, как мышь? Заходи!
Гужов на какой-то миг пожалел, что он не в форменном костюме. В форме он чувствовал себя увереннее. Зайди теперь в избу при форменном кителе и фуражке – у хозяйки небось язык бы отнялся от растерянности и удивления. А так, в гражданском костюме, кто он? Проезжий. Дачник.
Он открыл дверь и, пригнувшись, чтобы не удариться головой о притолоку, шагнул в избу.
За широким столом, покрытым чистой скатертью – не самотканой, а покупной, с выделкой розовыми кругами, – сидела старуха. Она сидела не на конике и не на скамейке, обычно приставляемых в деревнях к столу, а на стуле с высокой спинкой, обтянутой черным дерматином. Такие стулья Гужов как-то видел в правлении, где ребята резались в домино. Но в избе такие стулья казались громоздкими, неуклюжими. Старуха не возвышалась над высоким столом, даже ее голова не виднелась из-за деревянной спинки.
Оля Квашня обедала, хлебала щи из тарелки с голубым ободком, хлебала дорогой мельхиоровой ложкой. И на столе был порядок: хлеб, перечница, капуста в миске, соленые огурцы, нарезанные кружочками.
– Здравствуй, мать! Хлеб-соль! – сказал Гужов.
Старуха подняла к нему остролицую голову, Валерий Павлович похвалил себя за то, что хоть он и не деревенский житель, а вот нашелся, сказал то, что принято говорить в деревне в таких случаях.
– Здравствуй! – ответила старуха все тем же хрипловатым голосом и не очень учтиво. И снова уткнулась в тарелку, словно перед ней стоял не живой человек, а тень его, человека-то. Наконец старуха покончила с едой, облизала сморщенными губами ложку и, отодвинув тарелку, повернулась к Гужову. Несмотря на возраст и седину, у нее были очень живые глаза – черные, не потускневшие от времени.
– Извините, помешал, – заговорил Гужов, понемногу подавляя в себе первое неудобство. – Бабы вон у колонки сказали, что у вас на лето можно снять дачу. Ну, половину дома, – поправился Гужов.
Старуха вытерла руки передником, подняла над столом сухие руки.
– Какая у меня дача? Грязи у меня, почитай, много. Живу одна. По неделе не убираюсь. Посмеялись над тобой бабы. Антихристы они все, вот что я тебе скажу. Чьи бабы-то?
– Не знаю. Доярками на ферме работают. – Он стал вспоминать, как выглядели. – Одна молодая, курносая, конопатинки по всему лицу. А другая в годах уже.
– А-а, – отозвалась Оля Квашня. На лице обозначилось кто-то вроде улыбки. – Палага небось. Поди, хвалила председателя. У нее сын, Лешка, у Варгина шофером состоит.
– Почему состоит?
– Потому что, когда надо, Варгин и сам баранку крутит лихо – не хуже любого шофера. А как в город съездить ему надо, так он этого Лешку заставляет.
«Вот с кого надо начинать следствие – с шофера! – подумал Гужов. – Этот Лешка, видно, многое знает. Знает, с кем встречался Варгин, какие разговоры при нем вел, хоть с этим же Косульниковым».
Гужов польстил старухе, заметив, что она хорошо выразилась, сказав, что шофер состоит при председателе.
– А у нас все состоят при председателе! – подхватила Оля Квашня. – Никто чтоб сам по себе состоял, как бывало-то в старину. В старые времена степенные были мужики, хушь мой Федор, покойник, – царство ему небесное. Рассудительные, неторопливые. А теперь – разве это мужики? Все спешат, все бегут куда-то. В шинок к одиннадцати бегут. Что сказал, значит, Варгин, то и они талдычат. Как попугаи какие-нибудь. Тьфу!
Гужов обрадовался такому разговору. Разговор о даче как-то само собой отпал. Зато Оля, словно угадывая его скрытые мысли, сразу же заговорила о Варгине – именно о том, ради чего он приехал.
– А бабы хвалили вашего председателя, – сказал он. – Говорили, хозяйственный мужик, обходительный.
– Он-то и хозяйственный, и обходительный, но только вокруг него много жуликов! – Старуха в сердцах отставила пустую тарелку.
– Жуликов? – удивленно переспросил Гужов. «Я был прав», – мелькнула мысль.
– Председатель – ничего. А вокруг него – все жулики. – Оля Квашня прошмыгала носом и испытующе своими живыми глазками смерила Гужова: серьезный человек или щелкопер какой-нибудь? А то ему все расскажешь, а он пойдет к председателю и на ухо тому: так и так. Оля Квашня считает всех жуликами.
У старухи было несимпатичное узкое лицо, все в глубоких морщинках – так трескается земля в сухую ветреную погоду. Седые волосы выбились из-под черного платка, повязанного свободно, в один узел, и потому необъяснимо было, как он не спадал.
Видимо, старая женщина, изучив Гужова, нашла в нем надежного собеседника.
Оля Квашня усадила Гужова на стул, сама придвинулась к нему и, переходя на шепот, словно кто-нибудь мог услышать ее, заговорила быстро, не договаривая слов:
– Все они жулики! Особливо бригадир наш и этот, как его, бухгалтер. Варгин шумит, за версту слыхать, как ругается. А бухгалтер – тот тихоня, а нос у него утиный. А форсу – так и водит своим утиным носом туда-сюда. Я по глазам его вижу: жулик! Все жулики. Премию себе какую-то придумали. Привычку взяли: никто в деревне не живет – все в городе. А в городе-то у них – хоромы – во! – старуха развела руки в стороны. – Я на старости одна осталась – сына и старика в войну убило. Видите, как живу. Попросила комнату в новом доме – там и вода, и газ, – так кому они дали? Агроному дали – такому же выскочке, как и они сами. А мне шиш дали! Только и шастают на черной «Волге» – туды да сюды, туды да сюды. Тьфу! Глаза бы на всех их не глядели. Разъелись, аж а машину не умещаются.
Гужов слушал не перебивая. Он жалел, что не взял с собой микрофона: такое надо было записать. Его беспокоило только, что он не спросил фамилии старухи, хоть для свидетельницы она, пожалуй, стара. Но все же в дальнейшем, опираясь на ее показания, он может прижать кого угодно – и шофера, и того же Варгина.
– Ой, заговорилась я с вами! – всполошилась вдруг старуха. – Мне бежать надо. Небось все наши уже собрались.
– Ничего, – успокаивал ее Гужов. – Вы картошку выбираете? Картошка ваша, право, не убежит.
– Картошка-то не убежит. Но к правлению бежать надоть. Варгин венок будет класть к доске погибших. А на ней небось двое Севрюковых записано: муж и сын.
– Извините! – Гужов уже догадывался, где вписаны фамилии Севрюковых. Полчаса назад, когда он въезжал в село, видел, что возле полуобвалившейся церквушки толпился народ.
Валерию Павловичу и самому хотелось посмотреть на Варгина, который, как сказала старуха, «будет класть венок» к доске погибших односельчан.
16
Тут, на церковной площади, не только братская могила, но и мраморные плиты, на которых высечены имена загорьинцев, не вернувшихся с войны.
Гужов не воевал. Но зато воевал его отец. Гужов-старший всегда, сколько помнит себя Валерий, был военным. Но отцовская служба была именно службой: отец утром уезжал, а вечером возвращался. В большой старой квартире, которую занимали Гужовы, всегда был уют и порядок. На выходной все съезжались на дачу, приезжал и отец, и они всей семьей – с матерью и младшей сестренкой – ходили в лес. И хотя березовые опушки возле их поселка были изрядно исхожены, они всегда находили что-то – грибы или ягоды. Домой возвращались усталые и расслабленные – от ходьбы, жары. Садились за стол обедать. Отец – тучный, не в форме, одетый по-домашнему, сестра, мать и он, Валерий. Иногда за обедом отец вспоминал войну, и не войну даже, а друзей, которых потерял на фронте.
«Если постоит погода, – говорил он, – то в следующее воскресенье поедем е Ельню. Хочется мне посмотреть нашу первую братскую могилу. Там похоронены Кравец Колька, Лукьяненко, Малашкин… Да, полроты моей там лежит!»
Ельня была первым городом, за который отцовская дивизия вступила в бой.
Отец командовал тогда ротой.
Но, насколько помнит Валерий, они так и не бывали в Ельне. Каждый раз что-нибудь да мешало их поездке.
«Неужели и в Ельне над братской могилой, где похоронены боевые товарищи отца, стоит вот такой же гипсовый памятник, как здесь, в Загорье?! – думал теперь Гужов, присматриваясь к толпе, окружившей памятник-надгробье.
Тут, а Загорье, над братской могилой на высоком постаменте стояла аляповатая скульптура: боец с автоматом на груди, бородатый старик с винтовкой, видимо, партизан, и – в центре девушка, поднявшая высоко венок.
Судя по месту, где стоял памятник, могила была отрыта наспех – сразу же после боя. Отрыта бойцами. Сдвинув немца, у которого был тут, на Оке, передний край, они торопились преследовать фашистов, отступавших на запад. Бойцам, измотанным боем, некогда было повольготнее выбрать место для захоронения своих товарищей.
Теперь этот клочок земли, отделенный от суеты земной оградой из невысокого штакетника, оказался стиснутым со всех сторон. С одной стороны высилась полуразвалившаяся, без куполов, церквушка. Ясно по всему, в церквушке была соломорезка. С северной стороны виден был неуклюжий дощатый сарай – колхозные мастерские, потому что тут стояли комбайны и сеялки. А с юга, в трех десятках метров от братской могилы, коровник; судя по ветхости, он стоял здесь и в войну. К коровнику от церкви вела избитая дорога и упиралась в навес, крытый щепой – весы. Все, что ввозилось на ферму и вывозилось с фермы, как и положено у хозяев, взвешивалось.
Гужов остановил машину в тени навеса и, опустив ветровое стекло, не сводил глаз с площади. Отсюда хорошо была видна лужайка, посреди которой возвышался могильный холм. За ним, в метре, фигуры скорбящих. Под скульптурой в фундамент вделана мраморная плита, и на ней, как догадался Гужов, высечены фамилии бойцов и командиров, погибших в бою за освобождение Загорья. Вблизи этого памятника на постаменте, во всю высоту гипсовых фигур, высились еще две мраморные плиты. На этих плитах высечены имена сельчан, не вернувшихся с войны.
Гужов не мог прочесть фамилий. Он только прикинул в уме, что не вернулись с фронта сотни полторы мужиков. Среди них не возвратились и двое Севрюковых; вот она – та самая Оля Квашня, с которой он разговаривал, скорбно стоит возле загородки, в толпе баб. Но если Гужов знал уже, куда торопилась старуха, то появление тут Прасковьи было для него в какой-то степени неожиданностью, и теперь он наблюдал за ней. Прасковья подошла к толпе. В этой же кофте, в которой она была у колонки, в черном платке, как и большинство женщин. Бабы возле штакетника расступились, освобождая ей место. Она протиснулась к ограде и стала, сложив руки на груди.
На площади, возле колхозного правления, было тоже много народу – мужиков и баб. Они стояли полукругом, поодаль от крыльца. У самого крыльца строился, толкаясь, пионерский отряд. Девочки в белых фартуках с цветами в руках, мальчики в белоснежных рубашках, такие же нарядные.
Алели галстуки, трепыхалось на ветру знамя отряда – с новым, белым, древком, которое держал щупленький подросток. А за ним, за знаменосцем, стоял барабанщик – серьезный мальчуган в очках.
Пионеры, видимо, ждали команды.
На площади было шумно и торжественно – так бывает лишь весной, когда каждый звук ярок, сочен, слышен на всю округу. Кричали петухи – на той стороне села, за церковью; каркали грачи, облепившие своими черными гнездами ракиту; перешептывались бабы; толкались в толпе и смеялись дети.
Но вот послышались звонкие слова команды:
– Отряд, смирно!
Пионеры замерли. Бабы, окружавшие штакетник, замолкли. Казалось, даже грачи стали каркать тише.
Из колхозного правления на высокое крыльцо дружно высыпали мужики. Какое-то время они толкались, разбираясь попарно. Но когда разобрались, то стало видно, что мужиков не много – человек десять, не более. Колхозники – все, как один, – были в черных костюмах, при орденах. Спускаясь с крыльца правления, они держались строя, сошли вниз, на землю, и повернулись к пионерской колонне. Гужов увидел, что каждая пара мужиков несла по венку.
Остовы венков были из темных еловых веток, увитых цветами. Цветов почти не видать было из-за красных лоскутов с черными надписями, которые трепыхались на ветру.
17
В машине было душно, и, наверное, надо было выйти на волю, постоять среди баб. Гужов сидел за рулем и смотрел.
Едва мужики с венками встали впереди пионеров, как вся колонна разом повернулась. Четко и дробно застучал барабан, и под его тревожные и короткие удары все двинулись от колхозного правления к братской могиле, огороженной штакетником.
Впереди шел Варгин.
Гужов нисколько не сомневался в том, что этот коренастый мужик – председатель. Так мог идти только первый человек на селе – хозяин. Варгин шагал широко, по-военному чеканя шаг, и эта подтянутость, вернее, собранность, как-то не гармонировала с его несколько мешковатой фигурой.
Рядом с ним – шаг в шаг – шел долговязый майор, видимо, военком.
Валерий Павлович видел Варгина впервые и теперь, присматриваясь к нему, старался понять, где правда о председателе – в словах ли Прасковьи, доярок или в злобном выкрике Ольши Квашни: «Все жулики!»
Гужов ловил себя на мысли, что в каждом человеке он привык видеть потенциального правонарушителя. И сейчас слова старухи были ему ближе, чем разумные речи Прасковьи. Мысленно он уже представлял себе, как через неделю позовет Варгина к себе, покажет ему свое служебное удостоверение и как тот сгорбится.
А пока Варгин шел…
Он шагал свободно, широко. При каждом его шаге позванивали ордена и медали, которыми увешана была грудь. Гужов прикинул, покачал головой: старик всю войну прошел!
За председателем и военкомом не спеша, так же чинно и сосредоточенно, шли пожилые колхозники – седовласые, как Варгин, и тоже при всех наградах. Гужов почему-то решил, что мужики эти, вернувшиеся с войны, механизаторы. Костюмы на их плечах сидели небрежно – не то что на председателе. Им привычнее были замызганные телогрейки и кепки, прикрывавшие от солнца их поредевшие от времени шевелюры. Они осторожно держали в руках венки. Поверх еловых веток трепыхались на ветру муаровые ленты с надписями: «Павшим – от живущих», «Дорогим односельчанам, не вернувшимся с войны».
Поравнявшись с церковной папертью, Варгин свернул вправо – к толпе женщин, стоявших у могильной ограды. Бабы расступились. Кто-то поспешно открыл калитку в ограде, и Варгин, все так же уверенно шагая, подошел к памятнику. Не доходя до могильного холмика, остановился. Остановился и майор, и механизаторы с венками, и пионеры; и на площади стало тесно от людей. Они на какое-то время загородили собой председателя, и Гужов привстал с сидения, чтобы видеть квадратную голову Варгина.
Ветер шевелил его седые волосы. Он приглаживал их ладонью, оглядывал строй. Толкаясь, пионеры и механизаторы становились возле могилы.
Варгин шагнул к памятнику погибшим, повернулся лицом к пионерам, к толпившимся бабам.
– Нас осталось мало! – заговорил он глухим голосом. – Мало нас, кто воевал, кто вынес на своих плечах все тяготы войны…
Ветер порывами теплых волн то доносил его слова, то подхватывал и глушил тут же, и тогда лишь было видно, как Варгин в такт своим словам махал рукой.
– Мало нас осталось, кто не дорожил своей жизнью! – доносилось до Гужова. – Кто лежит вот здесь, в этой могиле, чьи имена высечены на мраморе. Я говорю это вам – молодежь! Ведь вы живете, радуетесь солнцу, любите и трудитесь только потому, что они уже никогда больше не смогут радоваться солнцу, любить и трудиться, – они отдали свои жизни за Родину. Слава им!
Варгин взмахнул рукой: видимо, это был сигнал, ибо пионер дробно застучал палочками, и, постучав ими минуту-другую, он поднял палочки над головой и замер.
Механизаторы и пионеры с цветами разделились на две шеренги. Одна пошла влево, к могильному холмику, а другая вправо – к мраморным плитам. Мужики, наклоняясь, ставили венки к подножью памятника и отходили в сторону. А пионеры укрывали могилу первоцветами, букеты которых были у каждого из них в руках. Вскоре могильный холм словно бы вырос, укрытый голубыми и красными цветами.
А те, кто шел к мраморным плитам с фамилиями односельчан, опускали венки и букеты цветов на землю, на пьедестал.
Делали все без суеты и спешки. Каждый знал свое место: и механизаторы, и военком, а дети. Видимо, каждый из них бывал тут не впервой.
Отдав дань уважения, пионеры и механизаторы отходили в сторону. И как только сомкнулся строй, пионеры вскинули руки над головами, салютуя тем, кто уже никогда не вернется сюда, на землю.
И Гужов, не видавший, как опускают на дно наспех открытой могилы тела солдат, погибших в бою, был потрясен этой молчаливой сценой.
«Неужели и Варгин заодно с Косульниковым? – думал он. – Неужели может быть такое?»
Гужов закрыл окно машины, завел мотор и, не ожидая, пока «Волга» прогреется, потихоньку, чуть слышно шурша колесами, вырулил на дорогу.
18
– Ох-ох-хо… Жизнь наша – грехи наши тяжкие! – Прасковья устало опустилась на лавку. Сдернув со стены рушник, висевший за зеркалом, вытерла влажное от слез лицо.
Рассиживать-то было недосуг: самое время бежать в стойло, доить Красавку.
Но как ни уговаривала себя Прасковья – сил подняться и идти не было. Она продолжала сидеть, чуть слышно всхлипывая. Хорошо, что в избе ни души – ни мужа, ни Леши, – плачь, Прасковья, вволю, никто не видит твоих слез.
Редкий день Прасковья Чернавина не взглядывала на эту мраморную доску, а ничего – терпела. А сегодня вот отвела душу, поплакала. На той плите, которую школьники сегодня засыпали первоцветами, во втором ряду, в самом низу, выбита и фамилия ее Леши – Алексея Герасимовича Сысоева.
Леша был веселым парнем-гармонистом, заводилой всех сельских ребят. Волосы на голове у него курчавились, а руки были ловки и проворны. Бывало, лучше его никто не вершил скирд, и никто с ним не брался с ним тягаться, когда он косил крюком. Прасковье он нравился. Она пела под его гармонь и плясала в кругу, где собиралась молодежь. Потом, как-то так получилось, Леша стал провожать ее домой, и гармошка, на зависть многим девчатам, играла уже не в центре села, а на Выглядовке, где жила Параня.
Вскоре Леша стал ее мужем. Прасковья переехала жить в избу Сысоевых. Она и теперь не может представить, как они жили. У Сысоевых ведь были еще ребята. Зимой в избе и теленок, и ягненок. Помнится только, что каждую ночь, едва в избе успокаивались, они с Лешей шептались. Они мечтали о том, как летом с отцом он прирубит к избе новую половину – и будет у них свой угол.
Но их мечты оборвала война. Леша ушел в военкомат вместе со всеми мужиками. А уже через год, в июле месяце, Прасковья получила бумажку с такими немыми и безответными словами: «Погиб смертью храбрых…»
Прасковья недолюбила – в свои-то двадцать лет. Часто, особенно в молодые годы, тосковала она по Лешиным рукам, по его горячим губам, по его хмельным словам.
«Сколько же лет прошло с их свадьбы?» – думала теперь Прасковья. Она считала годы – один за другим. Их свадьба была на красную горку. Хотя уже в ту пору, перед войной, церковь была закрыта, но праздник этот чтился всеми – и старым, и малым. Народу собралось на свадьбу полсела, ей-богу, не соврать.
Годы туманились, и Прасковья бросила считать, сколько лет прошло с той поры. Она с досадой подумала, что в житейской сутолоке забылось все, зарубцевалась рана. Она все реже и реже вспоминает Лешу. Лишь сегодня – увидела его фамилию на плите, послушала, что говорил про солдат Варгин, чтоб не забывали тех, кто погиб, – разревелась, не удержала слез.
Заплакала она оттого, что забыла своего Лешу.
Прасковья сидела на лавке усталая, потерянная в своих смятенных чувствах. Она вспомнила свою жизнь и никак не могла понять, почему жизнь эта так быстро промелькнула.
Ясно представилось, словно это было вчера, как на исходе третьей военной зимы, когда у баб уже не оставалось дров, из Исканского леса привезли Фросю – жену Игната Чернавина. Фрося поехала в лес за дровами. Бабы взяли лошадь без спросу – норовили вернуться засветло. Они, понятно, спешили.
Фросю придавило березой, которую она второпях пилила.
Игната не было – он тоже воевал. В избе, у гроба Фроси, сколоченного из горбылей дедом Петрованом, отцом Ольги Квашни (тоже ныне покойник), собрались бабы-солдатки. Тихо, приглушенно плакали. Плакали не о самой Фросе; а плакали бабы оттого, что у гроба матери сидело трое малышей, напуганных несчастьем, ребятишек, один другого меньше. Они не знали и не ведали всего горя, которое их ожидало.
После похорон соседи сошлись в избе Чернавиных. На поминках бабы стали судить-рядить, что делать с ребятами. Разобрать их по домам или написать в район, чтобы малышей забрали в детдом?
В сумерках, посудачив, поплакав, бабы засобирались по домам: у каждой были свои ребята, а значит, и свои заботы. Не было ребят лишь у Прасковьи, и она, ничего не сказав старикам Сысоевым, осталась в ту первую ночь с ребятами. Вспомнилось, как она их кормила утром, сварив в чугунке картошку. Как мыла их через неделю, как потом расчесывала голову старшему, Ивану, у которого чуб был совсем не стрижен, и парень походил на девчонку – как те туристы, которые шатаются теперь по берегу Оки.
Еще ей вспомнилось, как пришел Игнат. Он пришел, когда была еще война. Его демобилизовали по ранению.
Прасковья дождалась Игната, сохранила ребят. А как только Игнат вернулся, убежала к старикам Сысоевым и скрывалась от него полгода, а может, и того больше. По вечерам Игнат приходил к Сысоевым – маленький, обросший. Раненой рукой, которая плохо слушалась его, гладил волосы, прихорашивался. Пуговицы на гимнастерке – стиранной-перестиранной – пришиты им самим, пришиты кое-как, неровно.
Игнат засиживался допоздна.
Звать его домой прибегали ребята – неопрятно одетые, запущенные.
У Прасковьи сердце обливалось, когда она глядела на них.
Игнат Чернавин рассказывал про войну, а сам не спускал глаз с Прасковьи, хлопотавшей по дому. Как-то он заговорил с Сысоевым о том, чтобы Прасковья жила с ним. «Проси ее самую. Дело тут такое, полюбовное», – хитрил старый Сысоев.
Прасковья сначала очень испугалась. Но потом, видя заброшенность ребят, согласилась. Прасковья помнит, как она плакала в ту, первую ночь, щупая неровно зарубцевавшуюся рану Игната. Ей почему-то казалось, что и у ее Леши была такая же рана. Но Игнат вот выжил, а Леша – нет. Т она плакала. А Игнат лежал рядом, боясь дотронуться до нее. Думал, что она плачет из-за него, что он уж очень неуклюж и настойчив в этом мужицком деле.
Но недаром говорится, что, мол, поживут люди – слюбятся!
Через год затихла война, и в деревню возвернулись мужики. Их было так мало, что бабы уже по-иному смотрели на нее – не с состраданием, что она на троих детей пошла, а с тайной завистью, что хоть плохонький мужичишка Игнат, но муж у нее есть.
Игнат определился возчиком на ферму: подвезти коровам зеленую подкормку с лугов, пустые бидоны. Это теперь на ферме – и трактор, и самосвал. А в то время Игнатова лошаденка была незаменимым транспортом, и как чуть что – все его кличут: «Игнат, подвези!»
Но не это главное – главное, Игнат всегда был на глазах у Прасковьи. Утром он запрягал на конюшне лошадь. А конюшня была рядом с фермой. Бывало, супонь затянуть надо, а после ранения у него рука не подымалась. Так бабы бегом на помощь.
Прасковья смирилась со своей судьбой – смирилась много лет спустя, когда родила от Игната сына.
Сына своего, с молчаливого согласия мужа, она назвала Алешей, Алексеем…