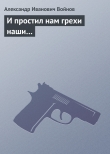Текст книги "Грехи наши тяжкие"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
18
– Здравствуйте! С летом, с новосельем вас, – сказала Долгачева весело, подходя к дояркам.
– Смеетесь, что ль, Екатерина Лексевна? Лето у нас нынче невеселое, – отозвалась за всех Прасковья Чернавина.
– Почему невеселое? – спросила Долгачева, присаживаясь на лавку, сколоченную тут же, под навесом.
– Отнимают у нас пойму! – вступила в разговор Клавка. – Последней нашей надежды лишают.
– Кто лишает? – спросила Екатерина Алексеевна не очень уверенно. Она вспомнила, что еще год назад в облисполкоме был такой разговор – об отчуждении земель. Строители разведали большие запасы гравия и предупреждали, чтобы эти земли не занимались. Но в разговоре колхоз «Рассвет» не упоминался, и Долгачева успокоилась.
– Приехали какие-то начальники. На двух черных «Волгах», – горячилась Клава. – Посмотрели наши луга. Съездили на карьер, взяли с собой начальника карьера – да в райисполком. Они у вас-то не были?
– Может, и были. Но я с утра – в колхозах. Не знаю.
Долгачева знала только одно, что отчуждение этих земель – дело времени и разговором тут не поможешь. И она не хотела успокаивать доярок.
– С ними разговор короток, – снова заговорила Прасковья. – Они уже с картой заявились. Прямо горе какое-то: не дает им Ока покоя. Еще ту землю, у озера, не восстановили, как обещали. А им уже подай новую.
– Городу нужен строительный материал, – сказала молодая доярка с доильным аппаратом на плече. – Дома делают из нашего гравия.
– Так уж на нашем лугу все клином и сошлось? – не унималась Прасковья. – Вон его сколько – камня-то. Одной Лысой горы хватило на десять лет. А они все наши луга снизвести хотят.
– Так и роют и ищут его по всей Оке, – заметила молодка.
– Управы на них нет никакой. Вот в чем дело! Камень рвут. Песок сквозь сито процеживают – все гравий ищут.
Женщины еще поговорили – и все про гравий да камень: как его рвут по всей Оке да куда-то увозят; и так завелись, что уж с этой темы не могли перейти на другую. Выждав, Долгачева заговорила об этом «другом» – о надоях. Она знала, что только этим можно перебить разговоры о камне да о земле: все-таки надои им ближе и понятнее, чем гравий.
– Какие тут надои? – вздохнула Прасковья.
– А Варгин обещал, что на комплексе он догонит по надоям успенцев, – напомнила Долгачева.
– Как бы не так – догонишь успенцев. У них луга сохранились, да и комбикорма они дают от вольного, – поддержала Прасковью Клавка Сусакина.
– С ними нам не тягаться, – вновь заговорила Прасковья Чернавина. – У них деньги зелененькие. В райком делает вид, что не знает, – всех вровень с ними ставит. Наши коровы зиму зимуют – не дождутся, пока луга зазеленеют. А у них – всегда зеленая подкормка.
Прасковья говорила не намеками, как другие, а напрямую. Она знала, что Долгачева – женщина искренняя, к тому же она в карман за словом не полезет. С доярками Екатерина Алексеевна считалась. Каждую неделю она выступала по радио, хвалила одних, корила других. Чего только не устраивала – и слеты передовиков, и собрания молодых, старых, отстающих… Доярки знали, что она к их словам неравнодушна. И теперь выжидали, что ответит Долгачева.
«В их словах есть доля правды, – думала Екатерина Алексеевна. Но лишь доля. Конечно, успенцы имеют комбикорма. Но кто мешает их колхозу иметь столько же, скажем, травяной муки? Все в организации дела. Летом в «Рассвете» не меньше травы, чем во всех хозяйствах».
Екатерине Алексеевне уже не терпелось ввязаться в спор. Доярки знали ее характер и хотели подзадорить Долгачеву.
Она бы не утерпела – сказала им. Но в это время Прасковья, вытирая руки о передник, сказала примиряюще:
– Сам катит!
Доярки разом оглянулись, поглядели на взгорок, где пылила машина, и скорей разбирать доильные аппараты, которые висели под навесом. Не спеша расходились – то ли побаивались председателя, то ли в самом деле пришло время доить. Наблюдая за тем, как оживились доярки, Долгачева улыбнулась: в колхозе Варгина уважали. Уж очень быстро все доярки разошлись по местам.
Последней уходила Прасковья Чернавина. Она делала все неторопливо, основательно: взяла полотенце, ведро с теплой водой и не спешила следом за всеми, словно ждала чего-то.
– Екатерина Алексеевна, – сказала Прасковья. – Вы не уезжайте, не сказавши нам слова. Попьем чайку с вами, погутарим.
– Устанете небось. Домой скорей бежать надо. Старика кормить. В стойло сходить.
– Ничего. Дома-то мы всегда будем. А вас видим, как ясное солнышко, раз в месяц.
Сказала – и пошла к своей группе.
«А может, это не Варгин вовсе едет? – присматриваясь к машине, думала Екатерина Алексеевна. – Может, это комиссия из райисполкома возвращается?»
Однако через минуту-другую стало ясно, что это спешил Тихон Иванович. Машина свернула к летнему стойбищу. «Волга», на которой ездил Варгин, была одна такая на весь район – черная. Но она только с виду была новая, а на самом деле – мятая-перемятая. Живого места у нее не осталось. Из кювета придорожного ее трактор вытаскивал, зимой с ходу ее заводили… Тихон Иванович ездил на ней каждой полевой дорогой, между хлебами. Ничего не поделаешь: председателю за день во многих местах надо побывать и всюду успеть. А «газика» у него нет. Да Варгин не очень и добивался его. Так как он считал, что это непорядок – трястись на «газике» он хотел ездить с комфортом. Или он не заслужил этого? Или не его трудом держится хозяйство? Он не говорил об этом прямо, а по повадкам и по выражению его лица можно было догадаться о его мыслях.
Наверное, Варгин знал, что застанет тут Долгачеву – потому и спешил.
Машина остановилась возле загонки. Хлопнув дверцей, из «Волги» вышел Тихон Иванович – плотный, в старомодном костюме, шитом небось лет десять назад. Оглядевшись, он надел шляпу и споро пошагал по луговине.
Доярки разошлись. Стоя в тени, под навесом, Долгачева наблюдала за приближающимся Варгиным. Обветренное скуластое лицо его было сосредоточено. В этом лице появилось какое-то новое выражение, которого раньше Долгачева не замечала, – не то озлобленности, не то ожесточения. Екатерина Алексеевна удивилась этому выражению: как можно переживать из-за клочка луга? Долгачева решила ободрить Варгина. Не дожидаясь его приветствия, она сама шагнула навстречу из-под навеса и крикнула нарочито бодро:
– Тихон Иванович, расправьте морщинки. Не надо так переживать. – Екатерина Алексеевна первой протянула ему руку.
– Ну как же не переживать? – заговорил он раздраженно. – Только размечтался: через месяц поставлю коров в новые фермы. Пастбища – рядом. Да какие! Поливные! Залюбуешься. Молоком всю округу залью! – Он помолчал. – И вот тебе – залил.
– Ничего. Главное, коровы будут стоять в тепле. А с кормами как-нибудь обойдется. Карьер же потом вернет вам эти земли.
– Вернет-то вернет. Да в каком виде? Он берет у нас луга. Вы знаете Широково? Озеро. Капусты – на всю округу бывало. А теперь что? Яма! Гравий они взяли, а яму так и не засыпали, бросили. А по договору они обязаны были рекультивировать землю.
– Мы их заставим. Это наша обязанность.
– Заставишь их, – ворчливо согласился Тихон Иванович. – Они и вас не больно боятся. У них тоже план: давай гравий. А на восстановление земли денег не отпускают.
Пыл и злость Тихона Ивановича прошли, и он сразу же как-то смяк, даже солидности в нем поубавилось. Варгин осмотрелся – нет ли кого поблизости – и заговорил тише:
– Я вас, Екатерина Алексеевна, разыскивал. Сказали в райкоме, что вы поехали к Юртайкиной. Я туда ездил. Надежда Михайловна объяснила, где вас найти. – Тихон Иванович отмахнулся: – Черт с ним, с лугом! Сами разберемся. Тут дела поважнее есть. Меня снова таскали туда!
– Куда? – переспросила Долгачева.
– К следователю.
– Я думаю, ничего страшного.
– В том-то и дело. Я понял так, что следователя интересуют мои отношения с Косульниковым. Но я так понял, что они уже все знают.
– Что за чепуха! – возмутилась Долгачева. – Вы – член бюро райкома. Им положено сначала спросить о вас секретаря райкома. А не вашего личного шофера.
– Я тоже так думаю, – согласился Варгин. – Но на всякий случай поговорите в обкоме. Они ведь все знают. Батя, во всяком случае, знает. Я вас очень прошу! При случае узнайте, насколько это серьезно.
– Хорошо. Обещаю. Приходите в субботу вечером. Лучше – с женой к тому времени я что-либо узнаю и скажу вам.
– Почему с женой? Что – у вас торжество?
– Да. Я вышла замуж, дорогой Тихон Иванович. Потом… эта статья. Вы ее уже знаете. В ней есть хорошие слова о вас. Возьмите, еще почитайте.
– Поздравляю.
– Рано еще поздравлять.
– Не знаю, что скажут в обкоме. А по-моему, статья правильная. Комар носа не подточит.
– Там есть раздел о земле. О том, что бедные земли надо возвращать в их естественное состояние, залужать.
– Мысль дельная, – уклончиво сказал Варгин.
– Ну вот, и вы говорите, что мысль дельная. А Батя на эту мысль может посмотреть по-иному.
Варгин считал, что настало время, чтобы переменить разговор.
– Вас до комплекса на машине подбросить? – спросил он.
– Нет, спасибо. Я обещала доярками попить с ними чая. Оставайтесь с нами.
– Не могу – дела. Привезли новую доильную установку. Монтажники просят совета.
– Тогда поезжайте.
– Всего доброго.
19
Так уж заведено: чаевничали они в красном уголке летнего лагеря. В комнате, куда доярки провели Долгачеву, был стол – громоздкий, под стать хозяину. С одной стороны его, по-деревенски, была поделана широкая лавка, а с другой по мере надобности приставляли скамьи.
На этот раз народу собралось много. Пришли доярки, бригадир, учетчица, которая и заведовала чаевым хозяйством.
В комнате – отметила Долгачева – было чисто. От входа до самого дальнего угла, где на тумбочке стоял телевизор, – постланы половики. Между окнами, выходившими к Оке, висела доска показателей, испещренная цифрами надоев.
Екатерина Алексеевна остановилась возле доски, разглядывая ее.
– Бабы, чай стынет! – позвала к столу учетчица – молодая, шустрая, из тех женщин, которые любят хозяйничать.
Доярки не спешили к столу, прихорашивались. В новом коровнике небось душ будет. А сейчас здесь, в летнем лагере, зеркала нет: поглядеться не во что.
Долгачева поняла, что доярки ее ожидают, не хотят вперед секретаря садиться за стол. Перестала разглядывать показатели (она их и без того знала) и подошла к столу.
– Екатерина Алексеевна, вы у нас не чаевничали?
– Нет, не приходилось.
– Тогда мы вам нальем чайку покрепче. Тихон Иванович любит крепкую заварку. Голова, говорит, светлеет.
– Давайте покрепче.
Признаться, Екатерина Алексеевна была удивлена, что Варгин сохранил обычай чаевничать и на летнем пастбище. Когда Долгачева предложила завести чаепитие на фермах, то она имела в виду зиму. Но и этому чаепитию Тихон Иванович сопротивлялся. «Есть время у них чаевничать? – говорил он. – У каждой дом рядом. А там ребята да ягнята. Хозяйство, одним словом».
А дояркам чаепитие очень понравилось. И Варгин вот и на летнем пастбище поставил для красного уголка домик и чай в нем завел, как на зимней ферме.
Долгачева не знала кое-кого из доярок. Вернее, в лицо-то каждую знала: на всяких совещаниях и слетах видела. Но старых доярок, вроде Прасковьи Чернавиной, Екатерина Алексеевна величала по имени-отчеству и теперь чаще, чем к другим, обращалась к ней.
– Прасковья Аверьяновна, – спросила Долгачева Чернавину, которая раскладывала варенье в розетки и подавала их всем по очереди. – Откуда у вас варенье?
– Из дома принесли.
Прасковья стала пробовать варенье ложечкой, словно проверяя, насколько сладко оно.
Выждав, сколько требовало приличие, Долгачева тоже стала подцеплять ложечкой варенье и маленькими глотками отпивать чай.
Чай и вправду был хорош – крепкий, душистый.
Какое-то время все молчали, пригубливали чай и стучали ложечками по краям розеток.
«Чаепития эти потому и прижились, – думала Долгачева. – Пить чай – это бабье занятие. Мужикам теперь подай питье покрепче». Екатерина Алексеевна заулыбалась, пряча от доярок улыбку: «Еще подумают, что смеюсь без причины».
А улыбалась Долгачева совсем по другому случаю. Как-то два года назад, когда колготились с этим чаепитием, приехала она в Березовку.
Серафим Ловцов оказался в конторе. Приехали они на ферму. Коровник – на окраине села. Крыша подновлена, поблескивает серым шифером. Но не крыша интересовала Долгачеву: она попросила его проводить в красный уголок. Серафим знал, что Екатерина Алексеевна сейчас про чай будет спрашивать. А чаепитие у него уже было заведено. Пока шли, Серафим рассказывал, как он покупал самовар, посуду, как доярки полюбили эти вечерние чаепития.
Заходят, значит, они в красный уголок. А там, вместо доярок, за чайным столом сидят двое мужиков – в телогрейках, в шапках – и заскорузлыми руками пью из фарфоровых чашек портвейн. Ловцов как рявкнет на них: «Убирайтесь вон!» они схватили недопитую бутылку да на улицу: «Извините, замерзли!»
Долгачевой смешно, а Ловцов возмущается: «Я их проучу, как пить».
«Что ни делай, а мужики быстро все обернут в питейное заведение», – подумала она.
Ее воспоминания перебила Клава Сусакина.
– В новом комплексе будет хорошее помещение для красного уголка, – сказала она. – Вот там мы попьем чаю.
– Хорошее будет помещение, только чаевничать будет некому, – в тон ей заметила Прасковья Чернавина.
– Это почему же некому?
– Как почему? Очень просто: теперь нас дюжина доярок с трудом со стадом управляется. А на новой ферме с этим же стадом будут управляться шестеро. Сменная работа, как на фабрике. Варгин сказал, что пошлет учиться на «Тэндем» только молодых. Ну а нас, старух, на пенсию.
– А разве плохо – заслуженный отдых? – сказала Клава и вздохнула. Но вздох ее был не сочувствующий, а лукавый.
Доярки помолчали, прикидывая, кого пошлют, а кого – нет.
– Надоело не надоело, а привыкли. На пенсию уходить не хочется, – призналась Прасковья. – В бабки, внуков качать, рано еще.
– Разве у вас уже есть внуки? – улыбнулась Екатерина Алексеевна. Прасковья выглядела молодо.
– И-и!.. – запела Светлана Хитрова – и даже чашку отставила. – У нее уже пять внуков. Последнего, Лешку – сына, она уже женила.
– Женщине что дети, что внуки – одна цена, – вступила в разговор доярка, сидевшая напротив Долгачевой. – Подбросят тебе: ничего, мол, бабка выкормит.
– Что же поделаешь? – Прасковья тоже отставила чашку. – Своих выкормили и их выкормим.
И разговор у них пошел о детях и внуках: кто да как растил детей; кто помоложе, вроде Клавки, они о своем – про наряды; пожилые стали обсуждать теперешнюю молодежь, – что сыновья и дочери родились иждивенцами, лишь кривляются перед зеркалом да ходят на танцы. А вырастут – улетают в город.
Долгачева молчала: ей нечего было сказать про свою девочку. Лена росла без матери, сама по себе: ходила в школу, обедала, делала уроки – и все одна. А мать приезжала поздно, усталая, погруженная в свои заботы, и эти заботы пугали девочку. Она старалась не приставать к ней, не беспокоить ее своими просьбами. Даже в те немногие минуты, когда они оставались вдвоем.
Екатерина Алексеевна лишь переводила взгляд с одной доярки на другую и думала, что в их детях, в их отношении к родительскому труду и закладывается наше будущее. И как раз об этом, о детях, о своем будущем, мы никогда не говорим.
Слушая доярок, Долгачева решила, что в докладе на пленуме райкома надо как можно больше сказать о детях: о том, что в старое время дети доставались труднее, чем теперь. Но воспитывать их было проще: с самой весны и до поздней осени бегали они босые. Кроме горбушки черного хлеба ничего не видали. И были довольны. А теперь каждому подай белый хлеб, транзистор, мотороллер, то да се – угоди.
– Хватит, бабы, языки чесать! – оборвала разговор Клавдия Сусакина. – Не надо нашу молодежь ругать. Все равно она умнее нас с вами. Лучше расскажите, Екатерина Алексеевна, как другие люди живут. Правда ли вон в Успенском совхозе в каждом доме газ, теплая вода, душ. В два этажа живут, как в городе?
– Правда, – подтвердила Долгачева. – Но живут не так, как в городе, а хорошо живут. Квартиры там хорошие, в двух уровнях; внизу – столовая, кухня, ванная, а наверху – спальня и кабинет.
– Так уж и кабинет, – подхватила Прасковья Чернавина. – А кто там сидит? Дед Кирьян, что ли?
– Хоть и дед Кирьян, – Долгачева не знала старика, поэтому улыбаться Прасковьиной шутке было нечего. – Скоро и вы так будете жить.
– У-у, хватила, Екатерина Алексеевна. Скоро нас в Морозкин лог отнесут. И все.
Незаметно разговор о детях перешел на более важное – на положение дел в хозяйстве, вообще в мире. Долгачева рассказывала, а сама незаметно поглядывала на часы. «Батюшки! Уже скоро полдень, а они все чаевничают».
Уже давно опустели загонки – коров выгнали в луга, на пойму. Еще час-другой – дояркам снова бежать сюда, в летний лагерь, а они засиделись с ней. Доярки слушали ее рассказы да вздыхали: живут же где-то люди.
– И вы будете жить так же, – говорила Екатерина Алексеевна. – Доить будете на «Тэндеме». Молоко само будет идти по молокопроводу. Молока будет много. Кормить коров будете комбикормами да травяной мукой.
– Дожить бы до такого времени, – вздыхали доярки.
– Не засиделись ли мы? – Долгачева поднялась.
– Ну что вы, Екатерина Алексеевна, – запротестовала Клава. – С вами поговорить нам интересно.
– Спасибо.
– Приезжайте к нам почаще. В следующий раз мы вас смородинным вареньем угостим.
20
Прасковья только что вернулась из стойла.
Каждый день как заводная, после того как она управится на ферме со своей группой, бежит в стойло доить Красавку.
Лугов в Загорье почти не осталось. Луга были по Оке, и хорошие луга. Но Варгина, знать, так поприжали, что он вынужден был уступить их под карьер да под базу отдыха. «Мода такая пошла на эти «базы». Тьфу!» – подумала Прасковья. Все лучшие места по Оке огорожены бетонными заборами. Внизу, на берегу, – дома, выше – столовые, а в березовых перелесках на крутояре, отдельно от «базы», – дача чья-нибудь. За заборами ходят полнотелые мужики в плавках, купаются в реке, загорают. А по Оке плавают их катера на подводных крыльях.
Когда уговаривали Варгина отдать им хоть тот же Погремок, то обещали каравай до самого неба: построить хорошие дороги во всем районе, помочь достать плиты на комплекс. А как «базу» отстроили, то ищи-свищи, – того, кто обещал, уже нет. На пенсии он, на своей даче поживает да на быстроходном катере по Оке разъезжает. А о дорогах пусть другие думают.
Луга кое-какие Варгин для общественного стада держит и сейчас. И зеленая подкормка есть. И заслуга в этом, может, не столько Тихона Ивановича, сколько пастуха колхозного – Александра Павловича Крашенникова, или, по-уличному, – «писателя».
На всех других фермах пастухи как пастухи: стерегут стадо, а есть надои у коров или нет – им какое до этого дело? Пастухам хоть трава совсем не расти. А дядя Саша, как его любовно зовут доярки, беспокоится. Каждый он овражек знает, пригонит стадо на ферму, первым делом в кормушку нос сует: чем кормят коров? Если корм не по рациону, заметку в районную газету: так и так, мол, под угрозой срыва обязательства по надою в «Рассвете».
Варгина в район зовут и нахлобучку ему.
В хозяйстве сложилось двоевластие: Тихон Иванович и дядя Саша. «У Варгина – печать круглая, а у дяди Саши – совесть чистая», – шутят бабы.
Тихон Иванович на черной «Волге» разъезжает, пылит вдоль улиц, а пастух председателю ни в чем уступать не хочет. На работе, когда дядя Саша сторожит стадо, он в брезентовом плаще, сапоги у него на ногах или что там положено по сезону, шляпа с широкими полями. Высокий, нескладный, лицо у него на солнышке задубело. Идет он впереди стада – и все пять метров, считай, тащится за ним плеть с волосяным наконечником. Рожок медный у него сбоку на тесемке болтается. Когда есть настроение, дядя Саша играет на рожке. Ходит он по оврагам с парой собак, да таких умных, что о них, о собаках-то, отдельно бы рассказать след.
Значит, на работе, в поле, когда дядя Саша пастушьим делом занят, он придерживается старины. А когда, скажем, заметку написал или там ему по другому делу в район надо, тогда он заводит свой старенький «Москвич» и едет. За рулем дядя Саша сидит важный такой, с орденской планкой на груди: он воевал, и наград у него не менее, чем у самого Варгина, который, по преданиям, тридцать фашистов убил. Важный такой сидит, знай попыхивает своей трубкой, – значит, хорошее у него настроение. Пастух всегда, когда у него хорошее настроение, курит трубку. Трубка у него (с войны он привез) модная, из дерева, с бронзой. Сидит – ну не пастух, а как ни на есть писатель какой-нибудь.
У Прасковьи о колхозном стаде голова не болит: вдвоем – Варгин и дядя Саша – колхозных коров худо-бедно прокормят. А свою Красавку хоть со двора своди. Еще года три назад и стадо сельское было больше теперешнего, пасли коров по Погремку. Иной раз ручей пересыхал, и все лето, бывало, по склонам оврага зеленела трава. У Погремка всегда и стойло устраивали: тут близко от села, за огородами.
Но Варгин ведь какой мужик? Он норовит от всего выгоду для хозяйства иметь. Он взял да и запрудил Погремок. А бедным коровам совсем стало некуда податься. Кое-кто из баб так делает: в стадо коров не гоняет, а день-деньской на привязи держит. Где-нибудь на валу, возле кладбища, кол забивают в землю, за веревку корову привязывают. И пасется, бедняга, весь день на веревке, которая подлиннее.
«Нет уж: корову под подолом своим не удержишь», – говорила Прасковья бабам. И вправду: она все делала для своей Красотки, как в старину – и в стадо гоняла, и доить ходила в стойло. Правда, далеко было ходить, за село, но не ходить, а бегать, слава богу, она привычна.
Хуже другое – извели хозяек пастухи.
Пастухов ведь и позвать, и накормить надо.
Пастух у стада не один, а с подпаском. Выходит, пастухов двое: дед лет семидесяти из соседнего села, из Байкова, по прозвищу Шуруп, – долговязый, с разболтанной походкой, и подпасок – этот свой, загорьинский. Чахлый какой-то парень: уже за тридцать, а он неженатый, и мать, у которой он старший, одна семью тянет, – муж пьяный под машину попал.
Пастухи берут по четвертному с коровы: как месяц, так выложи им четвертную! И все им мало – ходят они в телогрейках и не на машине ездят, как дядя Саша, а пешком – с палкой, без рожка. Хоть в телогрейках без рожка по улице ходят, а корчат из себя баринов. Обед им подай обязательно со щами и со вторым. Если не угодишь им, они тебя на все село обесславят: и такая ты, и сякая – скупая да нечистоплотная.
Ходят пастухи по очереди, у кого корова определена в стадо. Прасковья норовила угодить пастухам, хотя из-за жадности и нерадивости своей они ей были мало симпатичны.
Но угождать пастухам год от года становится все трудней и трудней. Бывало, в стадо гоняли коров тридцать пять. Значит, пастухи приходили в месяц раз. А теперь коров в стаде осталось мало. И пастухи являются каждую неделю.
Не успеешь оглянуться – опять пастухи!
– Тьфу! – Прасковья устало опускалась на лавку: сегодня вечером к ней опять придут пастухи.
Придут, едва пригонят стадо. Прасковья еще не успеет с Красавкой управиться, а они уже топают в сенцах. «И что это за пастухи такие? – думала она в сердцах. – Глаза бы на них не глядели! Ни рожка у них медного, ни плети – так себе, один куцый кнутишко». А зачем им иметь рожок? Небось десяток коров, которые от былого стада остались, и кнутом одним устеречь можно. Подпасок, правда, собаку имеет. Но собака по избам не ходит, ходит только ее хозяин.
Главное для мужика – суп. Они небось пустые щи хлебать не станут – им мяса подай. Старик сейчас обедать придет – тоже надо накормить его. Курице, что ль, голову отрубить? Хоть этой, рябой. Она, правда, жирная, как баран, и все квокает, не несется. Лапшу им куриную сварю, глотку заткну», – решила она.
Прасковья сидела на лавке, опустив руки, и впервые за долгие годы думала о том, как прожила жизнь. Плохо прожила – вот и все, что можно сказать про ее жизнь.
«И чего ради я мучаюсь, отдыха, покоя не вижу? Ради кого и ради чего она старается? Бывало, принесешь подойник, скорее процеживать молоко. Кринку, а то и две уберешь в погреб, а большую часть надоя оставишь: сейчас Лешка прибежит обедать, он любит молоко. Старику кружку, вместо компота, поставишь махотки – незаметно опорожнят».
А теперь чего ей спешить, суетиться? Полон погреб стоит этих самых махоток. Правда, иногда она продаст посудину-другую туристам, когда они в дверь постучат. В колхоз отдавать – тоже нужно время. Так и киснут махотки.
«Надо творог откинуть» – решила Прасковья.