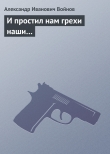Текст книги "Грехи наши тяжкие"
Автор книги: Сергей Крутилин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
13
В середине сентября бывают дни, когда на короткое время как бы возвращается лето.
В народе зовут это время бабьим летом.
Днем от зноя спасу нет. Пригрелись, исходят теплом избы, лабазы, сенники. Разморенные теплом, в пыли придорожных кюветов купаются куры.
Уж месяц, а то и белее не было дождика. В полночь, как летом, неярко сияют дальние всполохи, освещая темную краюху неба.
Бабье лето – самое время для рыбалки.
Туренинцы знают это. И пусть еще не выкопана картошка, пусть не наготовлено еще дров на зиму, настоящий рыбак спешит на Оку.
Спешит и Хованцев. Он знает, что в это время берет судак, что жор его очень короток.
Как истинный рыбак, Хованцев встает с рассветом. Жена – диспетчер автохозяйства – на смене, сын – в армии, и он один. Хованцев выпивает стакан простокваши, приготовленной с вечера, и спешит в сарай. Еще темно. Ощупью, по привычке, он берет сумку, с которой пошел всю войну. В сумке – баночка с запасными крючками и кукан. Он берет также спиннинг, черпак – деревянный, долбленный и, как все его снасти, очень легкий и удобный. Когда им отчерпываешь воду, то черпак не скребет по днищу плоскодонки, не отпугивает рыбу.
Вооружившись всеми своими доспехами, Хованцев спускается к Туренинке – к тому месту, где она впадает в Оку. Там среди других лодок стоит и его плоскодонка.
Все время, пока Хованцев жил в Туренино (а живет он здесь уже два десятилетия), он всегда держал лодку на Оке. Привязывая ее за трос, которым крепился паром. Тут же, возле кормы плоскодонки, и не очень глубоко даже, лежало и ведерко с живцами. Пескари жили долго, а всякий раз, когда нужна была нажива, он доставал со дна ведерко. Но год назад по Оке пустили «Зарю». На быстроходном катере стали ездить бородачи-туристы и девицы в шортах. Волны, поднятые «Зарей», размывали берега. Плоскодонку выбрасывало на берег.
Пришлось лодку перевести сюда, в устье Туренинки. Казалось бы, ничего: можно ставить плоскодонку и тут. Но Туренинка летом так пересыхает, что лодку приходится волочить по камням. К тому же туренинские женщины приладились с лодки полоскать белье. Каждый раз они заливают плоскодонку мыльной водой. Запах этой воды неприятен не только рыбе, но и самому Хованцеву.
Думая об этом, Хованцев спускается к Туренке. Лодка его стоит на привязи, но не в центре, как он ее оставил, а сбоку – кормой на стрежень.
Хованцев бросил в лодку свои снасти, наметанным взглядом оглядел посудину. Лодка была не очень загажена: знать, женщины мало стирали. Он взял черпак и начал отливать воду. Терялись дорогие минуты, ведь в девять утра Хованцев должен быть в кабинете, на обычной пятиминутке. Он замещал главного врача, бывшего в отпуске.
Хованцев отчерпал плоскодонку, отвязал ее. Багорчиком подцепил ведерко, служившее ему пескарницей; поднял ведерко в лодку, проверил, живы ли пескари. Живцы – слава богу! – были на месте. Он вставил весла в уключины (весла были привязаны к причалу вместе с плоскодонкой) и оттолкнул лодку.
Туренинка завладела лодкой и понесла ее. Хованцев едва успевал подправлять плоскодонку. На Быку, где Туреника впадает в Оку, он выпрыгнул из лодки и поволок ее. Как только почувствовал, что течение подхватило плоскодонку, он снова сел.
И вместе с лодкой, которая плыла, отойдя от берега, отошли в небытие и все земные заботы. Хованцев думал теперь только о рыбалке, о том, поймает ли он судака или щуку.
Переплыв на тот берег Оки, где был городской пляж, он передохнул, снял ватник, бросил его на корму.
Хованцев приналег на весла. Он плыл быстро. В рубашке с засученными рукавами – он работал веслами легко и, наверное, красиво. Во всяком случае, лопасти ударялись о воду без брызг. Он знал, что грести ему долго, пока не скроется вдали город. Хованцев любил рыбачить наедине. Вблизи города хоть и есть гряда, где стоит судак, но тут, как мухи, сидят сонные еще лодочники, ловят в проводку тарашку, подлещика. Начнешь проводить лодку, ворчат на тебя. Он любил рыбачить в Станковом, Возле красного бакена. Это место такое на Оке, выше Улая. Там выход на каменную гряду и сама гряда, и затон, где гуляют судак и щука.
Ока парила. Туман клочьями отдирало от воды и несло к берегу, к ракитовым кустам, которые казались черными.
Хованцев греб и все смотрел на берег, на эти клочья тумана, стараясь по движению их определить направление ветра – попутный ли? встречный ли? От ветра зависит успех рыбалки.
Но движение ветра в этот ранний час определить нельзя: туман на реке создает свое движение.
Левая уключина поскрипывала. Надо было ее смочить водой. Но Хованцев на уключину не обращал внимания. Все греб и греб.
Вот уже болотце. Дальше – Песочня. Впадала когда-то в Оку речка такая, теперь пересохла.
И Песочня позади.
Теперь можно передохнуть, расслабиться.
Хованцев заплыл на самый верх заездки, закурил, ощущая во всем теле приятную усталость. Бросив сигарету, он взял ведерко, сменил воду пескарям и с волнением, равным, может, молящемуся, стал распутывать поводок. Удилище у него было обыкновенное, спиннинговое, и не бамбуковое, а металлическое. Оно было с длинной пробковой рукояткой и нравилось Хованцеву. Он много выудил рыбы этим спиннингом. Пропускные кольца кое-где поизносились, расшатались, но он все равно брал с собой только это удилище. Всякий раз, бывая в городе, Хованцев намеревался присмотреть новый спиннинг из пластика. Да руки все до этого не доходили.
Ловил старым – и слава богу!
Хованцев вытянул с катушки метра два лески и, не глядя в ведерко, поймал пескаря. Он насадил живца за жабры на «единичку», а затем завел «двойничок» в тельце рыбки – чуть повыше спинного плавника. На двух крючках живец двигался естественно, как на воле.
Хованцев выбросил пескаря за борт лодки. Живец, почувствовав свободу, метнулся вглубь. Тем временем плоскодонку отнесло, и Хованцев взялся за весла.
Ветра не было. Приходилось все время проталкивать лодку.
Хованцев освободил катушку, и леска, увлекаемая грузом, пошла ко дну. Через миг-другой сердце радостно екнуло: груз ударился о дно. Пескарь словно прилип к камню, ища себе спасения. Но спасения не было: Хованцев тут же поднял спиннинг и стал «тюкать» – опускать и поднимать удилище. Вверх – вниз. Вверх – вниз.
14
Наступил самый волнующий момент: рыбалка началась.
Хованцев очень любил это мгновение. Ради этого он встал еще до солнца, не ел ничего, шлепал веслами. Хованцев любил миг тишины, когда он становился участником необъяснимого таинства соединения с природой.
«Ах, какая красота!» – вздыхал про себя Хованцев. Он жалел всех, кто не испытывал в жизни такого чувства. Ему, например, часто даже снилось: он опускает в воду грузило с пескарем. Он любил этот миг даже не меньше самой поклевки, когда, сделав подсечку, ощущал на конце спиннинга живую тяжесть, рывок – и, не отдавая рыбе ни одного сантиметра, начинал быстро крутить катушку.
Да, лодку подхватило течением и понесло.
Было хорошо видно, как туман, обнимающий гладь воды, подымался и нехотя, пеленой, уходил на берег. По реке – то тут, то там – шла мелкая рябь, которая оживилась, едва дунул тихий ветерок.
Ветер разворачивал плоскодонку, сбивал ее ход. Хованцев одной рукой правил лодкой, а другой, в которой был зажат спиннинг, «тюкал».
Его несло – не было ни зацепов, ни всяких иных задержек. Он спокойно плыл вдоль гряды. Возле берега были оползни, а там, где он плыл, – камни, настоящая банка из камней. Летом, когда Ока мелеет, вершины их оголялись, и Хованцев знал, что их обходить надо глубиной, но не очень удаляясь от берега: необходимо было лодку провести по стрежню.
Хованцев и повел плоскодонку обычным путем, мимо каменной гряды. Пескарь забеспокоился: живца невозможно стало вытянуть из-под камней. Он все время норовил найти укрытие.
– Тут стоит щука! – решил Хованцев.
И только он подумал об этом, как живца кто-то схватил. Хованцев почувствовал, изготовился для подсечки, но пескарь неожиданно рванулся в сторону и замер.
Хованцев выбрал лесу: весь живец был изодран. Ясно: брала щука.
Ранней весной щука и судак берут решительно, с ходу. В сентябре же, когда осенний жор только начинается, рыба клюет лениво, нехотя, как бы играя с живцом.
Хованцев насадил свежего пескаря и снова заехал наверх.
Еще на памяти Хованцева рыбаки ловили даже стерлядь. Теперь стерляди не осталось и в помине. Вскоре после войны ранней весной, когда летел майский жук, на этого самого жука он ловил голавля – по два десятка за зорю. А теперь даже голавля на Быку не стало. Ерш все задушил – на любую наживу берет, – да и тот пахнет нефтью.
Хованцев миновал всю заездку – снова камни, болотце.
Мертво!
Пескарь ни разу не шелохнулся.
«Плохо дело» – думал он. – Щучья поклевка – это дело случая. Надо искать другое место, где стоит судак. Наверное, рыбаки пробили вчера закос [1]1
Закос (рыбацкое) – запрещенный способ ловли сетями, снабженными цепями.
[Закрыть]. А я собрался на судака».
Хованцев заплыл еще раз. Хотел было выкурить сигарету, но передумал: некогда курить, не за тем он сюда приехал. Опустив снастку, он попридержал катушку большим пальцем руки до тех пор, пока грузило снова не ударилось о дно.
Туман тем временем растащило. Выглянуло солнце, и река, и лес, и прибрежные ивы – все разом заискрилось, заиграло разными красками.
Стало жарко.
Начался ветер – попутный. Лесу разматывало, лишь успевай опускать и подымать живца, чтоб избежать зацепа.
Хованцев поравнялся с красным бакеном.
Бакен уже погас и мирно покачивался на своих поплавках-крестовинах. Напротив бакена – знал он – камни под водой на метр, а то и больше уступом подымались наверх, образуя ступеньку. Готовясь укоротить лесу, Хованцев стал выбирать ее из воды. Но не успел он это сделать, как кто-то с силой рванул живца: тук! тук! Раз-другой.
«Тук!», «Тук!» – отозвалось сердце.
Хованцев знал, что так стучит судак.
Он встал и подсек со всей силой. Подсечка получилась не очень надежная. Он любил подсекать, чтоб удилище свистело, а на этот раз было много лески, и он сплоховал.
Стоя в лодке, Хованцев начал наматывать леску. Напрягшись всем телом, он ощутил на конце лесы метущуюся тяжесть рыбы и начал лихорадочно крутить катушку.
Большелобый судак – серебристо-розовый красавец, раскрыв пасть, выскочил из воды метрах в двух от лодки. Увидев свет, судак тотчас же метнулся под плоскодонку.
Хованцев ожидал этого. Он сел и на какое-то время попридержал лесу, а второй рукой потянулся за багорчиком. Он потихоньку вытянул из-под лодки свою добычу. Судак метался, норовя все время скрыться под лодку, в темноту. Но очень скоро сдался, перестал вести неравную борьбу и лег на воду, вывернув свое белое жирное тело и тараща глаза и плавники.
Хованцев резким ударом багра подцепил рыбу и, бросив ее в лодку, нагнулся за куканом.
15
В начале девятого Хованцев вернулся.
Он привязал лодку, взял снасти, выплеснул воду вместе с мятыми и ободранными пескарями, оставшимися после рыбалки, отвязал от сиденья кукан и стал полоскать рыбу в проточной воде: точь-в-точь как бабы полощут белье. Потом он бросил рыбу в пустое ведерко – головами кверху – и пошел домой.
Хованцев был счастлив, что рыбалка была удачна, и не скрывал своей добычи, как это делают некоторые рыбаки. Он рад был, если б кто-нибудь остановил бы его и сказал восторженно: «О, судаки? С удачей вас!»
Но Хованцева никто не остановил.
Ведерко было увесисто: в трех рыбинах, которые он поймал, было, наверное, килограммов пять. Особенно хороша была щука – розовая с серыми пятнами. Такой добыче всяк порадуется. А Хованцев рад был вдвойне: он любил щучьи поклевки. «Ведьма», как он называл ее, могла запросто и уйти. Но если уж она клюнула, так уж клюнула».
Дома никого не было. Жена еще не вернулась с дежурства. Она придет со смены в десять, когда уже он у себя в кабинете будет вести прием. Увидев в холодильнике рыбу, жена позвонит ему, и он все ей расскажет. А пока разделывать рыбу некогда.
Хованцев поставил на газ сковородку и, как только она зашипела, разбил три яйца. Утром, особенно когда он был один, яичница была его любимым завтраком. Он постоял, наблюдая, как белела сковородка, и, не давая яичнице подгореть, снял ее, а на огонь поставил чайник.
Хованцев отнес яичницу на террасу, где еще с раннего утра, когда он уходил, стояла хлебница, и принялся за завтрак.
Он ел торопливо, обжигаясь.
В это время скрипнула калитка.
Хованцев удивился: кого несет недобрая, когда дорога каждая минута?
Дом стоял в глубине сада. Возле калитки росла старая дикая груша. Она разрослась, и за ее кроной не видать было посетителя.
Хованцев с вилкой в руках уставился на калитку, поджидая.
Из-за дикой груши, шаркая по садовой дорожке, вышел Варгин. Он был без рубахи, в одном черном пиджаке, наброшенном наспех, поверх майки. На ногах Тихона Ивановича домашние тапочки, в каких ходят зимой. Варгин небрит, щетина на его подбородке, серебрилась.
Хованцев знал понаслышке, что сегодня в полдень – бюро, что у Варгина какие-то неприятности. Но как человек вечно занятый, Хованцев не придавал особого значения горестям соседа.
«Какое значение имеет, член ты бюро или нет? – думал он. – Щука срезала поводок – иное дел».
Хованцев шагнул навстречу Варгину. Удивленный его видом, он чуть не вскрикнул: «Тихон Иванович, дорогой! Что с вами?» Но привычка врача была в нем сильнее, чем непосредственное человеческое участие, и он, с лицом, которое ничего не выражало, сказал:
– Тихон Иванович? Чем обязан такому раннему визиту?
– Помоги, сосед! Плохо мне! Колотится сердце. Задыхаюсь.
– Садитесь, – сказал Хованцев, отодвигая в сторону сковородку. – Вы, наверное, плохо спали?
– Совсем не спал. Сердце болит. Я уж и корвалол пил, и валидол принимал. Ничего не помогает.
– Ну-с, ясно, – проговорил Хованцев.
Вот так – ночью и днем – стучатся к нему за помощью. Варгин, можно сказать, был самым спокойным соседом: без надобности в калитку не стучался. А то ведь идут ночь-полночь, просят помощи.
И Хованцев надевает халат, слушает больного.
А в общем-то, что он мог сделать? Он бы выслушал Тихона Ивановича. Но в доме у него не было стетоскопа – оставил аппарат на работе. «Конечно, самое верное – измерить кровяное давление. Переволновался. Не спал ночь. А все потому, что принимает все слишком близко к сердцу. Нет у него, кроме колхоза, забот. Увлеченности нет».
Думая так, Хованцев прошел в комнату и, говоря Варгину про возраст, что в его годы никак нельзя волноваться, взял прибор для измерения кровяного давления.
– Я к вам уже приходил, – рассказывал тем временем Варгин. – Да вас не было дома. Вы небось на рыбалку ездили?
– Да! – радостно воскликнул Хованцев.
– Ну, и как успехи?
– Поймал двух судаков и щуку.
– Ну? – удивился Варгин. – А я вот хоть и живу на Оке, а ни разу в лодке не сидел. Грустно признаться на старости лет: плавать не умею.
– Вы многое потеряли. На Оке дышится по-другому, чем в правлении.
– Это понятно. – Варгин снял пиджак, подставляя Хованцеву обнаженную руку.
Хованцев смерил давление.
Давление у Варгина было очень высокое. Хованцев знал, что каждый больной непременно хочет знать, сколько у него. Враг, однако, не сказал – сколько, и даже бровью не повел, увидев отметку на шкале. Он только снова надул грушу и повнимательнее пощупал пульс.
«Надо бы сделать внутривенное вливание», – решил Хованцев. Но дома у него не было шприца и лекарств, и он промолчал.
– Могу вам сказать лишь вот что, – заговорил через минуту-другую Хованцев. – Сердце у вас пошаливает. С таким давлением, какое у вас, работать опасно. Надо лечь на месячишко к нам в больницу. Приходите ко мне в кабинет через полчасика. Сейчас я проведу пятиминутку, в девять у меня начинается прием посетителей. Заходите – приму вас без очереди.
– Спасибо, – сказал Варгин и, поднявшись со стула, надел пиджак. – Приду. Вот только оденусь.
Стоя на крыльце, Хованцев проводил соседа взглядом: как подкосило!
Они были очень разные люди – эти соседи. Хованцев работал, чтобы прокормить семью, а Варгин кормил семью постольку-поскольку, – на первом месте у него была работа.
Хованцев вернулся в комнату, оделся и пошел в поликлинику. Он был у себя, когда зазвонил телефон Хованцев думал, что это звонит жена, и торопливее, чем всегда, взял трубку.
– Товарищ Хованцев? Очень рад, что застал вас. Это говорит Ковзиков. – Хованцев сделал губами движение вроде: «Вот так денек», но удержался ¬– все-таки звонил второй секретарь обкома.
– Да. Я вас слушаю.
– Мне сказали, что вы исполняете обязанности главного врача.
– Да. Главный врач в отпуске.
– К вам обращался Варгин?
– Варгин? – Хованцев сделал вид, что удивлен.
– Да, Тихон Иванович. Имейте в виду: в полдень он должен быть на бюро. Обязательно. Это очень важно.
– Он больной человек, – спокойно сказал Хованцев. – Я обязан его госпитализировать.
16
Поначалу палата понравилась Тихону Ивановичу. Она находилась не в главном больничном корпусе, похожем на барак, а во флигеле, построенном во времена земства. И была она не внизу, где вечно толкается народ, а вверху, в мансарде.
Поднимаясь по скрипучей деревянной лестнице, следом за сестрой, Варгин думал, что его ведут на колокольню. Лазал когда-то.
В палате, куда сестра привела его, было уютно. Он нашел комнату вполне приличной. В палате было все – кровать, тумбочка, стол, кресло и даже телефон. Тихон Иванович никогда не предполагал, что в больнице есть палаты-одиночки.
– Располагайтесь как дома! Завтрак вам принесут через час, – сказала, уходя, сестра.
Варгин подошел к окну, отдернул занавеску, посмотрел. Окно выходило в проулок, на старую липу. Липа оголилась, лишь кое-где висели черные бусинки плодов.
И больно рвануло сердце: осень!
Корявые сучья деревьев были унизаны черными грачиными гнездами. Как-то неприятно и странно было видеть их рядом с собой, на одном уровне: черные шапки на корявых черных суках. Разглядывая их, Тихон Иванович подумал, что, наверное, ранней весной, когда грачи высиживают яйца и выводят птенцов, жить с ними по соседству беспокойно. Грачи все время взлетают и каркают.
Но теперь, когда гнезда были пусты, в палате стояла тишина. Были тихо и как-то тоскливо.
И было душно.
Тихон Иванович снял с себя полосатую больничную куртку (его переодела – дали казенные шаровары и куртку). Он решил до завтрака немного отдохнуть, лег на кровать, поверх покрывала, и уставился в потолок. Потолок был оклеен бумагой, и на этой белой бумаге видны желтые потеки. Видимо, в свое время мезонин протекал.
Варгин лежал, прислушиваясь к биению своего сердца, вздрагивая при каждом его перебое, и все думал над тем, какая у него кардиограмма – хорошая или плохая?
Тихон Иванович никогда не обращался к врачам и теперь переживал, заметив беспокойство Хованцева, когда тот мерил у него давление.
Спать не хотелось.
После укола, который сделали Варгину, головокружение прошло, и он полежал минуту-другую спокойно. Скосив глаза, Тихон Иванович посмотрел на стену. Сиреневые обои были пестроваты. Когда долго глядишь на них, то в глазах рябит.
Рядом с койкой, на которой он лежал, – обои оборваны, и виднелась газета. Газета была старая, дореволюционная. Письмо было с «ъ», однако он прочитал, что страховое общество Мюллер и Ко» заключает страховые полисы на 1865–1870 годы.
Прочитал Тихон Иванович это и подумал, что за сто лет, пока стоит больница, много тут слез пролито. Кому только не приходилось лежать в этой палате. В разное время тут лежали небось градоначальник, страдающий подагрой, князья и графы из соседних поместий.
И вот теперь лежит он – Варгин – председатель колхоза, чье имя еще недавно известно было на всю округу. Лежит мужик. Солдат, наконец-то!
«Солдат ты или кто, черт тебя побери!» – чуть не воскликнул он.
Лежать расхотелось. Он встал и походил по комнате.
«Или они живы, не умерли все – градоначальники, князья, которые лежали здесь? – подумал Тихон Иванович. – Померли, и их надгробные плиты мохом поросли». Порастет мохом и его, Варгина, камень, если его, конечно, положат под камень. Шут с ней, со смертью, решил он. Пусть лучше его похоронят как простого смертного. Все равно. Но пока Варгин жив, он не позволит, чтобы его имя шельмовали.
Через час после завтрака Тихон Иванович почувствовал себя в больничной палате как в заключении. Все ему было ненавистно тут: и сама палата с продолговатым окном, и эти пошлые обои, наклеенные на газеты столетней давности. И самое главное – невыносимо было его положение добровольного отшельника.
«Все думают, что я испугался».
Тихон Иванович подошел к столу, сел. Табурет скрипнул под ним. Он поднял телефонную трубку. Телефон был местный, больничный. Он соединялся с городом через коммутатор. Все равно: это была единственная возможность как-то действовать, связаться с внешним миром, с жизнью.
Варгин стал звонить.
Хоть выйти в городскую сеть было не так-то просто, но всем телефонисткам он бросал: «Это Варгин». Из уважения к имени его соединяли.
Уже через четверть часа ему дали Успенский совхоз. Но Сухорукова в конторе на оказалось: директор, как ему и положено, был в поле, на картошке. Варгин просил передать про свою болезнь.
Слегка успокоившись, Тихон Иванович начал искать Долгачеву.
Прямой ее телефон не отвечал. На бюро или уехала в колхозы? – он не знал. Узнать можно было только у помощницы. Но Варгин не хотел, чтобы о его положении знали другие, потому он раздраженно бросил трубку и снова принялся ходить по выщербленным половицам взад-вперед.
«Скрипите? – зло подумал он о досках. – Так вам и надо. И мне, старому дураку, так и надо!»
В окопе было легче: там он знал, за что погибнет. Теперь же Варгин не знал за собой вины, потому и мучился.
Тихон Иванович не утерпел – позвонил в приемную Людмиле Тарасовне. «Все-таки до тех пор, пока Долгачева секретарствует, она не будет обманывать меня, говорить неправду».
Людмила Тарасовна была не только помощником, секретарем – она была частицей Екатерины Алексеевны. Если требовалось защитить Долгачеву, она защищала ее. Знала, когда можно говорить правду, а когда лучше умолчать. Недаром же она усидела на этом месте при стольких секретарях. Секретари райкома ошибались. Секретари болели, хватались за сердце, подымались к себе в кабинет. А Людмила Тарасовна никогда не болела, за сердце не хваталась и неизменно была деятельна.
Людмила Тарасовна была, конечно, на месте.
Она сразу же узнала Варгина. Она не удивилась его звонку, ждала его.
Он поздоровался и начал издалека:
– Людмила Тарасовна, я вас поминал. Вам икалось?
Она приняла его игру.
– И мы вас тоже поминали, – сказала она.
– Очень приятно.
Варгин еще побалагурил, спросил про Долгачеву: где ее можно отыскать?
– Екатерина Алексеевна выехала в Березовку. Там хозяин заболел.
– Ловцов?
– Да. А вы откуда говорите?
– Из больницы.
– И в вашей палате есть телефон?
– Да.
– Вот не знала. Ведь я вас искала.
– Я знаю. Но так случилось, что врачи упекли меня в больницу. Сердце.
– Гипертонический криз?
– Шут их поймет, врачей! Колют и велели пока лежать. Не волноваться. Но какой тут покой? Дел в колхозе полно. Картошку рыть начали. – Тихон Иванович помялся: ему хотелось спросить про бюро – было ли? – но он помолчал, собираясь с силами. – Бюро-то было? – спросил наконец.
– Было. Короткое, рабочее. Вас вывели из состава бюро, чтоб не затруднять ведение следствия, – сказала Людмила Тарасовна. – Вы не очень переживайте. Долгачева к вам хорошо относится. Она навестит вас в больнице.
– Хорошо… – проговорил Тихон Иванович упавшим голосом и положил трубку.