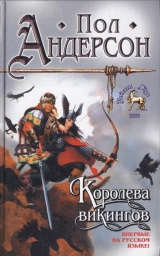
Текст книги "Королева викингов"
Автор книги: Пол Уильям Андерсон
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 56 страниц)
Король усмехнулся краем рта.
– Мне кажется, что тебя радует мысль о встрече с этим парнем.
Гуннхильд вскинула голову.
– Может быть. Зачем жить в этом мире, если закрывать глаза и уши на то, что в нем происходит?
И потому король и его мать со свитой и дружиной отправились в путь. К тому времени настроение Харальда стало заметно лучше.
То, что произошло там, ударило по Гуннхильд больнее, чем она могла себе представить.
А новости, которые они узнали, возвратившись в Хардангер, оказались еще намного хуже. Когда Клипп услышал о том, что Сигурд покинул свой дом, он призвал своих родственников, а один из предводителей бондов, некий Вемунд, снова взбунтовал их. Они подобрались к королевскому подворью и напали на него. Дружинники короля отбивались от них, пока те не отступили. Но Клипп, которого никому не удалось остановить, прорвался прямо к Сигурду и проткнул короля мечом. Кто-то из дружинников сразу же прикончил убийцу, и он упал рядом со сраженным его рукою сыном Гуннхильд.
Так сильно Клипп любил свою Алов.
IX
По крайней мере, думала Гуннхильд, исландец принес со своего острова некоторые новости, которые пробудили в ней холодную радость и даже несколько успокоили ее. Эгиль Скаллагримсон тоже перенес подобную потерю.
Его жена Осгерд родила ему троих сыновей и двух дочерей. Дочери получили хороших мужей. Гуннар, второй из сыновей, умер от болезни. Младшему, Торстейну, Эгиль уделял немного внимания. Зато старший, Бёдвар, был очень многообещающим юношей, крупным, красивым, таким же сильным, как сам Эгиль или Торольв в его возрасте. Эгиль очень любил его, а Бёдвар, в свою очередь, был сильно привязан к отцу.
Этим летом в Белую реку вошел корабль с грузом древесины. Эгиль купил часть груза. Его работники переправили дерево к нему на восьмивесельной лодке; для этого потребовалось множество поездок. Однажды Бёдвар попросил разрешения отправиться с работниками за товаром, и отец разрешил ему. На лодке их было шестеро. Они задержались с возвращением, и их застало начало отлива. Они долго выгребали против течения, но до наступления темноты так и не смогли войти в фьорд. Внезапно налетел юго-западный шторм, поднявший огромные волны. Лодка перевернулась, и все, кто на ней был, утонули. На следующий день прилив вынес их на берег.
Узнав об этом, Эгиль сразу же поехал к морю, чтобы найти трупы. Первым, кого он увидел, был Бёдвар. Держа тело сына на коленях, он привез его на Дигранесс, где был похоронен Скаллагрим. Там он разрыл курган, положил сына рядом со своим отцом и велел снова зарыть могилу. Его работники провозились с этим делом до темноты. Пока они трудились, труп раздуло так, что на нем лопнули куртка и шоссы.
Вернувшись в Борг, Эгиль прошел в комнату, где обычно спал, и запер за собой дверь. Он дни и ночи лежал в постели; не ел и не пил. Никто не смел заговорить с ним. Но на третье утро, на самом рассвете, Осгерд велела одному из своих людей оседлать лошадь и гнать из всех сил в Хьядархолт, что в долинах Большого залива, где жила их дочь Торгерд со своим мужем Олавом Павлином. Гонец должен был рассказать ей о том, что случилось, и просить немедленно приехать. Он прибыл днем. Торгерд сразу же оседлала лошадь. Взяв двоих людей для охраны, она ехала без остановки всю оставшуюся часть дня и короткую бледную ночь.
Когда она прибыла в Борг и вступила в дом, ее мать Осгерд спросила, не проголодалась ли ее дочь с дороги.
– Нет, – ответила Торгерд, – и не стану ничего есть, прежде чем встречусь с Фрейей. Я не знаю ничего, что было бы лучше того, что делает мой отец, и я не желаю пережить моего отца и моего брата.
Она подошла к спальне Эгиля.
– Открой дверь, отец, – попросила она. – Мы оба должны уйти одним и тем же путем.
Эгиль отворил. Торгерд вошла в комнату, снова заперла дверь и легла на другую кровать.
– Ты хорошо решила, дочь, последовать за своим отцом, – без выражения сказал Эгиль. – Великую любовь ты показываешь. Хорошо ли посмотрят, если я останусь жить после такого горя?
Они долго лежали в молчании.
– Дочь моя, ты что-то жуешь? – через некоторое время спросил Эгиль.
– Я жую морские водоросли, – ответила она, – ибо слышала я, что от них человеку делается еще хуже. А я ведь боюсь, что слишком долго придется мне дожидаться смерти.
– Что, они воистину вредоносны?
– Очень вредоносны. Ты не хотел бы взять немного?
– Почему бы и нет? – Он взял водоросли у нее из руки и принялся жевать их.
Спустя еще некоторое время Торгерд поднялась, чуть-чуть приоткрыла дверь и попросила воды. Служанка принесла ей полный рог.
– Вот что делают морские водоросли, – сказал Эгиль. – От них ты еще сильнее страдаешь от жажды.
– А не хочешь ли и ты хлебнуть воды, отец?
Он сел на кровати, взял рог и осушил его.
– Они обманули нас, отец, – сказала Торгерд. – Это было молоко.
Эгиль впился зубами в рог так, что откусил от него большой кусок, а потом швырнул на пол. Рог разлетелся на части.
– Что же нам теперь делать, отец? – обратилась к нему Торгерд. – Кажется мне, что нашему с тобой желанию помешали. – Эгиль сидел с таким видом, будто его ударили по голове. Торгерд собралась с духом. – Вот что, отец, – сказала она, – я думаю, что мы должны прожить достаточно долго для того, чтобы ты сложил поэму в память Бёдвара. Тогда мы сможем умереть, если все еще будем желать этого. Если поэму придется складывать твоему сыну Торстейну, это случится еще не скоро. Бёдвар не должен лежать невоспетым, как будто нас нет здесь и некому выпить в его честь поминальное пиво.
Эгиль помотал большой лысой головой.
– Я не смогу, – пробормотал он, – не смогу, даже если и попытаюсь. – Дочь не мигая смотрела ему в глаза. – Ладно, – сказал он в конце концов, – тогда уж я лучше посмотрю, не удастся ли что-нибудь сделать.
Он вновь улегся в постель, устремил невидящий взгляд куда-то сквозь потолок и принялся складывать строфы.
Сначала они двигались медленно, подобно людям, несущим гроб на похоронах, но постепенно дело пошло живее.
С великим трудом
заставляю я двигаться мой язык.
Камень, давящий на грудь,
пресекает дыхание.
Трудно творить
колдовство слов,
когда буря повергла
дом мысли.
Дар скальда,
достойный богов,
что превыше других всех
с давних времен,
покинул меня,
и душа опустела
от горя.
Поспешно и бодро
слова издавна повиновались мне.
Лезвия остроумия
были всегда остры.
Но ныне прибой накатил,
чтоб разбить мой корабельный сарай,
и стучится в двери могилы
моего отца.
Ибо ныне семья моя
все больше редеет,
словно лес,
что рушится под ударами ветра.
Тот муж теряет
всю радость жизни,
кто видел, как самых
дорогих его сердцу
мертвыми несут
за последние двери.
Помню я, как прежде всех
отец мой скончался.
Вскоре и мать моя
тоже ушла вслед за ним,
В сокровенных глубинах
моей души
память о них, стариках,
живет бесконечно.
Та пробоина, кою обвал
пробил в древней ограде
семейства отца моего,
причиняет мне боль.
Но рана, оставленная
смертью сына, убитого морем, —
ведаю я, что вовеки
пребудет открытой.
Море, Ран,
много тяжких утрат
ты заставил меня понести.
Одинок тот, кого
не любит никто.
Море шнуры родства оборвало
и порвало нить жизни
в моей груди.
Если бы мог я выйти с копьем,
чтоб воздать за обиду, —
быстро б тогда
навсегда я покончил с убийцей.
Если бы в силах был рану нанесть
этому мокрому вору-убийце,
с радостью вышел тогда
на бой против моря.
Но я вижу, что сил
у меня слишком мало,
чтобы биться с губителем
моего сына.
Любой, кто захочет,
увидит – старик
лежит здесь
беспомощный.
О сильно, Ран, море,
меня удручил, принеся
такую утрату.
Горе от смерти родных
превозмочь удается не скоро.
И труднее всего, что он,
надежда всей нашей крови,
прочь ушел, в новый дом, где светлее.
Доподлинно ведомо мне, что в сыне моем
ни пятнышка низости
не было отроду.
Силу и разум
все бы узнали в нем,
если бы Один
длань на него
не поспешил возложить.
Были всегда мы —
он и я —
как единое,
что бы другие
ни говорили и делали.
Мой дом
он держал на себе,
был опорой его столбов.
Часто я ощущал
утрату товарищей.
Беззащитна спина
у того, кто братьев лишен.
Эту истину я вспоминаю,
ежели беды приходят.
Тускло в глазах
одинокого мужа.
Перетряси, коль восхочешь,
в поисках все королевство —
ни одного не найдешь,
на коего мог положиться.
Здесь они будут
брата на виру менять,
а месть творить
за товары!
Люди давно говорят – и это есть правда,
что, коли сына утратил,
иного нет воздаянья,
как породить другого,
но разве надеяться можно
ту пустоту заполнить,
что осталась на месте брата,
самого первого и самого лучшего.
Не пекусь я
о толпах людских.
Мир не несет ничего,
кроме самодовольства.
Мой мальчик умерший,
плоть своей матери,
он отправился в путь
к дому предков.
Враг кораблей,
пенное чудище,
убийца людей
противостоит мне.
Когда движет горе,
бессильно, вслепую
волочит мысль
свое бремя.
Другой мой сын,
сраженный болезнью,
утрачен давно
и скрылся вдали.
Он был дитя без пороков,
и худого никто,
никогда
вовсе не думал о нем.
С властителем жизни
мир я хранил,
а пуще всего
с Одином блюл договор,
доколе он сам,
смертей повелитель,
по воле своей и охоте
дружбу со мной не порвал.
С готовностью жертвовал я
Отцу Всего Одину,
первому из богов,
как то считает народ.
Больше еще надлежит
мне найти для скальдов отца,
коий есть больше, чем мощь,
ныне, в несчастье.
После погибели волка,
старого проливателя крови,
обрел я новое
безупречное искусство,
которое в союзе с душою
быстро превратило
тайных завистников
в открытых врагов.
Больно я ранен.
Теперь же, Хель,
убирайся, неумолимая,
прочь с заветного мыса.
Я же с радостью
и сердечной добротой
ждать буду дня
своей смерти.
После того как поэма была закончена, Эгиль произнес ее вслух перед Осгерд, Торгерд и всеми обитателями дома. Затем он покинул кровать, уселся на возвышении и приказал готовить погребальное пиво для поминок, которые и были проведены с соблюдением всех старинных порядков. После поминок он одарил Торгерд подарками и отправил ее домой, а сам продолжал свою жизнь.
Чем больше Гуннхильд обдумывала то, что услышала, тем слабее становилось холодное ощущение справедливости случившегося. Да, Эгиль также потерял сыновей. Но нерукотворный памятник, который он воздвиг им, будет существовать, когда от их костей не останется и праха. А какая память останется от ее сыновей?
X
И Гуннхильд, и Харальд пожертвовали сире Эльфгару немалые деньги – чуть ли не все, что они могли безболезненно взять из здешней казны, – на поминальные службы по Сигурду. Они намеревались пожертвовать еще где-нибудь в другом месте. Священник говорил слова о покое и надежде, ожидающих упокоившихся во Христе, но Гуннхильд все они казались пустыми разговорами. Эльфгар не мог не чувствовать, что Сигурд сам навлек на себя гибель. Она не произнесла ни слова об этом вслух. В конце концов, это была чистая правда. Сигурд всегда был дерзким и безрассудным, не думал ни о ком другом и никому не сочувствовал.
Нет, вертелась в ее голове резавшая, как нож, мысль: что-то здесь не так. Что-то не так.
Гуннхильд пошла в церковь, когда там должно было быть пусто. Уныло плакал дождь, смешиваясь с густым туманом, который делал расплывчатыми очертания стен и крыш, укрывал землю вдали, приглушал звуки. Своих охранников она оставила за дверьми, чтобы те не впускали никого другого, повесила влажный плащ у входа и прошла внутрь.
Там было холодно и полутемно, почти как в сумерки. Две свечи горели у алтаря. В их свете Висевший на Кресте виделся, скорее, как тень, а не как подобие человеческого тела. Гуннхильд не взяла подушки, но преклонила колени на полу, там, где из него выступала неровная доска. Она почувствовала боль; это была жертва. Она постаралась вытеснить воспоминания о том, как стояла на коленях на узловатом шнуре, но они не желали уходить; они все время выглядывали из-за ограды, выстроенной в ее сознании, пока она пыталась молиться.
– Господи, – шептала она в тишину, – я не знаю, ведомо ли Тебе то, что живет в моем сердце. Конечно, Ты сможешь узнать, если захочешь, и, конечно, Твой Отец может – ведь мне говорили, что ему ведомо все. Но разве должен он все сообщать Тебе? Ведь существует так много другого, гораздо более достойного внимания. И почему Ты должен смотреть? Мое сердце может показаться Твоему взгляду очень уродливым, жестоким и языческим. Я и сама не знаю всего, что находится в нем.
Ибо я жила по другим законам, не Твоим. И буду жить по ним, пока это необходимо. Позже, если я все еще буду пребывать на земле… я не могу предвидеть, что будет потом, ибо не могу сказать, что есть истина, не могу сказать, во что следует верить, не знаю даже, существует ли только одна истина.
Так что, Бог, ты видишь, что я, по крайней мере, не насмехаюсь над Тобой ложью или бессмысленной неискренностью. Я обманывала многих, но честно предстою перед Тобой. И я не прошу о многом, лишь о снисхождении, которое могущественный король может оказать в своем величии малой королеве.
Я прошу, чтобы Ты позволил мне немного, совсем немного поговорить с Твоей матерью. Тебе ведь нетрудно попросить Ее выслушать меня, ведь правда, Бог? Я думаю, что Она с радостью согласится. Она ведь была некогда женщиной. Я никогда не слышала о Ней ничего, кроме того, что Она есть источник милосердия и хорошо знает, что такое горе. Ты позволишь мне это, Бог?
Ни звука, ни шевеления нигде. Даже пламя свечей не пошевелилось. Гуннхильд забормотала молитву «Аве, Мария». Она чувствовала холод и усталость. Ее мучили ощущение боли в коленях и видение свечи, горящей на черепе. Все это не пугало ее и не пробуждало в ней раскаяния. Она просто не могла избавиться от этих воспоминаний.
Впрочем, негоже заставлять ждать королеву Небес.
– Святая Мария, – негромко сказала она. – Ты согласишься выслушать несколько слов от той, кто тоже мать? О, да, Твой сын – сын Бога, а ты непорочная дева. Мои дети – мужчины и женщина; я зачала их в пороке, и грех был заложен в них от рождения. Они свершили свою долю дурных дел или, возможно, даже больше своей доли. Но часто им приходилось делать это вынужденно: нужда терзала их своим кнутом, а кровь, которая бежит в их жилах, не позволяла им сгибаться под ударами. Нет, они сопротивлялись. И никогда ни один из них не был таким дурным, какой Ты вполне можешь счесть меня. Какие бы дурные дела они ни творили, среди них не было поклонения языческим богам или черного колдовства. – Ее голос дрогнул; она закусила губу. – Хотя, возможно, моя дочь Рагнхильд делает что-то подобное, очень мало, очень редко… я не знаю, делает ли вообще… Но не забывай, что она была покинута в нехристианской земле без единого священника, который мог бы указать ей путь.
Гуннхильд подняла голову.
– Святая Мария, – сказала она, – я ничего не прошу у Тебя для себя. Я здесь ради моего недавно погибшего сына Сигурда.
Да, он был самый дурной из всех братьев. Он снова и снова преступал закон Бога, он топтал права тех, кто стоял ниже его, он погиб наконец, ответив за свое собственное преступление, без исповеди, и я боюсь, что он никогда не почитал Бога, как должно. Но посмотри, Святая Мария, как я унижаюсь ради него. Я не стану прощать тех, кто убил его. Но это – мой грех. Ты должна счесть, что это еще хуже, потому что я не могу заставить себя думать, что это неправильно. Я говорю Тебе об этом добровольно, дабы ты знала, что я честна, когда говорю, что это не имеет никакого отношения к Сигурду. Он всегда любил и почитал меня, свою мать. Разве это не зачтется в его пользу?
Ты понимаешь. Ты мать. О, Твой Сын был святой. – Гуннхильд позволила себе застенчивый смешок. – Мои были не таковы. Но они были… они дороги для меня, как и Твой сын дорог Тебе. А разве Он никогда, никогда не тревожил Тебя? Разве не было никаких детских шалостей, никаких ребяческих глупых проступков, ничего такого, что заставляло Тебя тревожиться или даже гневаться? Он был Бог, но Он ведь был и человек, не так ли?
Гуннхильд вздохнула.
– По крайней мере, я слышала, что Ты горевала, когда смотрела, как Он умирал на Кресте и как Его клали в могилу. Но почему, если Ты знала, что Он скоро воскреснет и будет жить вечно? Потому, что Он страдал, ведь правда? Ты, должно быть, стояла там, вспоминая, как Он беспечно крутился у Тебя под ногами в вашем доме, когда Он был маленьким. У меня нет подобного предвидения насчет моего Сигурда – только страх за его участь. Но я помню, как он, трех лет от роду, бесстрашно топал вниз по трапу, когда мы садились на корабль, чтобы отплыть из нашего королевства на Оркнеи.
Он часто делился со мной своими радостями и горестями. Некоторое время я могла иногда обнимать и целовать его. Конечно, вскоре он начал считать это немужественным. И каким же бойким малышом он был! До чего радостно было видеть, как он рос, играл, соревновался с другими, обретал навык за навыком, пока не стал настоящим молодым человеком, знавшим про себя, что он рожден, чтобы быть королем… Ведь тебе это тоже знакомо, не правда ли, Святая Мария?
Тогда я молю Тебя понять, что мой Сигурд не был злым. В его сердце не было зла. Он был дерзок, опрометчив, безрассуден. Он не мог остановиться, чтобы подумать, он шел прямо вперед, как летит брошенное копье, что бы из этого ни получилось. Он пил слишком много, и именно это довело его до гибели. Доживи он до более зрелых лет, он обрел бы немного мудрости, но это ему не было дано. И все равно я любила его. И всегда буду любить. Святая Мать Мария, моему сыну нужно наказание, но у него не дурная душа. Он не заслужил вечного огня. Я прошу Тебя подумать об этом, а потом, если будет на то Твоя воля, замолвить в Небесах слово за моего Сигурда.
Ну вот, я и так слишком долго отвлекала Тебя. Я благодарю Тебя за Твою доброту, с какой Ты выслушала меня. Прощай, Мать Бога.
Гуннхильд опустила голову на сложенные перед грудью руки и произнесла еще раз «Аве».
Спустя немного времени она произнесла три раза «Отче наш», а потом подняла глаза к Христу и громко произнесла:
– Господи, позволь мне напоследок еще раз поговорить с Тобой, не как нищенке, а как Твоей королеве-даннице. Я буду говорить покороче, чтобы не испытывать Твое всетерпение.
Королевская власть в Норвегии принадлежит дому Харальда Прекрасноволосого. Таков был Твой выбор, когда он подчинил себе всю страну и сделал ее сильной. Сыновья Эйрика – его законные наследники. Кто еще остается? Сигурда Великана никогда ничего не волновало, кроме его страны Хрингарики, его сын Хальвдан вырос таким же вялым, его внук Сигурд, судя по всему, простой землевладелец, пестующий свои поля и не интересующийся больше ничем. Даже если бы они этого захотели, сможет ли кто-нибудь такой собрать воедино королевство? Да и станут ли они делать что-нибудь для веры?
Да, печальная необходимость потребовала покончить с некоторыми другими. – Гуннхильд нахмурились, подыскивая слова, а затем скривила рот. – Ладно, Господи, я уже сказала, что не буду лгать Тебе. Мой муж Эйрик и мои сыновья проделали эту работу без большой печали. Но, так или иначе, что сделано, то сделано. Харальд Гренска сбежал, спасая свою жизнь, он не обладает никаким влиянием в Норвегии, и кроме того, он еще почти мальчик.
Она хотела было добавить, что Олав Трюггвасон, еще один отпрыск, был рабом за морем, если, конечно, до сих пор оставался в живых, но ее язык не смог произнести этого имени. Она поспешила продолжить:
– Да, Господь, мы допускали ошибки. Ошибки моего Сигурда были самыми серьезными. Он расплатился за них. Неужели и все остальные тоже должны страдать за то же самое? И королевство, и вера, которую мои сыновья непреклонно намерены привить народу? Кому от этого будет польза, кроме надменных трондов и злодея-ярла, поклоняющегося демонам? Не было бы лучше, если бы Ты помог нам, просветил нас и привел нас к полной победе?
Господи, вот мое предложение к Тебе. Если Ты считаешь его недостойным, то гневайся на меня, а не на моих сыновей. Они ничего не знают об этом. Но если они одержат победу, сломят всех своих врагов, добьются мира, который никто не посмеет поколебать, и если… если мы вновь будем получать хорошие урожаи и богатые уловы рыбы… Тогда я буду знать, что Ты – Бог, единственный Бог. Я тогда откажусь от язычества, брошу все мои колдовские принадлежности в море или в огонь, покаюсь во всех грехах, которые смогу вспомнить, и приму любую епитимью, которая будет возложена на меня.
Господи, я меньше думаю о моей душе – воистину так, – чем о той пользе, которую я могла бы принести вере. Я знаю много вещей, много народа и много темных путей. Я могу навести Твоих собак на след. Мои советы по мирской части тоже часто бывали весьма проницательными. Разве не так? Что, если я бы давала их священникам и епископам Твоей Церкви? Бедняга Хокон Воспитанник Ательстана мог только суетиться без толку, пока его не сломили. При сыновьях Эйрика и при их матери все пойдет по-другому.
Что Ты скажешь на это, Господи? Я буду помогать Твоим людям. Мне кажется, что это была бы справедливая сделка.
В любом случае это лучшее, что я могу предложить. Если то, что о Тебе говорят, правда, то, значит, Ты сотворил меня тем, что я есть, и поэтому можешь понять меня. Поступай, как сочтешь нужным, Господи. А теперь Твоя королева-данница уходит.
Она перекрестилась, последний раз произнесла «Отче наш» и вышла под моросящий дождь.








