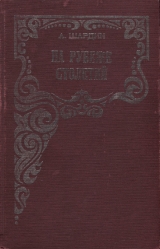
Текст книги "На рубеже столетий"
Автор книги: Петр Сухонин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
– И меня с ним, и меня… – вскрикнула она и начала биться головою об угол косяка.
Чесменский ту же минуту подхватил ее, но она уже была вся в крови.
Удержали герцогиню, уложили ее в постель. Она себя не помнила. С ней был нервный припадок: руки ее дрожали, глаза сияли блеском безумия…
Чесменский, по чувству человечности и воспоминания просьбы умершего, невольно заботился о ней, старался успокоить, угодить.
Потом наступил период полной апатии. Она будто ничего не видела, ничего не замечала. Однако же, будучи в более спокойном расположении, она сказала Чесменскому:
– Благодарю, что вы не оставляли меня в эти страшные минуты. Мне нечем отблагодарить вас. Все равно, так или иначе, я уйду к нему, вместе с ним, мы за всех будем молиться. Но у меня есть подруга, она может и найдет средство чем-нибудь заслужить вашу доброту ко мне. Вы русский, и она русская… Я напишу к ней, и она будет вашим другом, сестрою, сделает все, что может… А мне пора к нему.
Но она прожила в таком виде полной апатии более недели. Только на девятый день казни Буа д'Эни вышло решение, по которому и она должна была подвергнуться тому же удару и тем же орудием, под которым умер ее возлюбленный.
– Ну, вот и слава Богу, вот я и пришла! – сказала она, когда ей объявили решение, и даже как бы с радостью проговорила: – Вот мы и увидимся!
Умерла она совершенно апатично, видимо не осознавая – ни что с нею делают, ни куда ее везут.
Несмотря, однако же, на слабость, апатию и, казалось, полную бессознательность, она успела приготовить и дать Чесменскому письмо.
– Отдайте, и да хранит вас Бог! – сказала она ему, готовясь идти к роковым телегам; потом прибавила, оправляя на груди какой-то голубенький бантик: – Я надеюсь, ему понравится!
И лицо ее сияло светлою, веселою улыбкою… Больше Чесменский о ней не слыхал.
– Кому она написала? – подумал Чесменский и взглянул на адрес. На конверте было написано: "Супруге неаполитанского посланника в Санкт—Петербурге, ее светлости герцогине Анне де Сарра Коприолла".
– Кто такая де Сарра Коприолла? – подумал Чесменский и спрятал письмо…
Но вот настали страшные дни. Аристократия начала редеть в тюрьмах, увозимая ежедневно под топор гильотины десятками. Тюрьмы наполнялись другими лицами; начиналась другая жизнь. Власть сосредоточилась в руках самых кровожадных якобинцев Юры, которые под именем комитета общественной безопасности и комиссаров конвента, буквально злодействовали. Робеспьер, Дантон, Колло д'Ербуа, Сен—Жюст с Маратом, Пашем, Шера, Шаметом и гнусным Гебером, всех не перечтешь, были именно Божье наказание для Франции. Они нашли, что не довольно резать головы только аристократам, но следует всем, кто мог иметь к аристократам сочувствие, кто им служил, помогал; потом и этого показалось мало – кто не достаточно их преследовал. Затем кровожадность не удовлетворялась и такою широкою программою злодейства: она решила, что следует рубить головы всем, кто только чем-нибудь выше грязной черни, сколько-нибудь благороднее разбойника. И вот тюрьмы начали набиваться, в буквальном смысле слова, до тесноты, до отсутствия помещения, сперва метрдотелями больших домов, парикмахерами, часовщиками, горничными, камеристками. Потом пошли все федералисты, все жирондисты; наконец, выдуманы были подозрительные. А к подозрительным относились все, которые таинственно говорят о несчастиях Франции, которые жалеют купцов и откупщиков; которые водятся с дворянами, священниками и умеренными, которые не принимают деятельного участия в республиканском движении, и те, которые ничего не сделали против свободы и для нее. Бог знает чего не написал еще Шамет, чтобы иметь право признать подозрительным всякого, кто только не участвует в республиканских разбоях. На этом основании попали в тюрьмы купцы, отказывающиеся продавать товар дешевле, чем сами его купили; продающие что-либо дороже установленной таксы, отказывающиеся принимать ассигнации; не выполнившие платежа требуемой контрибуции, наложенной выше средств. Гильотина неустанно работала, не успевала снимать головы с приговоренных. В тюрьмах становилось теснее и теснее, приезжал объявлять им решения уже не звероподобный, гнусный Гебер, но не менее свирепый и еще более гнусный Функье—Тонвиль. Иностранцы давно находились вне закона, и Чесменский каждый день должен был ожидать, что тираж жертвовать своею головою выпадет на него.
Глава 7. Свой человек
Раздумывая о своем фальшивом положении, Чесменский не очень тяготился беспрерывным ожиданием смерти.
– Не все ли равно, – думал он, – ну, убил бы на дуэли Гагарин, или попался бы в иллюминатстве Карлу—Теодору, те ведь тоже отрубили бы голову! Не то, пожалуй, с голоду бы умер. Пожалуй, только мучений было бы больше: здесь, по крайней мере, одна секунда.
Но молодая жизнь брала свое. Ему не хотелось умирать. На нем лежат обязанности: первая – видеться с великим Анахарсисом, которого учитель Книге считает чуть ли не апостолом; а вторая, именно его кровное дело – месть. "Выполнит ли свое слово наше общество, – думал он. – Заставит ли оно его почувствовать силу умершей от мук, которым он ее подвергнул?" Спрашивал себя Чесменский и начинал рассуждать о своем положении с другой точки зрения. "Мало ли что может случиться, – думал он, – может быть, мое фальшивое положение бежавшего с родины незаконнорожденного от ненавистного отца изменится, и я займу надлежащее место в обществе не по отцу, а сам по себе. Притом, точно ли мгновенное лишение головы не заключает в себе особых, специальных мучений, может быть более ужасных, чем все мучения пытки?"
И ему приходили на мысль рассказы о двигающихся глазах у отрубленной головы за предметами любимыми в жизни; о движении языка…
Эти мысли приводили его в ужас, – волосы становились дыбом. Смерть от гильотины ему начинала казаться более страшною, чем какая-либо другая смерть. Без ужаса он не мог подумать о жизни головы без туловища и туловища без головы…
– Положим, несколько минут, но несколько минут! Ужасно, ужасно!
Одним вечером сидел он у себя и обсуждал все, что с ним случилось и чего он теперь ожидает. Вдруг постучали в дверь его комнаты.
– Верно, проклятый Фрукье, стало быть – конец, – сказал себе Чесменский, и сердце его невольно екнуло. Однако же он встал и пошел отодвинуть задвижку в полной уверенности, что сейчас услышит свой смертный приговор назавтра.
Это убеждение было тем вероятнее, что со времени казни Растиньяка, Легувэ и Буа д'Эни, а потом герцогини де Мариньи – он почти не выходил из комнаты, ни с кем не знакомился, потому к нему никто и не приходил.
Защелка отодвинулась, двери отворились, но перед ним стоял не Фрукье и не один из чиновников муниципалитета или надзирателей за тюрьмою, а человек, совершенно ему не знакомый.
– Позвольте войти? – спросил стучавший в дверь, слегка склонив голову перед Чесменским, когда тот ее отворил.
Спрашивавший был человек уже в летах и необыкновенно высокого роста – великан можно сказать – и сложенный стройно, но державший себя уже несколько сутуловато, может быть, вследствие своих лет.
Он казался еще молодым, истощенным и явно страдал болезнею печени. Цвет его изможденного, покрытого морщинами лица был изжелта-темно-бурый; волосы с густою проседью; взгляд тусклый, как и помертвелая улыбка на бледных губах.
Одет он был по-старинному, во французский кафтан и камзол, но без шитья; чулки и башмаки были без пряжек. Белье его, обшитое кружевами, было чисто, но не довольно тонко для парижского петиметра, особенно такого, у которого, как у него, на пальце сверкал значительно крупный бриллиант.
Вопрос свой пришедший сделал по-французски, но выговором неприрожденного парижанина, и Чесменскому, говорившему по-французски как француз, легко было угадать в нем иностранца.
– Сделайте одолжение! – отвечал Чесменский, вглядываясь с любопытством в пришедшего и, не будучи в состоянии определить своих ощущений, которых в нем обзор его производил. – Прошу покорно!
– Простите вопрос: вы русский, вы Чесменский, не так ли? – спросил тот, входя в комнату. – Гусарский корнет, бежавший из секретной арестантской петербургского генерал-губернатора и прибывший сюда видеться с нашим Анахарсисом. Не правда ли?
– Да, я русский, Чесменский, – отвечал он нерешительно, не понимая, каким образом могло быть известно, не только кто он, но и зачем сюда приехал.
– Позвольте мне рекомендовать себя: я тоже русский, бывший лейб-кампании вахмистр и армии секунд-майор, смоленский дворянин Семен Никодимов сын Шепелев: стало быть, свой человек, – отчеканил самым русским языком вошедший. – Может, слышали фамилию?
– Как же, даже имел удовольствие знать одного генерала Шепелева: видал во дворце и не редко встречались у Гагариных!
– Это мой троюродный, кажется, или в четвертом колене брат! Но это все равно! Я с ним не знаком, да и вообще, из своих я никого почти не знаю. Я в России с семьдесят пятого года не был, хотя, видите, России не забыть, и, узнав о вас, пришел познакомиться…
– Очень благодарен, очень благодарен! – проговорил
Чесменский, придвигая Шепелеву стул. – Просим гостем быть! – сказал он и сел подле.
Шепелев тоже сел.
Но это был не тот Шепелев, который, если читатели помнят, остановил на себе взгляд императрицы Елизаветы, отхватив ей по-молодецки на караул, чем возбудил к себе ревность Ивана Ивановича Шувалова, не тот, что нагло явился к обер-камергеру Александру Михайловичу Голицыну с просьбою дать ему денег и представить императрицу Екатерину, не тот, что продавал Квириленку, то в виде садовника, то повара или слесаря, даже не тот, что торговался с Потемкиным на человеческую жизнь. "Укатали сивку крутые горки" – говорит русская пословица. Время и жизнь взяли свое.
Нельзя было, впрочем сказать, что он особенно постарел, хотя, разумеется, семнадцать лет жизни для человека, которому и тогда было под сорок, не могли пройти бесследно, но все же, при своем высоком росте, он был еще видный и ловкий мужчина. Но он как-то совсем осунулся, потерял свой апломб, свою самоуверенность, с которыми готов был идти на всевозможные приключения.
К тому же нельзя было не заметить, что за это время он жил в другом обществе, вращался среди других людей, которые не могли не иметь на него большего или меньшего влияния и не отразиться на привычных приемах разговоров и выражений, тем более что он старался к ним примениться, старался приладиться. Движения его стали мягче, округленнее, не кололи глаз своей резкостью и угловатостью; голос сдержаннее. В нем не заметно было той явной наглости и того нахальства, которые могли усвоиться им только среди косности шляхетной дворни польских магнатов. Заносчивость бретера и низкое заискивание старого шулера могли быть замечены, но только кто знал близко его прошлое; для всех других они прикрывались некоторою светскостью, вежливостью, пониманием необходимости быть учтивым и сдержанным.
С тем вместе не могли же вовсе исчезнуть и те характерные отличия, которые определялись всем его прошлым и которые, от продолжительной привычки, стали присущими ему как бы естественно. Оттого в его приемах, разговорах, обращении обозначилось какое-то смущение. Он стал какой-то межеумок, то в высшей степени деликатный и сдержанный, то по-прежнему резкий; во всяком случае несравненно приличнейший, чем он был, но едва ли от того не более искусственный, стало быть, еще менее симпатичный.
Впрочем, это дело внешности, а для человека за пятьдесят лет внешность последнее дело. Но он был, действительно, другой человек по существу, по натуре, и эта перемена его могла бы даже вызвать ему симпатию, если бы он был не он. Дело в том, что, стараясь принять внешний вид и привычки интеллигентного общества и вращаясь в кругу лиц, анализирующих внутренние и внешние явления человеческой жизни, хотя только отвлеченно, ради гимнастического упражнения ума и навыка в светской диалектике, он невольно начал сам вдумываться в свои собственные действия. Результатом такого вдумывания явилось сознание всей нравственной низости его поступков и его привычной жизни. "Но и другие ведь не ангелами же живут!" – говорил он, стараясь оправдать себя и поднять в глазах своих нравственный уровень своего падения. "Но и не разбойниками же! – сейчас же невольно отвечал он, сознательно определяя себе истинное значение всей своей прошлой деятельности. – А я разбойничаю, хуже чем разбойничаю"…
Но, сознавая это, он чувствовал, что измениться он не в силах. Он слишком опутал себя привычками и отношениями, чтобы стать другим человеком. Он был не в состоянии победить себя, не в силах отказаться от требований, ставших его как бы второю натурою. Сколько раз, например, играя в карты, он давал себе слово не обманывать, не мошенничать. И действительно, случалось, честно начинал игру. Но вот как нарочно, игра шла против него. Он проигрывал, а проигрывая, невольно разгорячался, хотя наружно был покоен и весел. Проигрыш, наконец, начинал его задевать; страсть охватывала его внутреннее сознание и послушные его рукам карты начали исправлять то, что судьба хотела было испортить. Так и бретерство. Он не хотел бы, но вот блестящее предложение, и как раз в то время, когда особенно нужно, после значительной издержки или нежданной потери. Невольно начинается раздумыванье, разбирательства… "Ну, – думает он, – последний раз!" А потом опять…
– Не могу, что делать-то, когда не могу? – говорил он себе с болью в сердце. – Знаю, что подло, низко, но никак не могу!
Само собой разумеется, что и прежде, обманывая всеми способами и злодействуя даже до дуэльного убийства, он понимал, что живет нечестно. Он знал, что если попадется, то его обманы и злодейства не пройдут даром; потому старался не попадаться. Но он не оценивал всей гнусности своих поступков, всей низости и всего вреда, который деятельность его производит. Он никогда не думал о последствиях своих действий. Теперь же сознание, явившееся ему вдруг, вместе с развитием его мысли, при слабости воли отказаться, при подчинении себя вопросу. "Что же делать?", – вызвало в его душе невольное самоотрицание к самому себе, к гнусности своих поступков, их слабости, своей воли. Такого рода чувство, понятно, он должен был скрывать от постороннего взгляда, но оно его щемило, жгло, делало невольно желчным и хмурым…
А подобного рода внутренняя борьба человека в самом себе не может не разрушать его физически и нравственно; не может не ложиться на сердце невольною грустью, не может не старить.
И вот он теперь, сидя против Чесменского, облокотился на стол и глубоким, будто семидесятилетним хмурым стариком, вглядывался в его лицо своим тусклым взглядом и пасмурно улыбался, думая: "Вот уж никак-то не ожидает услышать того, что я ему скажу!"
– Да, вы русский, точно русский! – сказал он. – И лицо русское, и приемы, и взгляд, все это свое, родное, все это так отрадно встретить на чужой стороне, особенно изгнаннику, наконец, все это так напоминает мне мою молодость, что, простите, невольно засматриваюсь на вас, невольно любуюсь вами!.. Ведь здесь, на чужой стороне, мы, русские, все между собою родные, все свои…
Эти слова тепло отозвались в душе Чесменского. Он тоже давно не видал никого из русских, давно не слышал русского голоса, потому с невольною благодарностью ответил сочувственно на привет соотечественника.
– Недаром говорят, что вдали от родины, от домашнего очага, и дым отечества нам сладок, – продолжал Семен Никодимыч, находясь все еще под впечатлением своих мыслей и воспоминаний, – встреча со своим делает именно праздник душе. Почему, я не знаю, но сегодня мой праздник! Встретив вас, мне кажется, что я встретил родного!
– О, вы слишком добры, Семен Никодимыч. Поверьте, что с не меньшим чувством удовольствия и я вижу соотечественника, и если могу быть чем-нибудь полезным…
– Не знаю, будете ли чем полезны мне, – отвечал Шепелев с некоторым оттенком прежней резкости: – Но что я вам буду полезен – это верно! Вы давно в тюрьме?
– С самого дня убийства короля, около двух месяцев! И до сих пор не могу добиться ни допроса, ни обвинения!
– И не добивайтесь, пусть забудут! Этим только и можно спастись! А посажены вы были за выражения сочувствия казненному? Нельзя сказать, что вы были тонкий политик!
– Никакой политик, полагаю, не удержал бы своего негодования и не высказал бы невольно своего сочувствия тому, кого хотят убить скопом, толпою, массою и убивают только за то, что он родился их королем. Ведь ни на суд, ни на казнь его они не имели права, хотя бы на основании принятого ими самими добровольно соглашения о его неприкосновенности. Их право была только сила. Кого же не возмутит, когда при таком подлом убийстве, основанном на силе, еще поют и пляшут. Но, если их свобода заключается в том, что они будут заключать в тюрьму и рубить головы за выражение сочувствия страданию, то…
– Э, милейший соотечественник, здесь речь не о свободе, а о революционных страстях! – отвечал Шепелев. – Что же касается революционных страстей, то обыкновенно им не бывает удержу и они не только что убили короля, но убьют и королеву, и всех, кто только подвернется под руку, пока не начнут поедать самих себя. Ведь если они не убили до сих пор нас с вами-то, поверьте, только потому, что им некогда, что есть кого убивать поважнее! К тому же и забыли, пожалуй, по крайней мере, вас… Но дело не в этом! Я полагаю, что вам тюрьма таки порядочно надоела?
– Более чем надоела, лучше смерть!
– Оно не лучше, а все же, понимаю, что скучно, очень скучно! Ну а как я теперь уверился, что есть вы, то есть именно тот русский, которого я отыскиваю, то вот ваш билет на свободный выход, то есть на полное ваше освобождение. Я уверен, что, выйдя отсюда, другой раз сюда вы не попадете!
С этими словами Шепелев подал Чесменскому приказ прокурора Парижской коммуны Шомета, написанный на бланке, за его собственноручною подписью и за приложением его печати. Там значилось:
"Предъявителю сего, иностранцу из русских Шепелеву, за услуги, оказанные им для свободы, предоставляется оставить занимаемую им тюрьму "Свободной пристани", для чего обязывается он предъявить этот приказ своему тюремному начальству, которое обязывается его немедленно освободить".
Чесменский прочитал, осматривая внимательно бумагу.
– Итак, вы свободны. Поздравляю, искренно поздравляю! – сказал он. – От души желаю, чтобы вам удалось избежать всякого преследования таких либералов, которые сочувствие страданию признают преступлением!
Чесменский подал приказ обратно Шепелеву.
– Меня поздравлять не с чем! – отвечал Шепелев. – Приказ, правда, написан на мое имя, но написан для вас, и я предоставляю вам им воспользоваться! Он даже взят именно для вас! – И Шепелев не принял от Чесменского возвращенной бумаги: – Нас, русских, в этом помещении, купленном на счет Кресси, Растиньяка, Буа д'Эни, Легувэ и других аристократов, всего двое, – объяснял Шепелев, – один я, которого называют старым русским, а вас молодым. Фамилий же ни старого, ни молодого русского они не умеют хорошенько и выговорить. Кто из нас Шепелев и кто Чесменский, не знает ровно ни один человек. В приказе никаких примет не означено. Он у вас в руках, вы и пройдете! А там, какое вам дело, что они в своих книгах отметят Шепелева выпущенным, а Чесменского оставленным. Вы будете свободны, стало быть, и дело ваше будет в шляпе!
– Допустим, что я по этому приказу действительно пройду, а вы-то как же?
– Я останусь по книгам под именем Чесменского, пока не докажу, что я не Чесменский, а Шепелев, которого определено выпустить, пока не добуду нового приказа…
– А если прежде, чем вы это докажете или новый приказ добудете, Чесменскому будет приказано отрубить голову?
– Ну, что ж, и отрубят! Не я первый, не я и последний, которому рубят голову по ошибке. Оно, может быть, будет и кстати. Ваша жизнь еще впереди, а я свою, хорошо ли, худо ли, уже прожил, надо же когда-нибудь! Смерти я не боялся никогда… Впрочем, это уже не ваша забота.
– Нет, Семен Никодимович, – отвечал Чесменский твердо. – Благодарю вас за это предложение, но согласиться на него, ввиду того, что вам вместо меня могут отрубить голову, я не могу!
– Да я и не спрашиваю вашего согласия. Вы должны!
– Должен?
– Да! Вы иллюминат?
Чесменский затруднился ответом. Иллюминаты принимали присягу не говорить о себе и своем иллюминатстве. Он молчал.
– Вы, пожалуйста, не церемоньтесь, а говорите просто. Вы иллюминат и посланы сюда братством, чтобы видеться с Клоотцем, этим великим Анахарсисом Французской республики, и переговорить с ним о слиянии иллюминатов с массонами и тугенбундом! – сказал Шепелев, делая соответственный знак, напомнивший Чесменскому то, что он видел прежде…
– Если вы знаете… – сконфуженно пробормотал Чесменский, но Шепелев перебил его:
– В том-то и дело, что все знаю. Видите, я тоже иллюминат, только вы минервал, сиречь ученик, а я уже даже и не брат, а мастер; вот вам мой кадуцей, как знак мастера, и вы обязаны мне полным послушанием. Теперь как мастер, учитель нашего братства, именем принесенной нашему обществу присяги, я вам приказываю: взять мой приказ, сейчас же выйти с ним из тюрьмы и исполнить данное вам трибуналом нашего общества поручение видеться с Анахарсисом! Признаюсь, от этого свидания я ничего не ожидаю, никакого толку, но общество, отправляя вас, принесло значительные пожертвования, теперь предоставляет вам к тому способы, и, данное вам поручение вы исполнить обязаны!
Чесменский не знал, что отвечать.
– Но помилуйте, какое же я имею право оставлять за себя другого, может быть, на смерть? – проговорил он в колебании, не зная, что сказать.
– Я уж говорил вам, что это не ваша забота! Но успокойтесь! Во-первых, без особой случайности, что приговор вести вас на гильотину выйдет именно сегодня вечером, тогда как он не выходил два месяца, мне головы не отрубят; завтра же, много послезавтра у меня будет другой приказ несомненно. Во-первых, если бы уже так случилось, что мне действительно отрубили голову, то вам ни думать, ни беспокоиться о том нечего. Мне заплачено!
– Как заплачено?
– Как обыкновенно платят! Чистыми, новенькими экю и луидорами, а частью фридрихсдорами! Впадая с соотечественником и собратом в невольную откровенность, может быть, под влиянием выпитой за завтраком бутылки доброго вина, я вам скажу, что весь век я жил тем, что продавал свою жизнь на риск! Зачем и как? Это не ваше дело! Ваше дело воспользоваться тем, что вам предлагают, и исполнить то, что вы обязаны.
Чесменский молчал.
– Послушайте, – продолжал Шепелев, как-то особенно махнув рукой. – Мне о вас говорил Буа д'Эни и говорил как о молодом человеке, вполне достойном. Познакомившись теперь с вами, я готов еще более ценить вас, хотя бы за ваше колебание, и признаюсь, очень рад, что мой теперешний, весьма впрочем отдаленный риск спасает такого, как вы прекрасного юношу и еще моего соотечественника. Мой риск столько раз приносил зло, что я счастлив, что хотя этот раз он сделает добро. Что же касается меня, то для меня решительно все равно: на дуэли ли меня убьют, якобиты ли на гильотину отправят или там в игре какой-нибудь горяченький… Я игрок, играю на свою собственную жизнь; играю не со вчерашнего дня, потому привык в лицо смотреть смерти. А здесь и риск-то не велик – всего один вечер. Ну, да что об этом говорить. У меня нет цели в жизни, а у вас есть. Помните, о чем говорили вы с бароном Книге?
– Вы и это знаете?
– Мало ли, что я знаю, не знаю только того, зачем вы пошли в иллюминаты? Положим, что в настоящую минуту они вас выручают, но выручают из того, куда вы попали по их же милости. Не будь вы иллюминатом, вы не были в Париже, не сидели бы и в тюрьме. Да и теперь, выручают они вас для себя, а не для вас. Начнутся переговоры с Анахарсисом, вы, пожалуй, будете в большей опасности, чем теперь: вас легко могут признать за шпиона. Признаться, мне жаль вас. Скажите, зачем вам понадобилось иллюминатство.
– Как зачем? Затем же, полагаю, зачем пошли в это общество и вы: содействовать просвещению, уничтожению, уничтожению предрассудков и гнета и увеличению общего благосостояния!
– Все это вздор, милейший соотечественник, простите великодушно! Общего благосостояния вы не увеличите ни на полсантима; не уничтожите даже такого предрассудка, что с постели нужно вставать правою ногою; что же касается просвещения, то всякий школьный учитель в этом отношении принесет практической пользы более, чем все наше общество. Между тем вы служите чужим целям, может быть, существенно вредным, и уже никак не полезным для нашего общего отечества, которое, кто бы что ни говорил, но мы, русские, не можем не любить и которое вот я люблю, несмотря на то что уже семнадцать лет считаюсь его изгнанником и еще до того, более двенадцати лет шлялся по разным странам, промышляя именно тем, что продавал себя и жизнь свою всякому проходимцу, открещиваясь иногда даже от русского имени. Но все это не то! Если я и прятался за Жмудь или за Польшу, то не принимал обязательств, вредных России, до тех по крайней мере, пор, пока мог считать себя не совсем еще отрезанным ломтем. Но не обо мне речь. Вы-то из-за чего такое обязательство приняли, из-за чего себя связали? Ведь вы, надеюсь, не сделали никакого злодейства, которое бы делало возврат вам в Россию невозможным?
– Надеюсь! Я бежал из-под ареста, я был арестован за дуэль, которая ничем не кончилась, так как во время самой дуэли нас арестовали!
– Зачем же тут было бежать? Ну посидели бы под арестом, дело не важное! Ведь вот отсидели же здесь почти два месяца!
– Но тут сплелись такого рода обстоятельства, которые заставили меня полагать, что ко мне отнесутся иначе, чем к кому-либо; а иллюминаты меня спасли!
– Спасли! От чего?
– Не знаю, может быть, от пыток, вечного заключения и еще Бог знает чего…
– Гм! Ну, положим, хотя, по-моему, тут ни о пытках, ни о казни и речи не могло быть. Но, положим, спасли, и спасибо им! Нельзя же за то, что они потрудились вас из трущобы вытащить да тройку лошадей нанять, им всего себя закабалить. Ведь и благодарность имеет свои пределы. А то придется рассуждать так, как рассудил один итальянский лаццарони. Не ел он, бедный, дня три, есть было нечего, вот он и надумался зайти в какую-нибудь тамошнюю харчевню и велел подать блюдо поленты. Ему подали, он и давай убирать за обе щеки. Думает: ведь не повесят же, на авось как-нибудь удеру! Но хозяин харчевни был человек ловкий и опытный. Он его не выпустил и на выходе успел задержать. "Постой брат, деньги! А? Денег нет!" Послали за сбирами. И моему лаццарони худо приходилось. Может, три дня улицы бы мести пришлось, а может, и целую неделю на хлебе и воде высидел бы. Только, как нарочно, в харчевне, ради своих особых похождений с какой-то мещаночкою, находился инкогнито какой-то граф. Он должен был чего-то ждать в харчевне, чем на солнечном припеке на площади. Граф был человек добрый. Видя тесное положение бедняка, он спросил, что стоило блюдо поленты. Ему сказали цену, что-то вроде русского двугривенного. Он, ни слова не говоря, заплатил двугривенный и тем заставил бедняка освободить. Прошло так год или меньше времени, бедняк где-то встретил графа, подошел к нему с выражением своей благодарности да и говорит, что кажется нет того на свете, чего бы для него он не сделал. А граф и отвечает: "Уж если хочешь для меня что-нибудь сделать, так вот видишь, мой злодей соперник идет в процессии, избавь меня от него и я ни за чем не постою". Лаццарони заметил того, на кого ему показал граф. В ту же ночь он его подкараулил и убил. Но убить то убил, а убежать не удалось, попался; и его как следует повесили. Графского спасибо ему и увидеть не удалось; так что и вышло, что он попал на виселицу в благодарность за двугривенный! Ну, подумайте, стоило ли? Ведь во всем должен быть разум! Положим, например, что вам здесь теперь отрубят голову, не разыграете ли вы против иллюминатов роль этого же лаццарони? И тоже даже спасибо не увидите!
Чесменский вспыхнул.
– Ни в коем случае, – отвечал он горячо. – Я поехал сюда не из благодарности и не из-за денег! Я поехал потому, что думаю, что согласие известных вам обществ будет содействовать развитию человечества и возвышению общего благополучия.
– Полноте, какое тут общее благополучие. Тут дело свое, дело домашнее. Барон или отец Иосиф, иезуиты или иллюминаты? Кому из них власть и деньги, а кому изгнание и кара? У них свои цели, свои планы, свои способы достижения. И вот они морочат людей, каждый на свой лад: кто иезуитством, масонством, кто карбонарством и иллюминатством. Одним словом, кто во что горазд! Да нам-то, русским, что? Ведь известно: немец обезьяну выдумал, да нам-то, русским, зачем из себя обезьян ломать и пустых брехунов вырабатывать?
– Зачем же вы сами иллюминатство приняли?
– Я другое дело! Вы ничего не слыхали обо мне?
– Напротив, имел удовольствие слышать и желал даже познакомиться. Вы вызывали на дуэль Робеспьера?
– Э, это не в зачет, это глупость! Но я, собственно я, как говорят, бретер! Вы знаете, что такое бретер?
– Сорвиголова, дуэлист!
– Да, сорвиголова, дуэлист, такой дуэлист, который из дуэли сделал себе ремесло!
– Разве можно из дуэли сделать ремесло, труд?
– И дуэль труд и еще тяжкий и опасный! Вы скажете: неразумный. Я не отвергаю, не спорю о разуме труда в смысле общей пользы, стремления к общему благосостоянию. Но для меня-то он был очень разумен, потому что давал мне средства не только жить, хорошо жить, но даже мотать. И не будь этих проклятых якобитов да санкюлотов, я бы, верно, и теперь бы жил, мотал и, вероятно, не думал бы ни о чем! Но вопрос не в том! В России я сделал злодейство. Мне в Россию возврата нет! Зато из России выехал с деньгами. Привез с полмиллиона франков. Для меня полмиллиона франков была сумма и огромная и ничтожная. Огромная потому, что могла служить приманкою каждому; ничтожная, потому, что я хотел проживать тысяч по триста в год, а с полумиллиона, что ни делай, не трогая капитала, с трудом получишь тридцать. Откуда же мне взять остальные? Ясно, с общества. А для того нужно было быть в обществе, в которое нужно было втереться; втереться же в свет Сен—Жерменского предместья, в цвет французской аристократии, с каким-то ничтожным полумиллионом, да еще тому, кто перед тем от крайности держал стремя Радзивилла, было бы без посторонней помощи невозможно. Вот для такой-то посторонней помощи мне иллюминаты и были нужны. Ну, и стал я платить иллюминатский взнос, с тем, разумеется, чтобы и они платили мне за каждое исполняемое мною по их приказу поручение. Дело было выгодное. Ну, а им тоже было приятно в числе своих полуслепых исполнителей, за деньги разумеется, иметь ловкого бретера, сорвиголову, которому жизнь копейка и который за деньги на все пойдет. Стало быть, они были нужны мне, а я нужен им, – вот мы и сошлись. А вы-то что, вы-то бьетесь из-за чего?








