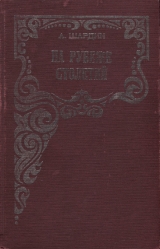
Текст книги "На рубеже столетий"
Автор книги: Петр Сухонин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
И Гагарин понимал, что не на то идет. Не обер-полицмейстер привез бы приглашение, если бы он мог ожидать чего-нибудь для себя приятного "Непременно достанется, – говорил он себе, – только за что?"
"Не проболтался ли я где? – думал Гагарин. – Не Зубов ли нажаловался? Впрочем, кажется, не за что?" И он невольно робел.
Относительно дуэли ему и в голову не приходило полагать, чтобы она могла быть причиной приглашения его к государыне. Правда, говорили, что Екатерина сочиняет строгий закон о дуэлях; но пока этот закон не выдан, на дуэли вообще смотрели сквозь пальцы, полагая, что они поддерживают воинственность настроения в армии. Поэтому о дуэли Гагарин решительно ничего не думал. В чем же дело?
Гагарин знал хорошо, что его не подвергнут ни истязаниям пытки, ни смертной казни, что могло бы случиться при Бироне; знал, что государыня не станет ни допрашивать, ни на имение его налегать. Но он знал также, что Екатерина как награждать, так и наказывать умеет и, пожалуй, распорядится так, что и без пытки пожалеешь о пытке.
Поэтому невольно екнуло сердце Гагарина, когда Зотов, отворив двери в китайскую комнату, дальше не пошел и остановился у дверей. Ясно, государыня там. Войти нужно. Гагарин вошел с невольным чувством сомнения и страха.
Все писатели, хроникеры, частные лица в записках, письмах, преданиях говорят о необыкновенной выразительности глаз Екатерины и необыкновенной подвижности ее улыбки. Когда она хотела кого обласкать, то светло-голубые глаза ее обдавали того каким-то светом особой мягкости, особой доброты и производили чарующее впечатление; обаяние улыбки ее в это время было изумительно. Она как бы сияла от нежности, от сочувствия, от любви ко всему окружающему. Екатерина никогда не была хороша, даже смолоду, но она была лучше, ее лицо было выразительно, а глаза и улыбка ее очаровательны. Зато, когда она хотела выразить чувства противоположные, когда ее охватывали досада, гнев, ненависть, то глаза ее как-то темнели, начинали отсвечивать сталью, получали какую-то непонятную неподвижность и из-под нахмуренных бровей императрицы смотрели так, что никто не выдерживал ее взгляда, и долго не забывал его тот, кому случилось его вызвать. Недаром Петр III говорил, что боится глядеть в глаза своей жены, и он был справедлив. Взгляда ненависти Екатерины можно было бояться, и его нельзя было забыть. Равным образом и ее улыбку. При чувстве неудовольствия ее нижняя челюсть подавалась несколько вперед и придавала выражению ее лица такую жесткость, такое тяжелое упорство, вызывающее даже легкое дрожание ее верхней губы, которые не забывались никогда. Вот таким-то взглядом, такой-то улыбкой Екатерина встретила входящего Гагарина. Перед такой грозой он совершенно потерялся.
– Что это, князь, вы нонче в бретеры записались, дуэлями промышлять начинаете? – заговорила Екатерина, когда он вошел. – И при этом ваши вызовы направляете прямо на меня, да еще как, вызывая мальчиков на дуэль за то, что они с точностью исполняют мои повеления? Гагарина эти слова будто обдали варом. Его даже прошиб пот. Бессознательно, машинально, совершенно под влиянием внешней давящей силы он опустился на колени.
– Вы вызвали лейб-гусара на дуэль за то, что он, исполняя мое повеление, носит установленную мной форму?
– Виноват, всемилостивейшая государыня, не подумал я, не знал… и он… он… – мог только проговорить Гагарин.
– Так это правда? – сказала она. – Чего же вы хотели? Вы хотели, чтобы целый полк оказал мне непослушание? Вы вызвали на дуэль из-за усов, стало быть, желали, чтобы, вопреки моей воле, гусары перестали носить усы?
Екатерина сама несколько замялась, высказывая это неприличное по тогдашним понятиям слово, хотя она любила называть вещи их настоящими именами и, подражая старинным русским барыням, не задумывалась употреблять иногда не только на словах, но и на письме такого рода выражения, которые не всегда удобно напечатать. И тут она замялась только на мгновение, но потом сказала ясно и твердо:
– Из-за усов, которые носить я установила? И вызвали мальчика, которому нет еще двадцати лет?
– Ваше величество, – вдруг вздумал сказать Гагарин, – никогда я не смел и не думал идти противу ваших всемилостивейших повелений. Но здесь усы были только один вид, служили только предлогом.
– Предлог? А действительная прлчина?
– Причина, Ваше величество, та, что случайно познакомившись с Чесменским и пригласив его к себе, я не имел в виду, что откроется война и мне придется приютить у себя мою свояченицу, дочь генерала Ильина. Взяв же на свое попечение молодую девушку, я должен за нее ответствовать. Чесменский видимо за ней ухаживает, несмотря на то что и я, и моя жена княгиня не один раз давали ему явно почувствовать, что его ухаживанье совершенно неуместно. Наконец, мы были вынуждены дать ему понять, что его частые посещения нам неприятны и что мы будем рады, если он исключит наш дом из числа своих знакомых. Жена моя заметила, что его ухаживанье начинает уже смущать молодую девушку. Он перестал ездить, но продолжал свое, встречая свояченицу у многих общих знакомых. Тут подоспело его производство и он перестал выезжать. Мы думали, что этим все и кончится, тем более что жена с сестрой своей уехали в деревню. Но вот они воротились, и он, к нашему огорчению, незваный-непрошеный вдруг явился опять. Я счел себя обязанным потребовать объяснения, и вот… Позволю себе доложить Вашему величеству, что никто из всепреданнейших вам подданных никогда не осмелится и подумать идти противу священнейших повелений ваших; но тут был только предлог, придирка…
– Отчего же вам так не нравится ухаживанье Чесменского за вашей свояченицей? – спросила Екатерина.
– Помилуйте, Ваше величество, она дочь генерала, девушка с состоянием, столбовая дворянка. На одной сестре женат я, Ваше величество.
– А Чесменский? – самолюбиво спросила Екатерина.
– Неизвестного происхождения, Ваше величество.
– Он дворянин, он записан дворянином! Иначе он не мог бы служить в моей конной гвардии, – горячо и нервно проговорила Екатерина.
– Неизвестного происхождения, Ваше величество! – повторил Гагарин механически, повторил так, как, может быть, предки его, бояре, когда-то тоже механически, по преемственному обычаю, сползали за царским обедом со скамьи, на которую их насильно посадили, под стол и твердили свое: "Твоя воля, батюшка государь, вели хоть голову снять, хотя батогами на подклети до смерти избить, а сидеть мне ниже собачьего сына Васютки Анучина не можно. Его дед в служивых подьячих был, прадед псарем, и только с его отца Анучины боярскими детьми считаться начали; а мы заведомо родовые князья и твоей царской чести всегда в ближних боярах служили и воеводствами заправляли! Да и мать его, да и отца его… да и сам он, молокосос эдакий, кнутом был бит". И дальше, дальше начинали перебирать, правду ли, не правду ли, все равно, было бы обидно.
А в это время седой как лунь боярин Василий Евтихеевич Анучин, обозванный молокососом, вставал со своего места и бил челом в оскорблении, хотя в сущности нисколько не оскорблялся, а был очень доволен, потому что знал, что Гагарин врет от досады, по обычаю. И все знали, что он врет.
Точь-в-точь, так же механически, преемственно, по обычаю, нисколько не думая ни о последствиях своих слов, ни о том, что государыня его словами может действительно оскорбиться, повторил он вновь свои слова:
– Неизвестного происхождения, Ваше величество, поэтому в родство с князьями Гагариными ему вступать не приходится!
Екатерина рассердилась окончательно. Из стального, упорного взгляда ее сверкнула искра. Губы судорожно заходили. Машинально она засучила рукава своего капота и большими шагами прошлась несколько раз по кабинету.
– Неизвестного происхождения, смеете вы сказать! – прикрикнула она. – Неизвестного происхождения, когда он записан дворянином по высочайшему повелению! Или вы осмеливаетесь судить и даже осуждать поступки вашей государыни? Вы, должно быть, забыли пример, который на вашем же роде показал император Петр Великий, и смеете рассуждать!.. Неизвестного происхождения, скажите! Местничество, по-вашему, что ли, ввести нужно?..
Гагарин опешил. Ему пришло в голову: "Ну, а как он ее сын?"
– Он известного происхождения, милостивый государь, – продолжала Екатерина нервно. – И хотя не мой сын, но я его покровительница! Он сын графа Алексея Григорьевича Орлова—Чесменского. Того Орлова, на которого опиралась ваша государыня, вступая на престол! Заслуги которого отечеству не может не признать каждый, и их признает ваша государыня. Того Орлова, который столько раз вел русский флот к победе, кто чесменским делом дал России морское значение. Того Орлова, который в то время, когда вы забавлялись каруселями и развратничали, гоняясь за крепостными девками и приезжими актрисами, посвящал себя службе своей государыне… Происхождение определяется заслугами, милостивый государь! А где и в чем ваши заслуги? В праздности, в пустоте, в самолюбивом чванстве! И вы сравниваете себя с ним? Извольте идти вон! Я не хочу вас видеть. Но чтобы этой дуэли не было, я не хочу! Слышите! Иначе я над вами повторю пример, который показал Петр Великий. Слышите? Извольте идти!
Гагарин вышел совершенно отуманенный. Государыня рассердилась так, как он никогда и не слыхал, чтобы она сердилась.
Выйдя в кавалергардский зал, он увидел обер-полицмейстера, стоявшего на вытяжке, двух кавалергардов и двух гусар. Их пригласил догадливый Николай Константинович Зотов, на случай, если Ее Величеству угодно будет сделать какое-либо распоряжение. Однако ж распоряжения никакого не последовало. Государыня позвала к себе только одного Рылеева и повторила ему свою волю, чтобы дуэли не было ни в каком случае и ни под каким предлогом и видом.
Она с Рылеевым говорила уже спокойно и, отпустив его, велела звать вице-канцлера Остермана, чтобы принять второй доклад.
Глава 4. Кто кого перебежит?
За много лет до того, как юноше Чесменскому пришлось отстаивать свои едва пробившиеся усы, за столько лет, что тогда еще он и не родился, Екатерина была глубоко поражена и даже оскорблена другою дуэлью, о которой до сих пор не могла вспомнить без содрогания.
Она собиралась ехать в Москву, праздновать заключение Кучук—Кайнарджицкого мира с Турцией. Ей хотелось, чтобы торжество было полное. После стольких побед на суше и на море, после уничтожения всех крамол, интриг, кляуз, затруднений она желала самым торжеством выразить чувство своего удовольствия. Празднование она решила устроить в Москве – сердце России. Екатерина знала, что этим она вызовет в народе себе сочувствие, а она очень дорожила всем, что дорого народу. Теперь с нетерпением она ожидала известия о ратификации трактата. Она желала мира. Жертвы войны становились для России уже слишком тяжкими. Но она желала мира славного, каков и был Кучук—Кайнарджицкий в предположенном проекте. Она невольно сомневалась. Она помнила, что три года назад козни и интриги врагов разрушили конгресс в Фокшанах, а конгресс этот давал России то же, что и теперь. "И я должна была без всякой пользы для себя вести войну еще три года, – думала Екатерина. – Что если этот выгодный, этот славный для моего царствования трактат и теперь не будет подписан? И опять война? Но Россия уже истощена, у нее уже нет средств. И так принесены были жертвы чрезвычайные. Но нет, нет! Они подпишут! Трактат состоится. Турция истощена несравненно более, чем Россия. У Турции средств еще менее. Для нее мир еще необходимее!.. Но отчего же дело идет так медленно, чисто по-турецки? Чего тянуть?"
Екатерине наскучило ждать, и она выехала из Петербурга, написав Румянцеву и Репнину, чтобы ратификованный трактат прислали к ней прямо в Москву, с тем, чтобы по его получении немедленно начать предполагаемое торжество. "Все же в Москве я на неделю времени буду ближе ко всем вестям", – думала она.
Екатерина была очень весела. Да как было и не быть веселою и довольною Екатерине, когда все события, будто нарочно, располагались так, чтобы ее возвышать, успокаивать, тешить ее самолюбие; когда самые, казалось, враждебные обстоятельства обращались ей в пользу, унижали ее врагов и завистников? Пугачев был пойман и сложил уже свою буйную голову; самозванку везут, Голицын в Петербурге ее допросит. "Во всяком случае я ее не выпущу из рук", – думала Екатерина. Все эти внутренние враги, эти мелкие заговорщики пойманы, посрамлены, уничтожены; а тут слава Кагула, Чесмы, ее законодательства – величие и красота ее сооружений. "Теперь Крым будет отделен от Турции, – думает государыня, – и, естественно, подчинится влиянию России… должен подчиниться – прибавила она. – А вот прусский король делает мне лестное предложение, да! Лестное и выгодное предложение. Одного боюсь: "плут большой" этот прусский король, этот Фридрих или Фриц, как его прозвали немцы! Но предложение точно выгодное. Он предлагает, в возврат всех жертв войны и за отдачу назад Турции завоеванной мною Молдавии, взять у Польши старинные, коренные русские области, почти сплошь занятые православным населением. Это предложение тем уже хорошо, что избавляет от опасности новой войны – войны более трудной, чем турецкая – с австро-венгерской королевою Марией—Терезией, которую, разумеется, будет поддерживать и Германия, так как германский император Иосиф – ее родной сын, наследник и соправитель, а Мария—Терезия признает присоединение Молдавии к России в такой степени вредным для своих и германских интересов, что решилась во что бы то ни стало тому препятствовать. Прусский король предлагает выход. Разумеется, он главное хлопочет о себе. Тут ему придется хорошенький кусочек даром.
Да кто же не хлопочет о себе? К тому же и войны ему не хочется. После Семилетней войны, когда, говорят, он уже и пистолет сам для себя зарядил, он против войны всеми мерами… Но и мне, обсуждала Екатерина, присоединение польских областей, предлагаемых Фридрихом, выгодно. Оно, во-первых, прекращает одно из неприятнейших дел с Польшею о диссидентах – дело, в котором замешана моя честь, страдает мое самолюбие и которое поляки, по упорству и под влиянием фанатических учений, Бог знает куда тянут: так что легко может выйти, что придется воевать с ними и без прусского короля. Этим, обдумывала Екатерина, границы Империи округляются, средства наши усиливаются присоединением областей с развитою культурою и трудолюбивым населением; наконец, я становлюсь собирательницею русской земли, как Иван III и Петр I, и мое имя не забудет история. Одним словом, все идет хорошо, все как по маслу, только скорей бы трактат! Скорей бы ратификованный султаном трактат".
Но в то же время как она это обсуждала, стремясь к принятию мер, охраняющих, обезопасивающих и усиливающих государство, кругом нее, между лицами, самыми к ней близкими, кипела зависть, велась интрига, глухая, внутренняя, подземная, тем не менее упорная и деятельная. Дело в том, что придворные заметили, что самый близкий государыне человек, ее любимец, генерал-адъютант Александр Семенович Васильчиков ей страшно наскучил. Она не только избегала оставаться с ним с глазу на глаз, но положительно раздражалась, когда ей докладывали, что он к ней явился. "Не сегодня-завтра она непременно его от себя отпустит", – говорили придворные. "Кто же будет на его месте?" Этот вопрос занимал собою всех.
Граф Никита Иванович Панин всего более боялся, чтобы не возвратился опять граф Григорий Григорьевич Орлов. Ему так трудно было его удалить. Почти десять лет бился, сам десять раз был на волоске. Да и не удалось бы, несмотря на все его дикие выходки и бешеный характер, если бы самому не пришла в голову глупость ехать на конгресс в Фокшаны. Ну, удалось, и вдруг опять. "Беда! – думал Панин. – Теперь он знает, что я шел против него, и, разумеется, не простит. Орловы не такие мальчики, чтобы обиды забывали. Нужно не допустить, во что бы то ни стало не допустить! Пусть возьмет кого хочет, только бы не его".
Чернышевым было недовольно того, чтобы не возвратился Орлов, хотя они также с возвратом его теряли всякое влияние – им еще нужно было, чтобы место Орлова не занял кто-нибудь из старой аристократии. Они знали, что старая аристократия очень их не жалует, как продукт нового быта. А потеря влияния людям честолюбивым, пронырливым и умеющим извлекать себе из этого влияния пользу, была чуть ли не хуже смерти.
Князь Александр Алексеевич Вяземский, напротив, стоял за своих. Ему очень хотелось, чтобы государыня приблизила к себе кого-нибудь из Трубецких, Барятинских, Голицыных, Куракиных. Со всеми у него было знакомство, со всеми связи, родство. Он не прочь был и от Нарышкиных, Лопухиных и Стрешневых, но не желал Салтыковых, хотя тоже и с ними был в свойстве. Он боялся салтыковского честолюбия.
Николай Иванович Салтыков тоже, пожалуй, не прочь бы и от старой аристократии; он не боялся и новых выскочек, помощию фавора его положение было прочно. Но он очень боялся усиления влияния Вяземского и Панина. Таким образом, все сторожили, выскакивали, держали, как говорят, ухо востро, все хотели вперед уловить, на ком остановится взгляд Екатерины.
Но взгляд Екатерины пока не останавливался ни на ком. Удовлетворенная в своем самолюбии, занятая предстоящим торжеством и видимым выражением к ней народного сочувствия, развлеченная необходимостью приема множества новых лиц, – она только и думала о том, чтобы скорее получить ратификованный трактат и войти в соглашение с прусским королем о Польше. К тому же жизнь, полная мысли, литературный труд и многообразные сношения отвлекали ее от идей, которые могли бы давать пищу ее воображению. Она скучала только с Васильчиковым, по совершенной его неспособности войти хоть сколько-нибудь в общественные интересы, но нисколько не интересовалась никем другим.
– Мне некогда скучать, некогда и фантазировать, – говорила Екатерина близким к ней дамам, которые, желая выведать ее мысли, нарочно заговаривали о своих мечтах, о скуке обыденной жизни и неудовлетворенных желаниях. – У меня теперь одно желание, – говорила Екатерина, – получить подписанный трактат!
С этим трактатом из армии, от Румянцева летел на курьерских, не переводя дух и не жалея ни арапника для спин ямщиков, ни рублей им на водку, молодой генерал Григорий Александрович Потемкин.
Он добился своего. Фельдмаршал поручил ему отвезти и представить государыне подлинный, подписанный султаном мирный трактат. Кроме того, фельдмаршал дал ему несколько поручений к государыне и еще особое письмо, в котором, выражаясь весьма лестно о его личных военных заслугах, писал о многом таком, что давало ему повод к неоднократному и интимному докладу государыне.
"Этим можно и должно воспользоваться, – думал Потемкин. – Оно и дано мне с тем, чтобы я этим воспользовался".
"Да, – думал он, подпрыгивая в своей курьерской повозке, которую приходилось ему то ставить на полозья, то опять поднимать на колесный ход, – добился! Будет ли только в этом толк?.. А стоило же это мне, черт возьми! – вспоминал Потемкин. – Почти два года возился; все равно что воз на себе вез; какое – хуже! И сравнения не выдумаешь!.. Тяжело, очень тяжело было! Оно не то тяжело, что приходилось всюду на рожон лезть, как сумасшедшему… это бы еще куда ни шло! Ну, снял бы там какой-нибудь бешеный турок голову или уложила бы турецкая пуля – и делу был бы конец. Жизнь – копейка, о ней ни думать, ни жалеть нечего! Но было досадно, было обидно, что капризник наш будто ничего не видит; что я ни делаю – решительно не замечает. Ясно – умышленно! Не хотел видеть, потому и не видел. И случаи-то еще какие попадались, будто нарочно, прямо перед его глазами, а он все ничего, будто не заметил, или будто иначе и не бывает, будто ничего особого и не было. И ни полслова, ни за что!.. Ну, думаю, черт с тобою, ты не хочешь ничего видеть – другие видят. Я свое дело буду делать. Может быть, через кого-нибудь и дойдет. По крайней мере, никто не скажет, что Потемкин на войне свою голову берег, о жизни своей думал. Да пропадай она совсем, жизнь-то эта! Не нужна она мне…"
– Пошел, пошел! – закричал Потемкин на ямщика, заметив, что тот хотел дать перевести дух лошадям.
За этим возгласом повозка опять понеслась во весь дух.
"Дело не в том, чтобы жить, а в том как жить? – продолжал рассуждать про себя Потемкин. – Это вопрос, это дело! Пожить бы хоть немного, да хорошо. А то… Вот, например, если бы мне пришлось снова ухаживать за нашим полугениальным, полусумасшедшим фельдмаршалом, за этим отставным ловеласом, мотом, игроком; за этим скабрезником, с которым не знал, как и управиться Фридрих Великий, когда он был в Берлине, в то время, как он управлялся со всею Европою, а теперь обратившимся в подозрительную ханжу; за капризником и лицемером, который, кажется, чуть ли не на своем носу видит дьявола; притом, таким хитрецом, что он и дьявола-то, кажется, хочет надуть; хитрецом, который в Молдавии, за три тысячи верст, видит, что делается в Петербурге, и зорко следит за всем, что может коснуться его самолюбия или выгод. Впрочем, всегда и везде он был хитрецом. Еще в детстве, говорят, он, мальчишкою, сумел семь нянек проводить, да так, что раз, убежав от них, попал в прорубь. А потом, быв уже офицером, в Берлине, когда Фридрих с ума сходил от его скандалов и, по просьбе его отца, Александра Ивановича, велел отыскать и арестовать его во что бы то ни стало для отправки в Россию, он сумел явиться к тамошнему обер-полицмейстеру под чужим именем и предложил свои услуги поймать самого себя. И за такую обещанную им услугу успел две награды схватить – это от немцев-то! – хотя, разумеется, самого себя не отыскал и не поймал. Зато потом, генералом уже, у того же короля прусского лучшую его крепость Кольберг после того, как три генерала под нею зубы сломали и не знали, как ноги унести, сразу из-под носа выхватил, будто из рук унес. Так если бы с эдаким хитрецом, баловнем судьбы с детства, капризником в квадрате, да таким капризником, который сердится, кажется, на то, что крепости не падают от одного его взгляда, а потом и на то, зачем они падают прежде, чем он все свои соображения атаки употребит, – если бы с таким капризником пришлось мне снова возиться, снова рассеивать его предубеждения против меня, заискивать его расположение, то, право, кажется, я бы с ума сошел. Он, право, жестче всякой турецкой пули, опаснее всякого делибаша… А я повозился-таки, покорившись необходимости. Притворился таким поклонником, что и сам себе поверил, что выше, умнее и славнее Петра Александровича Румянцева в мире человека нет – и вот добился. Он прямо за меня. Теперь еще ступень, последняя решительная ступень – добьюсь ли?.."
Потемкин задумался. Он знал, что его примут милостиво. Он жданный и нетерпеливо жданный гость. Ему будут рады, засыплют наградами. Но что все это значит? Как это все ничтожно, как далеко от его желаний, от его мечты! Ну, генерал-поручик, александровский кавалер, да хоть бы и генерал-аншеф, не все ли равно? Удовлетворит ли это его честолюбие, его замыслы? Нисколько. Ну, дадут деревню в пятьсот, ну тысячу, ну полторы тысячи душ – ужасно нужно!
"Я все-таки буду так же беден, как и теперь. Дали же мне деревню. Вот после "Петербургского действа", в 300 душ, но от того нисколько не менее я стал нуждаться. Ну денег дадут, я их проживу – и только! Вот быть первым человеком, иметь власть, по своему произволу карать и миловать; иметь силу, хоть бы такую, что если бы я захотел, то мог бы нашего капризника, ханжу и фокусника, генерал-фельдмаршала, со всею его хитростью и пронырством в дугу согнуть, в тартарары упрятать – другое дело! Это было бы уже что-нибудь! Это было бы уже не генерал-поручик, не генерал-аншеф, а было бы нечто, было бы кое-что! А то спрячусь в монастырь, убегу в скит, на Афонскую гору, и буду там просфоры печь да каноны распевать. Не то в воду брошусь. А ничтожеством не хочу быть. Не хочу – и только!.. Да и почему мне не быть человеком? – вдруг спросил себя Потемкин. – Почему не быть в случае, в милости, в фаворе? Чем я хуже других, хоть бы этого пресловутого Гришки Орлова? Я и сам Григорий, и уж, разумеется, от того не хуже, что Александрович, а не Григорьевич. Учился я лучше его, больше его и, во всяком случае, знаю больше, чем он, потому что он, сколько мне известно, ровно ничего не знает, хотя и попал в бомбардирскую роту и по артиллерии сдавал экзамен. Ну да что экзамен, когда есть деньги и протекция. А у него и деньги, и протекция были. Она, кто что бы не говорил, а была в это время великая княгиня и могла поддержать. В позапрошлом году он отличился, показал свои знания. На экзамене юнкеров, говорят, осрамился так, что, кажется, я после того на свет бы Божий не захотел глядеть: а ему ничего, вот на-поди! Преосвященный Платон спросил у юнкера: "Кто написал Евангелие?" Юнкер замялся. А велемудрый Гришка, сиятельный граф, теперь уже римский князь, фельдцейх-мейстер, конференц-коллегии вице-председатель, и то потому только, что председателем сама государыня, сеанс-комитета артиллерии президент, захотел свое знание показать, ученостью и красноречием блеснуть, обратился к юнкеру с укором да и говорит: "Не стыдно ли этого не знать? Вы христианин, святое Евангелие должно быть вашею настольною книгою. Разумеется, Иисус Христос!.." Это "разумеется", говорят, было так хорошо, так эффектно, что преосвященнейший так и осел, не знал, что и сказать… Ну, да Бог с ним! Теперь его нет. Место не занято. В сердце вакансия, и эту вакансию не Васильчикову занять, не Васильчикову наполнять. Это заметил даже наш хитрец-фельдмаршал, высказав прямо: "Не его ума это дело, нужно человека повыдержаннее, поразумнее". И нужно сказать правду, хитрец наш фельдмаршал; капризник, но хитрец такой, что и не выдумаешь. Сперва меня не замечал, слова не хотел сказать. Чего? С рекогносцировки турецкие пушки привезешь, чего бы кажется, и тут молчит, будто так и следовало, будто всегда привозят. Не похвалит ни за что. Перед его глазами чуть не один на янычар лезешь, он и тут не видит. Потом вдруг стал я его нещечко любимое, его ученик достойный, рука правая и все такое, даже Петра Михайловича Голицына забыл. А в чем дело? В том, что хитрец за три тысячи верст увидел, что Васильчикову не устоять, что его песенка уже спета, что нужен другой, а этим другим, он понимает, никого способнее меня быть не может; способнее меня для такого случая он никого не найдет. И, разумеется, не найдет; пусть кто что хочет говорит, а Гришке Орлову я ни в чем не уступлю, это верно!"
Течение мыслей Потемкина опять прервалось его воспоминаниями. Он помнит, как она поразила его в первую минуту, когда он только что ее увидел. Он был тогда еще совершенный мальчик и только что поступил в лейб-регимент, из которого сформировалась потом конная гвардия. Она была еще великою княгинею и проходила вдоль фронта одного из эскадронов их полка, выстроенного по-пешему в одной из зал дворца по случаю какого-то торжества. Она милостиво кланялась солдатам и отмахивалась ручкою на честь, отдаваемую офицерами. Ему сказали: "Вот будущая государыня". Он взглянул – и замлел на месте. Его поразила не красота ее, да она и не была красавицею; не величественность, да она и не была величественна в том смысле, как это говорили об Анне и о красавице Елизавете; у нее не было ни их высокого роста, ни их стройности и производящего впечатления взгляда; но его поразила ее какая-то особая, спокойная ровность выражения, какая-то чрезвычайно приятная мягкость, сквозь которую, однако ж, светилась энергия и сила, какими, нет сомнения, никогда не обладали ни Анна, ни Елизавета. Вот идет ей навстречу человек, ей неприятный, адъютант ее, супруга, великого князя, Гудович. Она отвернулась и на щечках ее выступил румянец, нижняя губка дрогнула, а из глаз решительно сверкнула молния. Но все это было одно мгновение. Гудович прошел и опять необыкновенная мягкость, сердечная доброта и задушевность засияли в ее глазах, засветились в ее нежной улыбке, обозначились в ее движении.
"Вот это женщина! – подумал он. – Она сумеет заставить целый мир забыть для себя".
И точно, Потемкин помнит, что он тогда засмотрелся на нее, забыл и фронт, и дисциплину, и самого себя, и, вероятно, сделал бы что-нибудь несоответственное, если бы не толчок капрала, стоящего в замке, приказывавшего держать равнение. Он слишком высунулся вперед. Между тем она прошла, разумеется, восторженного юнкера, не видала.
С этой минуты Потемкин часто думал об Екатерине и старался видеть ее, где мог. Но это нисколько не вызвало к нему ее внимания. Да и чем мог обратить на себя внимание великой княгини, супруги наследника престола мальчик-юнкер, невзрачный и еще не развившийся физически? Она не только не имела случая его заметить, но даже и не слыхала о нем.
Но вот из наследницы престола она стала императрицею; от того, однако ж, ее положение не улучшилось. Все знали, что император относится к ней весьма дурно. Все ее сожалели, принимали её сторону – она так умела себя держать. Говорили, что она в опасности, что не сегодня-завтра ее запрут в монастырь. Эти слухи вызывали к ней общее сочувствие, которое, разумеется, охватило собою и восторженного юношу, и он, сам не понимая, что делает, стал одним из самых ревностнейших ее партизанов; сблизился с Орловым, Пассеком, Хитрово, Рослав-левыми, одним словом, стал в число наиболее деятельных участников в затеях и действах братьев Орловых, хотя все же не имел даже случая быть ей представленным. Что делать! Он довольствовался тем, что ей известно его имя, как одного из преданнейших ее защитников.
Вспоминает он эту замечательную и страшную ночь. Его перед тем только что произвели в портупей-юнкера.
Она решилась идти против своего мужа-императора, испуганная известием, что распоряжение об ее арестовании уже сделано и немедленно, после именинных торжеств, будет приведено в исполнение. Вся почти гвардия собралась на площади против нового Зимнего дворца. Конная гвардия на конях стояла у Брюсова дома, фронтом ко дворцу. Вот, видит он, к подъезду дворца подводят верховую лошадь, оседланную по-дамски. Двери отворились: с лестницы сходит государыня, за нею три брата Орловы: Григорий идет почти рядом с нею. А за ними – Неплюев, Панин, графы Скавронский и Шереметев, сенаторы, обер-полицмейстер Корф, фельдцейхмейстер Вильбоа, хотя Вильбоа был один из преданнейших императору лиц, и себе бы не поверил, если бы ему сказали, что он сделает то, что в ту минуту делал, просто растерявшись перед ее властным словом. На государыне, сверх ее платья, был надет мундир Преображенского полка, к которому конная гвардия тогда причислялась, и мундир старый, любимый полком, петровской формы, а не прусского образца. Она садится на лошадь, опираясь на руку Григория Орлова, и выезжает к войску. Орлов идет подле ее стремени, а другой брат его, Алексей – с другой стороны. Все другие остались на подъезде. Войско, увидев государыню, гаркнуло "ура!". Государыня кланяется. Позади ее, неизвестно откуда, явилась другая амазонка, но на ту Потемкин не смотрел. Он впился взглядом в государыню. Она выехала вперед, подъехала к конной гвардии, здоровается. Орловы подле. Конная гвардия отвечает, и опять "ура!". Государыня пожелала обнажить привешенную у нее сбоку шпагу, но смотрит – нет темляка.








